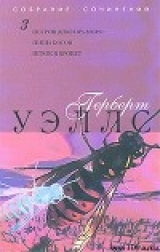
Текст книги "Пища богов"
Автор книги: Герберт Джордж Уэллс
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 15 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Герберт Уэллс
ПИЩА БОГОВ
Часть первая
«Рождение Пищи»
1. Открытие пищи
В середине девятнадцатого века в нашем странном мире стало невиданно расти и множиться число людей той особой категории, по большей части немолодых, которых называют учеными – и очень правильно называют, хоть им это совсем не нравится. Настолько не нравится, что со страниц «Природы» – органа, который с самого начала служит им вечным и неизменным рупором, – слово это тщательно изгоняют как некую непристойность. Но госпожа публика и ее пресса другого мнения, она-то их именует только так, а не иначе, и если кто-либо из них привлечет к себе хоть капельку внимания, мы величаем его «выдающийся ученый», «маститый ученый», «прославленный ученый», а то и еще пышнее.
Безусловно, и мистер Бенсингтон и профессор Редвуд вполне заслужили все эти титулы задолго до своего поразительного открытия, о котором расскажет эта книга. Мистер Бенсингтон был членом Королевского общества, а в прошлом также и президентом Химического общества, профессор же Редвуд читал курс физиологии на Бонд-стрит, в колледже Лондонского университета, и не раз подвергался яростным нападкам антививисекционистов. Оба с юных лет всецело посвятили себя науке.
Разумеется, как и все истинные ученые, с виду оба они были ничем не примечательны. В осанке и манерах любого самого скромного актера куда больше достоинства, чем у всех членов Королевского общества, вместе взятых. Мистер Бенсингтон был невысок, сутуловат и чрезвычайно лыс, носил очки в золотой оправе и суконные башмаки, разрезанные во многих местах из-за бесчисленных мозолей. Наружность профессора Редвуда также была самая заурядная. Пока им не довелось открыть Пищу богов (на этом названии я вынужден настаивать), их жизнь протекала в достойных и безвестных ученых занятиях, и рассказать о ней читателю решительно нечего.
Мистер Бенсингтон завоевал рыцарские шпоры (если можно сказать так о джентльмене, обутом в суконные башмаки с разрезами) своими блестящими исследованиями по части наиболее ядовитых алкалоидов, а профессор Редвуд обессмертил себя… право, не помню, чем именно. Знаю только, что чем-то он себя обессмертил. А слава обычно чем дальше, тем громче. Кажется, славу ему принес обширный труд о мышечных рефлексах, оснащенный множеством таблиц, сфигмографических кривых (если я путаю, пусть меня поправят) и новой превосходной терминологией.
Широкая публика имела об этих джентльменах довольно смутное представление. Изредка в Королевском обществе, в Обществе содействия ремеслам и тому подобных учреждениях ей представлялся случай поглядеть на мистера Бенсингтона или по крайней мере на его румяную лысину, краешек воротничка или сюртука и послушать обрывки лекции или статьи, которую, как ему казалось, он читал вполне внятно; помню, однажды, целую вечность тому назад, когда Британская ассоциация заседала в Дувре, я забрел в какую-то из ее секций – то ли В, то ли С; – расположившуюся в трактире; из чистого любопытства я вслед за двумя серьезными дамами с бумажными свертками под мышкой прошел в дверь с надписью «Бильярдная» и очутился в совершенно неприличной темноте, разрываемой лишь лучом волшебного фонаря, при помощи которого Редвуд показывал свои таблицы.
Я смотрел диапозитив за диапозитивом и слушал голос, принадлежавший по всей вероятности профессору Редвуду – уж не помню, о чем он говорил; кроме того, в темноте слышалось жужжание волшебного фонаря и еще какие-то странные звуки – я никак не мог понять, что это такое, и любопытство не давало мне уйти. А потом неожиданно вспыхнул свет, и тут я понял, что непонятные звуки исходили от жующих ртов, ибо члены научного общества собрались здесь, у волшебного фонаря, чтобы под покровом тьмы жевать сдобные булочки, сандвичи и прочую снедь.
Помню, все время, пока горел свет, Редвуд продолжал что-то говорить и тыкать указкой в то место на экране, где полагалось быть таблице и где мы вновь ее увидели, когда наконец опять стало темно. Помню, он показался мне тогда самой заурядной личностью: смуглая кожа, немного беспокойные движения, вид такой, словно он поглощен какими-то своими мыслями, а доклад сейчас читает просто из чувства долга.
Слышал я однажды в те давно прошедшие времена и Бенсингтона; было это в Блумсбери на конференции учителей. Как большинство выдающихся химиков и ботаников, мистер Бенсингтон весьма авторитетно высказывался по вопросам преподавания, хотя я уверен, что самый обыкновенный класс любой закрытой школы в первые же полчаса запугал бы его до полусмерти; насколько помню, он предлагал усовершенствовать эвристический метод профессора Армстронга, посредством коего, пользуясь приборами и инструментами ценою в триста, а то и четыреста фунтов, совершенно забросив все прочие науки, при безраздельном внимании и помощи на редкость одаренного преподавателя, средний ученик за десять – двенадцать лет более или менее основательно усвоил бы почти столько же знаний по химии, сколько можно было почерпнуть из очень распространенных в ту пору достойных презрения учебников, которым красная цена – шиллинг.
Как видите, во всем, что не касается науки, и Редвуд и Бенсингтон были людьми самыми заурядными. Вот только, пожалуй, сверх меры непрактичными. Но ведь таковы все ученые на свете. Тем, что в них есть подлинно великого, они лишь колют глаза ученым собратьям, для широкой публики оно остается книгой за семью печатями; зато слабости их замечает каждый.
Слабости ученых бесспорны, как ничьи другие, не заметить их невозможно. Живут эти люди замкнуто, в своем узком мирке; научные изыскания требуют от них крайней сосредоточенности и чуть ли не монашеского уединения, а больше их почти ни на что не хватает. Поглядишь, как иной седеющий неуклюжий чудак, маленький человечек, совершивший великие открытия и курам на смех украшенный широченной орденской лентой, робея и важничая, принимает поздравления своих собратьев; почитаешь в «Природе» сетования по поводу «пренебрежения к науке», когда какого-нибудь члена Королевского общества в день юбилея обойдут наградой; послушаешь, как иной неутомимый исследователь мхов и лишайников разбирает по косточкам солидный труд своего столь же неутомимого коллеги, – и поневоле поймешь, до чего мелки и ничтожны люди.
А между тем двое скромных маленьких ученых создали и продолжают создавать нечто изумительное, необычайное, что сулит человечеству в грядущем невообразимое величие и мощь! Они как будто и сами не знают цены тому, что делают.
Давным-давно, когда мистер Бенсингтон, выбирая профессию, решил посвятить свою жизнь алкалоидам и тому подобным веществам, наверно, и перед его внутренним взором мелькнуло видение и его хоть на миг озарило. Ведь если бы не предчувствие, не надежда на славу и положение, каких удостаиваются одни лишь ученые, едва ли хоть кто-нибудь с юности посвятил бы всю свою жизнь подобной работе. Нет, их, конечно, озарило предчувствие славы – и видение это, наверно, оказалось столь ярким, что ослепило их. Блеск ослепил их, на их счастье, чтоб до конца жизни они могли спокойно держать светоч знаний для нас!
Быть может, кое-какие странности Редвуда, который был как бы не от мира сего, объясняются тем, что он (в этом теперь уже нет сомнений) несколько отличался от своих собратьев, он был иным, потому что перед глазами его еще не угасло то давнее ослепительное видение.
«Пища богов» – так называю я субстанцию, которую создали мистер Бенсингтон и профессор Редвуд; и, принимая во внимание плоды, которые она уже принесла и, безусловно, принесет в будущем, название это вполне заслуженно. А потому я и впредь буду так ее называть. Но мистер Бенсингтон в здравом уме и твердой памяти не способен был на столь громкие слова – это было бы все равно, что выйти из дома на Слоун-стрит облаченным в царственный пурпур и с лавровым венком на челе. Слова эти вырвались у него в первую минуту просто от изумления. Он назвал свое детище Пищей богов, обуреваемый восторгом, и длилось это не более часа. А потом он решил, что ведет себя нелепо. Вначале, думая об их общем открытии, он словно воочию увидел необъятные возможности, поистине необъятные, зрелище это изумило и ослепило его, но, как подобает добросовестному ученому, он тотчас зажмурился, чтобы не видеть. После этого название «Пища богов» уже казалось ему крикливым, почти неприличным. Он сам себе удивлялся: как это у него сорвалось с языка подобное выражение!
И, однако, это мимолетное прозрение не прошло бесследно, а вновь и вновь напоминало о себе.
– Право же, – говорил он, потирая руки и нервически посмеиваясь, – это представляет не только теоретический интерес. К примеру, – он доверительно наклонился к профессору Редвуду и понизил голос, – если умело за это взяться, вероятно, ее можно будет даже продавать… продавать именно как продукт питания, – продолжал он, отходя в другой конец комнаты. – Или по крайней мере как элемент питания. При условии, разумеется, что она будет съедобна. А этого мы не знаем, пока не изготовили ее.
Бенсингтон вернулся к камину и остановился на коврике, старательно разглядывая аккуратные разрезы на своих суконных башмаках.
– Как ее назвать? – переспросил он и поднял голову. – Я лично предпочел бы что-нибудь классическое, со значением. Это… это больше подходит научному открытию. Придает, знаете, такое старомодное достоинство. И мне подумалось… Не знаю, может быть, вам это покажется смешно и нелепо… Но ведь иной раз и пофантазировать не грех… Не назвать ли ее Гераклеофорбия? Пища будущих геркулесов? Быть может, и в самом деле… Конечно, если, по-вашему, это не так…
Редвуд задумчиво глядел в огонь и молчал.
– По-вашему, такое название годится?
Редвуд важно кивнул.
– Можно еще назвать Титанофорбия. Пища титанов… Как вам больше нравится?
– А вы уверены, что это не чересчур…
– Уверен.
– Ну вот и прекрасно.
Итак, во время дальнейших исследований они называли свое открытие Гераклеофорбией, так оно именовалось и в их докладе – в докладе, который не был опубликован из-за непредвиденных событий, перевернувших все их планы. Были изготовлены три варианта пищи, и только на четвертый раз удалось создать в точности то, что предсказывали теоретические расчеты; соответственно Бенсингтон и Редвуд говорили о Гераклеофорбии номер один, номер два и номер три. А Пищей богов я буду называть в этой книге Гераклеофорбию номер четыре, ибо решительно настаиваю на том названии, которое сначала дал ей Бенсингтон.
Идея Пищи принадлежала мистеру Бенсингтону. Но подсказала ему эту идею одна из статей профессора Редвуда в «Философских трудах», а потому, прежде чем развивать ее дальше, он посоветовался с автором статьи – и правильно сделал. Притом предстоящие исследования относились не только к химии, но в такой же степени и к физиологии.
Профессор Редвуд принадлежал к числу тех ученых мужей, что жить не могут без кривых и диаграмм. Если вы – читатель того сорта, какой мне по душе, вам, конечно, знакомы научные статьи того сорта, о которых я говорю. Когда их читаешь, ничего понять нельзя, а в конце приложены штук шесть огромных диаграмм; развернешь их – и перед тобою какие-то удивительные зигзаги невиданных молний или непостижимые извивы так называемых «кривых», вырастающих из абсцисс и стремящихся к ординатам, и прочее в том же роде. Подолгу ломаешь себе голову, тщетно пытаясь понять, что же все это означает, а потом начинаешь подозревать, что этого не понимает и сам автор. Но в действительности многие ученые прекрасно понимают смысл своих писаний, да только не умеют выразить свои мысли языком, понятным и для нас, простых смертных.
Мне кажется, профессор Редвуд мыслил именно диаграммами и кривыми. Закончив монументальный труд о мышечных рефлексах (пусть читатель, далекий от науки, потерпит еще немного – и все станет ясно как день), Редвуд принялся выводить кривые и сфигмограммы, относящиеся к росту, и как раз одна из его статей о росте натолкнула мистера Бенсингтона на новую идею.
Редвуд измерял все, что растет: котят, щенят, подсолнухи, грибы, фасоль, и горох, и (пока жена не воспротивилась) собственного сынишку, – и доказал, что рост совершается не равномерно и непрерывно, а скачками.
Ничто не растет постоянно и равномерно, и, насколько он мог установить, постоянный и равномерный рост вообще невозможен: по-видимому, для того, чтобы расти, все живое должно сперва накопить силы; потом оно растет буйно, но недолго, а затем снова наступает перерыв. Туманным, пересыпанным специальными терминами, поистине «научным» языком Редвуд осторожно высказывался в том смысле, что для роста, вероятно, требуется довольно много некоего вещества в крови, а образуется оно очень медленно – и, когда запас его в процессе роста истощается, организм вынужден ждать, чтобы он возобновился. Редвуд сравнил это неизвестное вещество со смазкой в машине. Растущее животное, по его словам, подобно локомотиву, который, пройдя некоторое расстояние, уже не может двигаться дальше без смазки. («Но почему бы не смазать машину извне?» – заметил, прочитав это рассуждение, мистер Бенсингтон.) Весьма вероятно, прибавлял Редвуд с восхитительной непоследовательностью, свойственной всем его беспокойным собратьям, что все это поможет нам пролить свет на не разгаданное доныне значение некоторых желез внутренней секреции. А при чем тут, спрашивается, эти железы?
В следующем своем докладе Редвуд пошел еще дальше. Он устроил целую огромную выставку диаграмм, сильно смахивающих на траекторию летящей ракеты; смысл их – если таковой существовал – сводился к тому, что кровь щенят и котят (а также сок грибов и растений) в так называемые «периоды интенсивного роста» и в периоды роста замедленного различны по своему составу.
Повертев диаграммы и так, и сяк, и даже вверх ногами, мистер Бенсингтон углядел наконец, в чем заключается эта разница, и изумился. Оказалось, понимаете ли, что разница эта, по всей вероятности, обусловлена присутствием того самого вещества, которое он в последнее время пытался выделить, исследуя алкалоиды, особенно благотворно воздействующие на нервную систему. Тут мистер Бенсингтон положил брошюру Редвуда на пюпитр, пристроенный самым неудобным образом к его креслу, снял очки в золотой оправе, подышал на стекла и старательно их протер.
– Вот так штука! – сказал он.
Потом вновь надел очки и повернулся к пюпитру, но едва коснулся его локтем, как тот кокетливо взвизгнул, наклонился – и брошюра со всеми диаграммами полетела на пол.
– Вот так штука! – повторил мистер Бенсингтон, с усилием перегнулся через ручку кресла (он уже привык терпеливо сносить капризы этого новомодного приспособления), убедился, что до рассыпанных диаграмм ему все равно не дотянуться, – и, опустившись на четвереньки, принялся их подбирать. Вот тут-то, на полу, его и осенила мысль назвать свое детище Пищей богов…
Ведь если и он и Редвуд правы, то, впрыскивая или подбавляя в пищу открытое им вещество, можно покончить с перерывами и передышками, и вместо того, чтобы совершаться скачками, процесс роста (надеюсь, вы улавливаете мою мысль) пойдет непрерывно.
В ночь после разговора с Редвудом мистер Бенсингтон никак не мог уснуть. Лишь раз он ненадолго задремал, и тут ему привиделось, будто он выкопал в земле глубокую яму и тонну за тонной сыплет туда Пищу богов – и шар земной разбухает, раздувается, границы государств лопаются, и все члены Королевского географического общества, точно труженики огромной портновской мастерской, поспешно распарывают экватор…
Сон, конечно, нелепый, но он куда яснее, чем все слова и поступки мистера Бенсингтона в трезвые часы бодрствования, показывает, сколь взволнован был сей джентльмен и какое значение придавал он своему открытию. Иначе я не стал бы об этом упоминать, ведь, как правило, чужие сны никого не интересуют.
По странному совпадению в ту ночь Редвуду тоже приснился сон. Ему привиделась диаграмма, начертанная огнем на бесконечном свитке вселенских просторов. А он, Редвуд, стоит на некоей планете перед каким-то черным помостом и читает лекцию о новых, открывающихся ныне возможностях роста, и слушает его Сверхкоролевское общество изначальных сил – тех самых, под воздействием которых до сих пор рост всего сущего (вплоть до народов, империй, небесных тел и планетных систем) шел неровными скачками, а в иных случаях даже и с регрессом.
И он, Редвуд, наглядно и убедительно объясняет им, что эти медлительные способы роста, подчас приводящие даже к спаду и угасанию, очень скоро выйдут из моды по милости его открытия.
Сон, конечно, нелепый! Но и он также показывает…
Я вовсе не хочу сказать, будто эти сны следует считать в какой-либо мере пророческими, или приписывать им какое-то значение, помимо того, о котором я уже упомянул и на котором решительно настаиваю.
2. Опытная ферма
Сначала мистер Бенсингтон предложил, как только удастся изготовить первую порцию Пищи, испробовать ее на головастиках. Научные опыты всегда проделываются над головастиками, ведь головастики для того и существуют на свете. Уговорились, что опыты будет проводить именно Бенсингтон, так как лабораторию Редвуда загромождали в то время баллистический аппарат и подопытные телята, на которых Редвуд изучал частоту бодательных движений теленка и ее суточные колебания; результаты исследований выражались в самых фантастических и неожиданных кривых; пока не закончился этот опыт, присутствие в лаборатории хрупких стеклянных сосудов с головастиками было бы крайне нежелательно.
Но когда мистер Бенсингтон частично посвятил в свои планы кузину Джейн, она тотчас наложила на них вето, заявив, что не позволит плодить в доме головастиков и прочую подопытную тварь. Она не против, пусть он в дальней каморке занимается своей химией (хоть это – занятие пустое и никчемное), лишь бы там ничего не взрывалось; она даже позволила ему поставить там газовую печь, раковину и герметически закрывающийся шкаф – убежище от бурь еженедельной уборки, которую она отменять не собиралась. Пусть уж он старается отличиться в своих ученых делах, ведь есть на свете грехи куда более тяжкие: к примеру, мало ли мужчин, одержимых страстью к выпивке! Но чтобы он развел тут всякую ползучую живность или резал ее и портил воздух – нет, этого она не допустит. Это вредно для здоровья, а он, как известно, здоровьем слаб, и пускай не спорит, она эти глупости и слушать не станет. Бенсингтон пытался объяснить ей, сколь огромно его открытие и какую пользу оно может принести, но безуспешно. Все это прекрасно, отвечала кузина Джейн, но нечего устраивать в доме грязь и беспорядок – ведь без этого не обойдется, а тогда он сам же первый будет недоволен.
Позабыв о своих мозолях, мистер Бенсингтон шагал из угла в угол и решительно, даже гневно внушал кузине Джейн, что она неправа, но все было напрасно. Ничто не должно становиться на пути Науки, говорил он, а кузина Джейн отвечала, что наука наукой, а головастикам в доме не место. В Германии, говорил он, человеку, сделавшему такое открытие, тотчас предоставили бы просторную, на двадцать тысяч кубических футов, идеально оборудованную лабораторию. А она отвечала: «Я, слава тебе господи, не немка». Эти опыты принесут ему неувядаемую славу, говорил он, а она отвечала, что если их и без того тесная квартирка будет полна головастиков, так он последнее свое здоровье погубит. «В конце концов я хозяин в своем доме», – заявил Бенсингтон, а она отвечала, что лучше пойдет экономкой в какой-нибудь школьный пансионат, но с головастиками нянчиться не станет; потом он попробовал воззвать к благоразумию кузины, а она попросила его самого быть благоразумным и отказаться от дурацкой затеи с головастиками; должна же она уважать его идеи, сказал Бенсингтон, но она возразила, что не станет уважать идеи, от которых пойдет вонь по всему дому; тут Бенсингтон не стерпел и (наперекор известным высказываниям Хаксли по этому поводу) выбранился. Не то чтобы уж очень грубо, но все же выбранился.
Разумеется, кузина Джейн была чрезвычайно оскорблена, и ему пришлось извиняться, и всякая надежда испробовать открытие на головастиках – по крайней мере у себя дома – развеялась как дым.
Итак, надо было искать другой выход, ведь как только удастся изготовить Пищу, нужно будет кого-то ею кормить, чтобы продемонстрировать ее действие. Несколько дней Бенсингтон раздумывал, не отдать ли головастиков на попечение какому-нибудь надежному человеку, а потом случайная заметка в газете навела его на мысль об опытной ферме.
И о цыплятах. С первой же минуты он решил разводить на ферме цыплят. Ему вдруг представились цыплята, вырастающие до сказочных размеров. Мысленно он уже видел курятники и загоны – огромные курятники и птичьи дворы, которые день ото дня становятся все больше. Цыплята так доступны, их куда легче кормить и наблюдать, с ними легче управляться при измерениях и исследованиях, они сухие, не надо мочить руки… по сравнению с ними головастики – существа дикие и неподатливые, совсем не подходящие для его опытов! Непостижимо, как это он с самого начала не подумал о цыплятах! Помимо всего прочего, тогда не пришлось бы ссориться с кузиной Джейн. Он поделился своими соображениями с Редвудом, и тот вполне с ним согласился.
Очень неправильно поступают физиологи, проделывая свои опыты над слишком мелкими животными, сказал Редвуд. Это все равно, что ставить химические опыты с недостаточным количеством вещества: получается непомерно много ошибок, неточностей и просчетов. Сейчас ученым весьма важно отстоять свое право проводить опыты на крупном материале. Вот почему и он у себя в колледже ставит опыты на телятах, невзирая на то, что они порой ведут себя легкомысленно и при встрече в коридорах несколько стесняют студентов и преподавателей других предметов. Зато кривые получаются необычайно интересные, и, когда они будут опубликованы, все убедятся, что его выбор правилен. Нет, если бы не скудость средств, ассигнуемых в Англии на нужды науки, он, Редвуд, не стал бы размениваться на мелочи и пользовался бы для своих исследований одними китами. Но, к сожалению, в настоящее время, по крайней мере у нас в Англии, нет настолько крупных общественных вивариев, чтобы получить необходимый материал, это несбыточная мечта. Вот в Германии – другое дело… и так далее в том же духе.
Поскольку телята требовали от Редвуда неусыпного внимания, заботы о выборе и устройстве опытной фермы легли на Бенсингтона. Условились, что и все расходы он возьмет на себя – по крайней мере до тех пор, пока не удастся получить государственную субсидию. И вот, урывая время от трудов в своей домашней лаборатории, он разъезжает по южным пригородам Лондона в поисках подходящей фермы, и его внимательные глаза за стеклами очков, простодушная лысина и изрезанные башмаки пробуждают напрасные надежды в многочисленных владельцах дрянных и запущенных ферм. Кроме того, он поместил в «Природе» и нескольких ежедневных газетах объявление о том, что требуется достойная доверия супружеская чета, добросовестная и энергичная, для управления опытной фермой размером в три акра.
Место, показавшееся ему подходящим, нашлось в Хиклибрау (графство Кент), неподалеку от Аршота. Это был странный глухой уголок в лощине, которую со всех сторон обступали старые сосны, мрачные и неприветливые в вечерних сумерках. Горбатый холм отгораживал лощину с запада, заслоняя солнечный свет; жилой домишко казался еще меньше оттого, что рядом торчал несуразный колодец под покосившимся навесом. Домишко был гол, не принаряжен хотя бы веточкой плюща или жимолости; половина окон выбита; в сарае средь бела дня было темно, хоть глаз выколи. Стояла ферма на отшибе, в полутора милях от деревни Хиклибрау, и тишину здесь нарушало разве только многоголосое эхо, но от этого лишь острее чувствовалось запустение и одиночество.
Бенсингтон вообразил, что все это необыкновенно легко и удобно приспособить для научных изысканий. Он обошел участок, взмахами руки намечая, где именно разместятся курятники и где загоны, а кухня, по его мнению, почти без переделки могла вместить достаточно инкубаторов и брудеров. И он тут же купил участок; на обратном пути он заехал в Дантон Грин, договорился с подходящей четой, отозвавшейся на его объявление, и в тот же вечер ему удалось изготовить такую порцию Гераклеофорбии, что она вполне оправдывала все его решительные действия.
Подходящая чета, которой суждено было под руководством мистера Бенсингтона впервые на Земле кормить алчущих Пищей богов, оказалась не только весьма пожилой, но и на редкость неряшливой. Этого последнего обстоятельства мистер Бенсингтон не заметил, ибо ничто не сказывается так пагубно на житейской наблюдательности, как жизнь, посвященная научным опытам. Фамилия избранной четы была Скилетт; Бенсингтон посетил мистера и миссис Скилетт в их тесной комнатушке, где окна были закупорены наглухо, над камином висело пятнистое зеркало, а на подоконниках торчали горшки с чахлой кальцеолярией.
Миссис Скилетт оказалась крохотной высохшей старушенцией; чепца она не носила, седые, давным-давно не мытые волосы скручивала узелком на затылке; самой выдающейся частью ее лица всегда был нос, теперь же, когда зубы у нее выпали, рот ввалился, а щеки увяли и сморщились, от всего лица только один нос и остался. На ней было темно-серое платье (если вообще можно определить цвет этого платья), на котором выделялась заплата из красной фланели. Миссис Скилетт впустила гостя в дом и сказала, что мистер Скилетт сейчас выйдет, только приведет себя в порядок; на вопросы она отвечала односложно, опасливо косясь на Бенсингтона маленькими глазками из-за огромного носа. Единственный уцелевший зуб не слишком способствовал внятности ее речей; она беспокойно сжимала на коленях длинные морщинистые руки. Она сказала мистеру Бенсингтону, что долгие годы ходила за домашней птицей и отлично разбирается в инкубаторах; у них с мужем одно время была даже своя ферма, только под конец им не повезло, потому что мало осталось молодняка. «Выгода-то вся от молодняка», – пояснила она.
Потом появился и мистер Скилетт; он сильно шамкал и косил так, что один его глаз устремлялся куда-то поверх головы собеседника; домашние туфли его были разрезаны во многих местах, что сразу вызвало сочувствие мистера Бенсингтона, а в одежде явно не хватало пуговиц. Рубаха и куртка разъезжались на груди, и мистер Скилетт придерживал их одной рукой, а указательным пальцем другой обводил золотые узоры на черной вышитой скатерти; глаз же, не занятый скатертью, печально и отрешенно следил за неким дамокловым мечом над головою мистера Бенсингтона.
– Штало быть, ферма вам нужна не для выгоды, шэр. Так, так, шэр. Это нам вше едино. Опыты. Понимаю, шэр.
Он сказал, что переехать они с женой могут немедленно. В Дантон Грине он ничем особенно не занят, так, портняжит помаленьку.
– Я-то думал, тут можно заработать, шэр, а это шамое наштоящее захолуштье. Так что, ежели вам угодно, мы шразу и переберемшя…
Через неделю мистер и миссис Скилетт уже расположились на новой ферме, и плотник, нанятый в Хиклибрау, мастерил курятники и разгораживал участки под загоны, а попутно перемывались косточки мистера Бенсингтона.
– Я покуда мало имел ш ним дела, – говорил мистер Скилетт, – а только, шдаетшя мне, он дурак набитый.
– А по-моему, просто у него не все дома, – возразил плотник.
– Воображает шебя куриным знатоком, – сказал мистер Скилетт. – Его пошлушать, так выходит, кроме него, никто в птице ничего не шмышлит.
– Он сам на курицу смахивает, – сказал плотник. – Как поглядит сбоку через очки – ну чистая курица.
Мистер Скилетт придвинулся поближе, печальным оком своим он уставился вдаль, на деревню Хиклибрау, а в другом глазу зажегся недобрый огонек.
– Велит каждый божий день их измерять, – таинственно шепнул он плотнику. – Каждый день измерять каждого цыпленка – где это шлыхано? Надо, говорит, шледить, как они раштут. Каждый божий день измерять – шлыхали вы такое?
Мистер Скилетт деликатно прикрыл рот ладонью и захохотал, так и согнулся в три погибели от смеха, только одно его скорбное око не участвовало в этом приступе веселья. Потом, не вполне уверенный, что плотник до конца понял, в чем тут соль, повторил свистящим шепотом:
– Из-ме-рять!
– Да, этот, видно, еще почуднее нашего прежнего хозяина, – сказал плотник из Хиклибрау. – Вот лопни мои глаза!
Научные опыты – самое скучное и утомительное занятие на свете (если не считать отчетов о них в «Философских трудах»), и мистеру Бенсингтону казалось, что прошла целая вечность, пока его первые мечты о грандиозных открывающихся возможностях сменились первыми крупицами осязаемых достижений. Опытную ферму он завел в октябре, но проблески успеха стали заметны только в мае. Сначала были испробованы Гераклеофорбия номер один, номер два и номер три – и все неудачно. На опытной ферме приходилось постоянно воевать с крысами, воевать приходилось и со Скилеттами. Был только один способ добиться, чтоб Скилетт делал то, что ему ведено: уволить его. Услыхав, что ему дают расчет, Скилетт тер ладонью небритый подбородок (странным образом, хоть он вечно был небрит, у него никак не отрастала настоящая борода) и, уставясь одним глазом на мистера Бенсингтона, а другим поверх его головы, изрекал:
– Шлушаю, шэр. Конечно, раз вы это шерьезно…
Но наконец забрезжил успех. Вестником его явилось письмо от Скилетта – листок, исписанный дрожащими кривыми буквами.
«Есть новый выводок, – писал Скилетт. – Что-то вид этих цыплят мне не нравится. Больно они долговязые, совсем не как прежние, которые были до ваших последних распоряжений. Те были ладные, упитанные, покуда их кошка не сожрала, а эти растут, что твой бурьян. Сроду таких не видал. И шибко клюются, достают выше башмаков, толком не дают измерять, как вы велели. Настоящие великаны и едят бог знает сколько. Никакого зерна не хватает, уж больно они прожорливые. Они уже покрупнее взрослых бентамов. Если дальше так пойдет, можно их и на выставку послать, хоть они и долговязые. Плимутроков в них не узнать. Вчера ночью я напугался, думал, на них напала кошка: поглядел в окно – и вот, лопни мои глаза, она нырнула к ним под проволоку. Выхожу, а цыплята все проснулись и что-то клюют да так жадно, а кошки никакой не видать. Подбросил им зерна и запер покрепче. Какие будут ваши распоряжения, надо ли корм давать прежним манером? Который вы тогда смешали, уже, почитай, весь вышел, а самому мне смешивать неохота, потому как тогда получилась неприятность с пудингом. Мы с женой желаем вам доброго здоровья и надеемся на вашу неизменную милость.
С уважением – Элфред Ньютон Скилетт».
В заключительных строках Скилетт намекал на происшествие с молочным пудингом, в который попало немного Гераклеофорбии номер два, что весьма болезненно отозвалось на Скилеттах и едва не привело к самым роковым последствиям.








