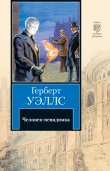Текст книги "Избранные научно-фантастические произведения в 3 томах. Том 2"
Автор книги: Герберт Джордж Уэллс
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 35 страниц)
19. НЕКОТОРЫЕ ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ
– Что случилось? – спросил Кемп, когда Невидимка впустил его в комнату.
– Да ничего, – ответил он.
– А шум почему?
– Припадок раздражительности, – сказал Невидимка. – Забыл про свою руку, а она болит.
– Вы, по-видимому, подвержены такого рода вспышкам?
– Да.
Кемп прошел через комнату и подобрал осколки разбитого стакана.
– Про вас теперь все известно, – сказал Кемп. – Все, что случилось в Айпинге и внизу, в кабачке. Мир узнал о своем невидимом гражданине. Но никто не знает, что вы тут.
Невидимка выругался.
– Тайна раскрыта, – продолжал Кемп. – Ведь это была тайна, я полагаю? Не знаю, что вы намерены делать, но, разумеется, я готов помочь вам.
Невидимка сел на кровать.
– Наверху сервирован завтрак, – сказал Кемп, стараясь говорить непринужденным тоном, и с удовольствием заметил, что его странный гость охотно встал при этих словах. Кемп повел его по узкой лестнице наверх.
– Прежде чем мы с вами что-либо предпримем, – сказал Кемп, – я хотел бы узнать поподробней, как это вы стали невидимым.
И, бросив быстрый, беспокойный взгляд в окно, Кемп уселся с видом человека, которому предстоит долгая и основательная беседа. У него снова промелькнула мысль, что все происходящее – нелепость, бред, но мысль эта сейчас же исчезла, как только он взглянул на Гриффина: безголовый, безрукий халат, сидел за столом и вытирал невидимые губы чудом державшейся в воздухе салфеткой.
– Это очень просто и вполне доступно, – сказал Гриффин, отложив в сторону салфетку и подперев невидимую голову невидимой рукой.
– Для вас, конечно, но… – Кемп засмеялся.
– Ну да, и мне это, конечно, сначала казалось волшебством, но теперь… Боже милостивый! Нам предстоят великие дела. Впервые эта идея возникла у меня в Чезилстоу.
– В Чезилстоу?
– Я переехал туда из Лондона. Вы знаете, я ведь бросил медицину и занялся физикой. Не знала? Ну так вот. Меня увлекла проблема света.
– А-а!…
– Оптическая непроницаемость! Весь этот вопрос – сплошная сеть загадок, сквозь нее лишь смутно просвечивает неуловимое решение. А мне тогда было всего двадцать два года, и я был энтузиаст, вот я и сказал себе: «Этому вопросу я посвящу свою жизнь. Тут есть над чем поработать». Вы ведь знаете, каким бываешь дураком в двадцать два года.
– Неизвестно, быть может, мы теперь еще глупее, – заметил Кемп.
– Как будто знание может удовлетворить человека! Но я принялся за дело и работал как каторжный. Прошло полгода усиленного труда и раздумий – и вот сквозь туманную завесу блеснул ослепительный свет. Я нашел общий закон пигментов и преломлений света – формулу, геометрическое выражение, включающее четыре измерения. Дураки, обыкновенные люди, даже обыкновенные математики и не подозревают, какое значение может иметь для изучающего молекулярную физику общее выражение. В книгах – в тех книгах, которые украл этот бродяга, – есть чудеса, магические числа! Но это не был еще метод, это была идея, которая могла навести на метод. А при помощи этого метода оказалось бы возможным, не изменяя свойств материи – за исключением цвета в некоторых случаях – свести коэффициент преломления некоторых веществ, твердых или жидких, к коэффициенту преломления воздуха.
Кемп присвистнул.
– Это любопытно. Но все же мне не совсем ясно… Я понимаю, что таким путем вы могли бы испортить драгоценный камень, но сделать человека невидимым, до этого еще далеко.
– Безусловно, – сказал Гриффин. – Однако подумайте: видимость зависит от того, как видимое тело реагирует на свет. Давайте уж я начну с азов, тогда вы лучше поймете дальнейшее. Вы прекрасно знаете, что тела либо поглощают свет, либо отражают, либо преломляют его, или, может быть, все вместе. Если тело не отражает, не преломляет и не поглощает света, то оно не может быть видимо само по себе. Так, например, вы видите непрозрачный красный ящик только потому, что он поглощает некоторую долю света и отражает остальное, а именно – все красные лучи. Если бы ящик не поглощал некоторой доли света, а отражал бы его весь, то он был бы блестящим, белым. Вспомните серебро! Алмазный ящик не поглощал бы много света, и вместе с тем его поверхность отражала бы мало света, но в отдельных местах, в зависимости от расположения плоскостей, свет отражался и преломлялся бы, и мы видели бы блестящую паутину сверкающих отражений и прозрачных плоскостей, нечто вроде светового скелета. Стеклянный ящик столь отчетливо видим, как алмазный, потому что в нем меньше плоскостей отражения и преломления. Понятно? Под известным углом зрения такой ящик будет прозрачным; некоторые сорта стекла более видимы, чем другие; хрустальный ящик блестел бы сильнее, чем ящик из обыкновенного окопного стекла. Ящик из очень тонкого обыкновенного стекла было бы очень трудно различить при плохом освещении, потому что он не поглощает почти никаких лучей и отражает и преломляет совсем мало света. Если вы положите кусок обыкновенного стекла в воду или, еще лучше, в какую-нибудь жидкость, более плотную, чем вода, то вы стекла почти совсем не увидите, потому что свет, переходя из воды в стекло, преломляется я отражается очень слабо и вообще не подвергается почти никакому воздействию. Стекло в таком случае столь же невидимо, как струи углекислоты или водорода в воздухе. И по той же причине.
– Да, – сказал Кемп, – все это ясно. В таких вещах теперь разбирается каждый школьник.
– А вот еще один факт, в котором разберется всякий школьник. Если разбить кусок стекла и мелко истолочь его, оно станет гораздо более заметным в воздухе и превратится в белый непрозрачный порошок. Это происходит потому, что превращение стекла в порошок увеличивает число плоскостей преломления и отражения. В стеклянной пластинке имеется всего две поверхности, в порошке же каждая крупинка представляет собой плоскость преломления и отражения света, и сквозь порошок света проходит очень мало. Но если белый стеклянный порошок высыпать в воду, то он почти совершенно исчезает. Стеклянный порошок и вода имеют почти одинаковый коэффициент преломления, и свет, переходя из одной среды в другую, почти не преломляется и не отражается. Вы делаете стекло невидимым, помещая его в-жидкость с приблизительно таким же коэффициентом преломления; всякая прозрачная вещь делается невидимой, если поместить ее в среду, обладающую одинаковым с ней коэффициентом преломления. И если вы чуточку подумаете, то поймете, что стеклянный порошок можно сделать невидимым и в воздухе, если только удастся довести коэффициент преломления света в нем до коэффициента преломления света в воздухе. Ибо в таком случае при переходе света из воздуха в порошок он не будет ни отражаться, ни преломляться.
– Все это так, – сказал Кемп. – Но ведь человек – не стеклянный порошок!
– Нет, – сказал Гриффин. – Он прозрачнее.
– Ерунда!
– И это говорит врач! Как легко все забывается! Неужели за десять лет вы успели перезабыть все, что знали из физики? А вы подумайте, сколько существует прозрачных веществ, которые вовсе не кажутся прозрачными. Бумага, например, состоит из прозрачных волокон, и если она представляется нам белой и непрозрачной, то это происходит по той же самой причине, по которой нам кажется белым и непрозрачным толченое стекло. Промаслите белую бумагу, заполните все поры между частицами бумаги маслом так, чтобы преломление и отражение света происходило только на поверхности, и бумага сделается такой же прозрачной, как стекло. И не только бумага, но и волокна хлопка, льна, шерсти, дерева, а также – заметьте это, Кемп! – и кости, мышцы, волосы, ногти и нервы. Одним словом, весь человеческий организм состоит из прозрачных бесцветных тканей, за исключением красных кровяных шариков и темного пигмента волос; вот как мало нужно, чтобы мы могли видеть друг друга. По большей части ткани живого существа не менее прозрачны, чем вода.
– Верно, верно, – воскликнул Кемп, – только сегодня ночью я думал о морских личинках и медузах!
– Вот-вот! Теперь вы меня поняли! И все это я знал и продумал уже через год после отъезда из Лондона, шесть лет назад. Но я ни с кем не поделился своими мыслями. Мне пришлось работать в очень тяжелых условиях. Оливер, мой профессор, был мужлан в пауке, человек, падкий до чужих идей, – он вечно за мной шпионил! Вы ведь знаете, какое жульничество царит в научном мире. Я не хотел публиковать свое открытие и делиться с ним славой. Я продолжал работать и все ближе подходил к превращению своей теоретической формулы в эксперимент, в реальный опыт. Я никому не сообщал о своих работах, хотел ослепить мир своим открытием и сразу стать знаменитым. Я занялся вопросом о пигментах, чтобы заполнить некоторые пробелы. И вдруг, по чистой случайности, сделал открытие в области физиологии.
– Да?
– Вам известно красное вещество, окрашивающее кровь. Так вот: оно может стать белым, бесцветным, сохраняя в то же время все свои свойства!
У Кемпа вырвался возглас изумления.
Невидимка встал и зашагал по тесному кабинету.
– Вы поражены, я понимаю. Помню ту ночь. Было очень поздно – днем мешали работать безграмотные студенты, смотревшие на меня, разинув рот, и я иной раз засиживался до утра. Открытие это осенило меня внезапно, оно появилось во всем своем блеске и завершенности. Я был один, в лаборатории царила тишина, вверху ярко горели лампы. В знаменательные минуты своей жизни я всегда оказываюсь один. «Можно сделать животное – его ткань – прозрачным! Можно сделать его невидимым! Все, кроме пигментов. Я могу стать невидимкой!» – сказал я, вдруг осознав, что значит быть альбиносом, обладая таким знанием. Я был ошеломлен. Я бросил фильтрование, которым был занят, и подошел к большому окну. «Я могу стать невидимкой», – повторил я, глядя в усеянное звездами небо.
Сделать это – значит превзойти магию и волшебство. И я, свободный от всяких сомнений, стал рисовать себе великолепную картину того, что может дать человеку невидимость: таинственность, могущество, свободу. Оборотной стороны медали я не видел. Подумайте только! Я, жалкий, нищий ассистент, обучающий дураков в провинциальном колледже, могу сделаться всемогущим. Скажите сами, Кемп, вот если бы вы… Всякий, поверьте, ухватился бы за такое открытие. Я работал еще три года, и за каждым препятствием, которое я с таким трудом преодолевал, возникало новое! Какая бездна мелочей, и к тому же ни минуты покоя! Этот провинциальный профессор вечно подглядывает за тобой! Зудит и зудит: «Когда же вы наконец опубликуете свою работу?» А студенты, а нужда! Три года такой жизни… Три года я работал скрываясь, в непрестанной тревоге и наконец понял, что закончить мой опыт невозможно… невозможно…
– Почему? – спросил Кемп.
– Деньги… – ответил Невидимка и стал глядеть в окно.
Вдруг он резко обернулся.
– Тогда я ограбил своего старика, ограбил родного отца… Деньги были чужие, и он застрелился.
20. В ДОМЕ НА ГРЕЙТ-ПОРТЛЕНД-СТРИТ
С минуту Кемп сидел молча, глядя в спину стоявшей у окна безголовой фигуры. Потом вздрогнул, пораженный какой-то мыслью, встал, взял Невидимку за руку и отвел от окна.
– Вы устали, – сказал он. – Я сижу, а вы все время ходите. Сядьте в мое кресло.
Сам он сел между Гриффином и ближайшим окном.
Гриффин опустился в кресло, помолчал немного, затем опять быстро заговорил:
– Когда это случилось, я уже расстался с колледжем в Чезилстоу. Это было в декабре прошлого года. Я снял комнату в Лондоне, большую комнату без мебели в огромном запущенном доме, в глухом квартале на Грейт-Портленд-стрит. Комната скоро заполнилась всевозможными аппаратами, которые я купил на отцовские деньги, и я продолжал работу, успешно подвигаясь к цели. Я был как человек, выбравшийся из густой чащи в неожиданно втянутый в какую-то нелепую трагедию. Я поехал на похороны отца. Я весь был поглощен своими опытами и палец о палец не ударил, чтобы спасти его репутацию. Помню похороны, дешевый гроб, убогую процессию, поднимавшуюся по склону холма, холодный, пронизывающий ветер… старый университетский товарищ отца совершил над ним последний обряд, – жалкий, черный, скрюченный старик, страдавший насморком.
Помню, я возвращался с кладбища в опустевший дом по местечку, которое некогда было деревней, а теперь, на скорую руку перестроенное и залатанное, стало безобразным подобием города. Все дороги, по какой ни пойди, вели на изрытые окрестные поля и обрывались среди груд щебня и густых сорняков. Помню, как я шагал по скользкому блестящему тротуару – мрачная черная фигура – и какое странное чувство отчужденности я испытывал в этом ханжеском, торгашеском городишке.
Смерть отца ничуть меня не огорчила. Он казался мне жертвой своей собственной глупой чувствительности. Всеобщее лицемерие требовало моего присутствия на похоронах, в действительности же это меня мало касалось.
Но, идя по главной улице, я припомнил на миг свое прошлое. Я увидел девушку, которую знал десять лет назад. Наши глаза встретились…
Сам не знаю, почему я вернулся и заговорил с ней. Она оказалась самым заурядным существом.
Все мое пребывание на старом пепелище было как сон. Я не чувствовал тогда, что я одинок, что я перешел из живого мира в пустыню. Я сознавал, что потерял интерес к окружающему, но приписывал это пустоте жизни вообще. Вернуться в свою комнату значило для меня вновь обрести подлинную действительность. Здесь было все то, что я знал и любил: аппараты, подготовленные опыты. Почти все препятствия были уже преодолены, оставалось лишь обдумать некоторые детали.
Когда-нибудь, Кемп, я опишу вам все эти сложнейшие процессы. Не станем сейчас входить в подробности. По «большей части, за исключением некоторых сведений, которые я предпочитаю хранить в памяти, все это записано шифром в тех книгах, которые утащил бродяга. Мы должны изловить его. Мы должны вернуть эти книги. Главная задача заключалась в том, чтобы поместись прозрачный предмет, коэффициент преломления которого требовалось понизить, между двумя светоизлучающими центрами эфирной вибрации, – о ней я расскажу вам после. Нет, это не рентгеновские лучи. Не знаю, описывал ли кто-нибудь те лучи, о которых я говорю. Но они существуют, это несомненно. Я пользовался двумя небольшими динамо-машинами, которые приводил в движение при помощи дешевого газового двигателя. Первый свой опыт я проделал над куском белой шерстяной материи. До чего же странно было видеть, как эта белая мягкая материя постепенно таяла, как струя пара, и затем совершенно исчезла!
Мне не верилось, что я это сделал. Я сунул руку в пустоту и нащупал материю, столь же плотную, как и раньше. Я нечаянно дернул ее, и она упала на пол. Я не сразу ее нашел.
А потом я проделал следующий опыт. Я услышал у себя за спиной мяуканье, обернулся и увидел на водосточной трубе за окном белую кошку, тощую и ужасно грязную. Меня словно осенило. «Все готово для тебя», – сказал я, подошел к окну, открыл его и ласково позвал кошку. Она вошла в комнату, мурлыча, – бедняга, она чуть не подыхала от голода, и я дал ей молока. Вся моя провизия хранилась в буфете, в углу. Вылакав молоко, кошка стала разгуливать по комнате, обнюхивая все углы, – очевидно, она решила, что здесь будет ее новый дом. Невидимая тряпка несколько встревожила ее – слышали бы вы, как она зафыркала! Я устроил ее очень удобно на своей складной кровати. Угостил маслом, чтобы она дала вымыть себя.
– И вы подвергли ее опыту?
– Да. Но напоить кошку снадобьями – это не шутка, Кемп! И опыт мой не совсем удался.
– Не совсем?
– По двум пунктам. Во-первых, когти, а во-вторых, пигмент – забыл его; название – на задней стенке глаза у кошек, помните?
– Tapetum.
– Вот именно, tapetum. Этот пигмент не исчезал. После того, как я ввел ей средство для обесцвечивания крови и проделал над ней разные другие процедуры, я дал ей опиума и вместе с подушкой, на которой она спала, поместил ее у аппарата. И потом, когда все обесцветилось и исчезло, остались два небольших пятна – ее глаза.
– Любопытно!
– Я не могу этого объяснить. Конечно, она была забинтована и связана, и я не боялся, что она убежит, но она проснулась, когда превращение еще не совсем закончилось, стала жалобно мяукать, и тут раздался стук в дверь. Стучала старуха, жившая внизу и подозревавшая меня в том, что я занимаюсь вивисекцией, – пьяница, у которой на свете ничего и никого не было, кроме этой кошки. Я поспешил прибегнуть к помощи хлороформа. Кошка замолчала, и я приоткрыл дверь. «Это у вас кошка мяукала? – спросила она. – Уж не моя ли?» – «Вы ошиблись, здесь нет никакой кошки», – ответил я очень любезно. Она не очень-то мне поверила и попыталась заглянуть в комнату. Должно быть, странной ей показалась моя комната: голые стены, окна без занавесей, складная кровать, газовый двигатель в действии, свечение аппарата и слабый дурманящий запах хлороформа. Удовлетворившись этим, она отправилась восвояси.
– Сколько времени нужно на это? – спросил Кемп.
– На опыт с кошкой ушло часа три-четыре. Последними исчезли кости, сухожилия и жир, а также кончики окрашенных волосков шерсти. Но, как я уже сказал, радужное вещество на задней стенке глаза не исчезло.
Когда я закончил опыт, уже наступила ночь; ничего не было видно, кроме туманных пятен на месте глаз и когтей. Я остановил двигатель, нащупал и погладил кошку, которая еще не очнулась, и, развязав ее, оставил спать на невидимой подушке, а сам, чувствуя смертельную усталость, лег в постель. Но уснуть я не мог. В голове проносились смутные, бессвязные мысли. Снова и снова перебирал я все подробности только что произведенного опыта или же забывался лихорадочным сном, и мне казалось, что все окружающее становится смутным, расплывается, и наконец сама земля исчезает у меня из-под ног, и я проваливаюсь, падаю куда-то, как бывает только в кошмаре… Около двух часов ночи кошка проснулась и стала бегать по комнате, жалобно мяукая. Я пытался успокоить ее ласковыми словами, а потом решил выгнать. Помню, как я был потрясен, когда зажег спичку, – я увидел два круглых светящихся глаза и вокруг них – ничего. Я хотел дать ей молока, но его не оказалось. А она все не успокаивалась, села у самых дверей и продолжала мяукать. Я старался поймать ее, чтобы выпустить из окна, но она не давалась в руки и все исчезала. То тут, то там в разных концах комнаты раздавалось ее мяуканье. Наконец я открыл окно и стал метаться по комнате. Вероятно, она испугалась и выскочила в окно. Больше я ее не видел и не слышал.
Потом, бог весть почему, я стал вспоминать похороны отца, холодный ветер, дувший на склоне холма… Так продолжалось до самого рассвета. Чувствуя, что мне не заснуть, я встал и, заперев за собой дверь, отправился бродить по тихим утренним улицам.
– Неужели вы думаете, что и сейчас по свету гуляет невидимая кошка? – спросил Кемп.
– Если только ее не убили, – ответил Невидимка. – А почему бы и нет?
– Почему бы и нет? – повторил Кемп и извинился: – Простите, что я прервал вас.
– Вероятно, ее убили, – сказал Невидимка. – Четыре дня спустя она была еще жива – это я знаю точно: она, очевидно, сидела под забором на Грейт-Тичфилд-стрит, там собралась толпа зевак, старавшихся понять, откуда слышится мяуканье.
С минуту он молчал, потом снова быстро заговорил:
– Я очень ясно помню это утро. Я, вероятно, прошел всю Грейт-Портленд-стрит. Помню казармы на Олбэни-стрит и выезжавших оттуда кавалеристов. В конце концов я очутился на вершине Примроз-Хилл; я чувствовал себя совсем больным. Был солнечный январский день; в тот год снег еще не выпал, и погода стояла ясная, морозная. Я устало размышлял, стараясь охватить положение, наметить план действий.
Я с удивлением убедился, что теперь, когда я почти достиг заветной цели, это совсем меня не радует. Я был слишком утомлен; от страшного напряжения почти четырехлетней непрерывной работы все мои чувства притупились. Мной овладела апатия, и я тщетно пытался вернуть горение первых дней работы, вернуть то страстное стремление к открытиям, которое дало мне силу хладнокровно погубить старика отца. Я потерял интерес ко всему. Но я понимал, что это – преходящее состояние, вызванное переутомлением и бессонницей, и что если не лекарства, так отдых вернет мне прежнюю энергию.
Ясно я сознавал только одно: дело необходимо довести до конца. Навязчивая идея все еще владела мной. И сделать это надо как можно скорей, ведь я уже истратил почти все деньги. Я оглянулся кругом, посмотрел на играющих детей и следивших за ними нянек и начал думать о тех фантастических преимуществах, которыми может пользоваться невидимый человек. Я вернулся домой, немного поел, принял большую дозу стрихнина и лег спать, не раздеваясь, на неубранной постели. Стрихнин, Кемп, – замечательное укрепляющее средство, он не дает человеку упасть духом.
– Дьявольская штука, – сказал Кемп. – Он превращает вас в этакого первобытного дикаря.
– Я проснулся, ощущая прилив сил, но и какое-то раздражение. Вам знакомо это состояние?
– Знакомо.
– Кто-то постучал в дверь. Это был домохозяин, пришедший с угрозами и расспросами, старый польский еврей в длинном сером сюртуке и стоптанных туфлях. Я ночью мучил кошку, уверял он, старуха, очевидно, успела уже все разболтать. Он требовал, чтобы я объяснил ему, в чем дело. Вивисекция строго запрещена законом, ответственность может пасть и на него. Я утверждал, что никакой кошки у меня не было. Тогда он заявил, что запах газа от двигателя чувствуется по всему дому. С этим я, конечно, согласился. Он все вертелся вокруг меня, стараясь прошмыгнуть в комнату, заглядывая туда сквозь свои очки в серебряной оправе, и вдруг меня охватил страх, как бы он не проник в мою тайну. Я поспешил встать между ним и аппаратом, но это только подстегнуло его любопытство. Чем я занимаюсь? Почему я всегда один и скрываюсь от людей? Не занимаюсь ли я чем-нибудь преступным? Не опасно ли это? Ведь я ничего не плачу, кроме обычной квартирной платы. Его дом всегда пользовался хорошей репутацией, в то время как соседние дома этим похвастать не могут. Наконец я потерял терпение. Попросил его убраться. Он запротестовал, что-то бормотал про свое право входить ко мне, когда ему угодно. Еще секунда – и я схватил его за шиворот… Что-то с треском порвалось, и он пулей вылетел в коридор. Я захлопнул за ним дверь, запер ее на ключ и, весь дрожа, опустился на стул.
Хозяин еще некоторое время шумел за дверью, но я не обращал на него внимания, и он скоро ушел.
Это происшествие принудило меня к решительным действиям. Я не знал ни того, что он намерен делать, ни что он вправе сделать. Переезд на новую квартиру означал бы задержку в моей работе, а денег у меня в банке осталось всего двадцать фунтов. Нет, никакой проволочки я не мог допустить. Исчезнуть! Искушение было неодолимо. Но тогда начнется следствие, комнату мою разграбят…
Одна мысль о том, что работу мою могут предать огласке или прервать в тот момент, когда она почти закончена, привела меня в ярость и вернула мне энергию. Я поспешно вышел со своими тремя томами заметок и чековой книжкой
– теперь все это находится у того бродяги – и отправил их из ближайшего почтового отделения в контору хранения писем и посылок на Грейт-Портленд-стрит. Я постарался выйти из дому как можно тише. Вернувшись, я увидел, что мой домохозяин не спеша поднимается по лестнице,
– он, очевидно, слышал, как я запирал дверь. Вы бы расхохотались, если б увидели, как он шарахнулся, когда я догнал его на площадке. Он бросил на меня испепеляющий взгляд, но я пробежал мимо него и влетел к себе в комнату, хлопнув дверью так, что весь дом задрожал. Я слышал, как он, шаркая туфлями, доплелся до моей двери, немного постоял перед ней, потом спустился вниз. Я немедленно стал готовиться к опыту.
Все было сделано в течение этого вечера и ночи. В то время когда я еще находился под одурманивающим действием снадобий, принятых мной для обесцвечивания крови, кто-то стал стучаться в дверь. Потом стук прекратился, шаги начали удаляться, но вот снова приблизились, и стук в дверь повторился. Кто-то попытался что-то просунуть под дверь – какую-то синюю бумажку. Терпение мое лопнуло, я вскочил, подошел к двери и распахнул ее настежь. «Ну, что еще там?» – спросил я.
Это оказался хозяин, он принес мне повестку о выселении или что-то в этом роде. Он протянул мне бумагу, но, по-видимому, его чем-то удивили мои руки, и он взглянул мне в лицо.
С минуту он стоял, разинув рот, потом выкрикнул что-то нечленораздельное, уронил свечу и бумагу и, спотыкаясь, бросился бежать по темному коридору к лестнице. Я закрыл дверь, запер ее на ключ и подошел к зеркалу. Тогда я понял его ужас. Лицо у меня было белое, как мрамор.
Но я не ожидал, что мне придется так сильно страдать. Это было ужасно. Вся ночь прошла в страшных мучениях, тошноте и обмороках. Я стискивал зубы, все тело горело, как в огне, но я лежал неподвижно, точно мертвый. Тогда-то я понял, почему кошка так мяукала, пока я не захлороформировал ее. К счастью, я жил один, без прислуги. Были минуты, когда я плакал, стонал, разговаривал сам с собой. Но я выдержал все… Я потерял сознание и очнулся только среди ночи, совсем ослабевший.
Боли я уже не чувствовал. Я решил, что умираю, но отнесся к этому совершенно равнодушно. Никогда не забуду этого рассвета, не забуду жути, охватившей меня при виде моих рук, словно сделанных из дымчатого стекла и постепенно, по мере наступления дня, становившихся все прозрачнее и тоньше, так что я мог видеть сквозь них все предметы, в беспорядке разбросанные по комнате, хотя и закрывал свои прозрачные веки. Тело мое сделалось как бы стеклянным, кости и артерии постепенно бледнели, исчезали: последними исчезли тонкие нити нервов. Я скрипел зубами, но выдержал до конца… И вот остались только мертвенно-белые кончики ногтей и бурое пятно какой-то кислоты на пальце.
С большим трудом поднялся я с постели. Сначала я чувствовал себя беспомощным, как грудной младенец, ступая ногами, которых не видел. Я был очень слаб и голоден. Подойдя к зеркалу, перед которым я обыкновенно брился, я увидел пустоту, в которой еле-еле можно было еще различить туманные следы пигмента на сетчатой оболочке глаз. Я схватился за край стола и прижался лбом к зеркалу.
Только отчаянным напряжением воли я заставил себя вернуться к аппарату и закончить процесс.
Я проспал все утро, закрыв лицо простыней, чтобы защитить глаза от света; около полудня меня снова разбудил стук в дверь. Силы вернулись ко мне. Я сел, прислушался и услышал шепот. Я вскочил и принялся без шума разбирать аппарат, рассовывая отдельные части его по разным углам, чтобы невозможно было догадаться об его устройстве. Снова раздался стук, и послышались голоса – сначала голос хозяина, а потом еще два, незнакомые. Чтобы выиграть время, я ответил им. Мне попались под руку невидимая тряпка и подушка, и я выбросил их через окно на соседнюю крышу. Когда я открывал окно, дверь оглушительно затрещала. По-видимому, кто-то налег на нее плечом, надеясь высадить замок. Крепкие засовы, приделанные мной за несколько дней до этого, не поддавались. Однако сама попытка встревожила и возмутила меня. Весь дрожа, я стал торопливо заканчивать свои приготовления.
Я собрал в кучу валявшиеся на полу черновики записей, немного соломы, оберточную бумагу и тому подобный хлам и открыл газ. В дверь посыпались тяжелые и частые удары. Я никак не мог найти спички. В бешенстве я стал колотить по стене кулаком. Я снова завернул газовый рожок, вылез из окна на соседнюю крышу, очень тихо опустил раму и сел – в полной безопасности, невидимый, но дрожа от гнева и нетерпения. Я видел, как от двери оторвали доску, затем отбили скобы засовов, и в комнату вошли хозяин и два его пасынка – два дюжих парня двадцати трех и двадцати четырех лет. Следом за ними семенила старая ведьма, жившая внизу.
Можете себе представить их изумление, когда они нашли комнату пустой. Один из парней сразу подбежал к окну, открыл его и стал оглядываться кругом. Его толстогубая бородатая физиономия с выпученными глазами была от меня на расстоянии фута. Меня так и подмывало хватить кулаком по этой глупой роже, но я сдержался. Он глядел прямо сквозь меня, как и все остальные, которые подошли к нему. Старик вернулся в комнату и заглянул под кровать, а потом все они бросились к буфету. Затем они стали горячо обсуждать происшествие, мешая еврейский жаргон с жаргоном лондонских предместий. Они пришли к заключению, что я вовсе не отвечал на стук и что им это только почудилось. Мой гнев уступил место чувству необычайного торжества: я сидел за окном и спокойно следил за этими четырьмя людьми – старуха тоже вошла в комнату, по-кошачьи подозрительно озираясь, – пытавшимися разрешить загадку моего поведения.
Старик, насколько я мог понять его двуязычный жаргон, соглашался со старухой, что я занимаюсь вивисекцией. Пасынки возражали на ломаном английском языке, утверждая, что я электротехник, и в доказательство ссылались на динамо-машины и излучающие аппараты, Они все побаивались моего возвращения, хотя, как я узнал впоследствии, заперли наружную дверь. Старуха шарила в буфете и под кроватью, а на площадке лестницы появился один из моих соседей по квартире, уличный разносчик, живший вместе с мясником в комнате напротив. Его также пригласили в мою комнату и наговорили ему невесть что.
Мне пришло в голову, что если мои аппараты попадут в руки наблюдательного и толкового специалиста, то они слишком многое откроют ему; поэтому, улучив минуту, я влез в комнату, разъединил динамо-машины и разбил оба аппарата. До чего же они переполошились! Затем, пока они старались объяснить себе это, я выскользнул из комнаты и тихонько спустился вниз.
Я вошел в гостиную и стал ожидать их возвращения; вскоре они пришли, все еще обсуждая происшествие и стараясь найти ему объяснение. Они были немного разочарованы, не найдя никаких «ужасов», и в то же время сильно смущены, не зная, насколько законно они действовали по отношению ко мне. Как только они спустились вниз, я снова пробрался к себе в комнату, захватив коробку спичек, зажег бумагу и мусор, придвинул к огню стулья и кровать, при помощи гуттаперчевой трубки подвел к пламени газ и простился с комнатой.
– Вы подожгли дом?! – воскликнул Кемп.
– Да. Это было единственное средство замести следы, а дом, безусловно, был застрахован… Я отодвинул засов наружной двери и вышел на улицу. Я был невидим и еще только начинал сознавать, какие преимущества это давало мне. Сотни самых дерзких и фантастических планов возникали в моем мозгу, и от сознания лилией безнаказанности кружилась голова.