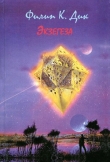Текст книги "Оправдание черновиков"
Автор книги: Георгий Адамович
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 2 страниц)
Георгий Адамович (1892-1972)
ОПРАВДАНИЕ ЧЕРНОВИКОВ
ОПРАВДАНИЕ ЧЕРНОВИКОВ
(Новый журнал, 1964, №76, с.115-125)
(основная часть, с небольшими изменениями, вошла в основной свод «Комментариев»)
* * *
Теоретики «нового романа» по-своему правы, – но только частично правы, – упрекая прежних писателей в искусственных и произвольных психологических выдумках. Человек, утверждают они, знает только то, что думает и чувствует сам. О других людях мы судим по их словам, действиям, случайным поступкам, не зная, чем эти слова и поступки вызваны, сплошь и рядом ошибаясь в их истолковании. Как же решается писатель переходить от одного своего героя к другому, делая вид, что все творящееся в сознании этих различных людей ему в точности известно? Что получается? Марионетки, куклы, более или менее успешно выданные за живые существа. Писатель вправе говорить только о том, что видит и слышит, не устанавливая в потоке внешних впечатлений никакой внутренней связи. А читатель свободен: связь он может найти, может и остаться в недоумении, если ему кажется, что она отсутствует.
Доля правды в этих утверждениях есть. Действительно, было в прошлом, выходит и в наше время множество бытовых и психологических романов, в которых жизнь воспроизведена лишь призрачно-верно: читая их, мы ничего не узнаем общего и постоянного, ничем не обогащаемся. «Раскрыла книгу: «Вера сидела у окна…» А какое мне, в сущности, дело до Веры?» – писала когда-то насмешница Тэффи, ловя себя на мысли, знакомой, вероятно, многим читателем. Правильно: какое мне дело до Веры! Не все ли равно, выйдет она замуж или с горя станет монахиней? При любопытстве к житейским фактам и происшествиям можно удовлетвориться газетной хроникой: там по крайней мере всё точнее и короче, да и обходится без постылых литературных блесток и стереотипных красот.
Но к Бальзаку или Диккенсу, к Толстому или Марселю Прусту упрёк «новых романистов» отношения не имеет. У тех был дар перевоплощения, была особая «интуиция бытия», и читая их, мы узнаем что-то новое, важное, вечное о людях и жизни, а вовсе не только «убиваем время», как с Верой, сидящей у окна. У Флобера этот дар был, пожалуй, слабее, но он именно о нём думал, когда сказал, что «мадам Бовари – это я». Без способности перевоплощения самому искусному роману – грош цена, а что способность эта крайне редка, спору нет.
«Все можно выдумывать, нельзя только выдумывать человеческой психологии», – сказал Толстой о Горьком. Если бы запрещение обманчиво-реалистических выдумок и подделок «под жизнь» стало непреложным правилом, книжный рынок быстро оскудел бы, и вместо десяти тысяч романов в год появлялось бы два-три, не больше. Но сокрушаться об упадке культуры не было бы причин.
* * *
Десять тысяч романов в год, «новых» или «старых», все равно. Конгрессы, съезды, делегации, декларации, обсуждение «творчески-актуальных» вопросов, диспуты о жанрах, темах, направлениях – и так далее. Расцвет культуры, измеряемой цифрами. Не только там, в нашей захмелевшей России, где это совпадает с ленинским взглядом на литературу как на «часть общепролетарского дела», но и на Западе, где как будто никакого общебуржуазного дела нет.
Конечно, кое-что в пристрастии к конгрессам и прочему понять можно: в самом деле, мало на свете людей, которым не нужны были бы развлечения, «театр для себя» в любых видах. Каждый развлекается по-своему, а писатели – по-писательски, на свой лад, в своей среде. У нас в эмиграции была «Зелёная лампа»: два раза в месяц – смерть, вечность, Бог, свобода, загробное воздаяние, большевизм как доказательство существования дьявола, с прохладительными напитками и пирожками в антракте для вящего сходства с театром. Ну что же, ходили, спорили, горячились, но в глубине души знали: развлечение, только и всего! А ораторствует ли на эстраде Мережковский, Сартр или Эренбург, дела не меняет, и по существу это то же самое.
Писателю нужно только: стол, перо, уединение. И только одно есть у него дело: разговор с самим собой. Не монолог, а именно разговор, в котором вопросы бывают важнее ответов, а мысль неразлучна с сомнением, её оживляющим и отталкивающим.
ОПРАВДАНИЕ ЧЕРНОВИКОВ
(Новый журнал, 1965, №81, с.78-96)
(основная часть, с небольшими изменениями, вошла в основной свод «Комментариев»)
* * *
Перечитывая, припоминая стихи, чужие и свои, думая над ними, – знаешь, что искажает поэзию и уводит от неё, но не знаешь, что к ней ведёт; знаешь, в чём измена, но не знаешь в чём верность.
А если грязь и низость – только мука
По где-то там сияющей красе?
ОПРАВДАНИЕ ЧЕРНОВИКОВ
(Новый журнал, 1968, №90, с.81-95)
* * *
Отчего поэты большей частью «поют» свои стихи, а не декламируют их, оттеняя смысловое их значение, как делают актёры?
Оттого, что настоящий поэт с первого произнесённого слова чувствует недостаточность, не-полноту, не-окончательность этого содержания. Оттого, что даже в тех стихах, где строго соблюдено логическое развитие речи, далеко не все в это развитие укладывается, и поэт невольно «поет», безнадежно и беспомощно пытаясь хотя бы этой бедной своей мелодией дать представление о том, что хотел он сказать. В дополнение к смыслу слов, в поддержку и обогащение их. «Мысль изреченная есть ложь»: в стихах скорей – искажение. Актёры, очевидно, полагают, что стихи – это полностью то, что содержится в тексте. А настоящие стихи всегда больше текста, и всегда в них остаётся нечто, перерастающее непосредственный смысл слов и от него ускользающее. Так было, так будет, от первого настоящего стихотворения до последнего, при любых школах и направлениях. Если же публику «пение» вместо чтения слегка раздражает, то это, пожалуй, естественно: недоразумение неустранимо, и возникает оно ещё до того, как поэт раскрыл рот.
Ахматова «пела» стихи, Мандельштам «пел» их демонстративнее, чем кто-либо другой, полузакрыв глаза, сам собой загипнотизированный. Блок, правда, не «пел», но произносил стихи сквозь зубы, глухим, лишенным всякого выражения голосом, будто давая понять, что всё равно почти ничего передать не может, – незабываемо! А Качалов, читая того же Блока, размахивал руками, вскрикивал, шептал, улыбался, хмурился, делал многозначительные паузы, сменявшиеся вкрадчивой скороговоркой, – и было это, может быть, очень искусно, но и до крайности тягостно.
Свидетельство, которое я слышал от покойного В.В. Вырубова, родившегося в семидесятых годах прошлого века. В доме его бабушки (или прабабушки?) княгини Марии Андреевны Львовой Пушкин читал «Полтаву».
В глубокой старости княгиня не без удивления вспоминала:
– Пушкин не читал, Пушкин пел.
Напрасно, значит, новым поэтам приписывают выдумки и причуды, будто бы прежде не существовавшие.
* * *
С первых лет революции московская печать молчала и до сих пор молчит о том, что давно уже, и не совсем удачно повелось называть «религиозными вопросами»: молчала и молчит, если не считать глупых, невежественно-агитационных разъяснений, поучений и призывов. Именно поэтому здесь, в эмиграции, само собой, в противовес московскому обскурантизму, возникло усиленное внимание к этим «вопросам». Это оказалось естественной потребностью, это наше важнейшее здесь дело, недостаток верности которому был бы непростителен. Это прежде всего – верность России. «Что я делал в жизни? Читал Евангелие»: утверждение, по-видимому, относящееся к потусторонним встречам и испытаниям принадлежит Мережковскому. Нет, можно было «делать в жизни» и другое, даже необходимо было делать и многое другое. Но делая, надо было в наши годы и в наших исторических условиях всегда помнить о том, о чём Россия поневоле молчит.
Только вот хотелось бы добавить: память, внимание, интерес, тревога должны бы остаться вполне открытыми, свободными и в устремлениях, и в выводах, ничем заранее не предрешенными. Вера и сомнение должны бы остаться равноправными и равнозначительными. У нас теперь это далеко не так, и воинствующему безбожию всё настойчивее у нас противопоставляется церковность, если и не воинствующая, то отталкивающая чуть ли не как мракобесов тех, кто склонен повторить – «помоги моему неверию!». В будущем нашем диалоге с Россией это может оказаться препятствием. Люди по-настоящему делятся ведь не на верующих и неверующих, не на тех, кто ходит к обедне и кто к обедне не ходит: люди делятся на тех, которые чувствуют загадочность жизни, наличие тайны в мироздании, и тех, которым всё представляется просто, подлежащим рано или поздно уразумению. Богу, – сказал бы Бердяев, не отступавший перед возможностью ошибки в истолковании божественных требований, – Богу не оскорбительны ни сомнения, ни недоумения, Богу оскорбительно равнодушие, отсутствие «трепета». Наш близкий или далекий диалог с Россией должен бы начаться с отказа от равнодушия, даже в самых скрытых, самых утончённых и соблазнительных новейших его формах. Россия оказалась в нескольких поколениях обездарена Лениным, человеком умным, но плоско-умным и в непоколебимой, в безграничной самоуверенности своей гнавшим и презиравшим как «поповщину» всё то, что было и остаётся вечным достоянием человеческого ума и духа.
По всем доходящим до нас из России сведениям, там сейчас именно к Бердяеву растет интерес, растет внимание. Именно он, Бердяев, – в центре нескончаемых бесед и споров, вероятно, как в рудинские времена, ночью, в продымленной студенческой комнате, со стаканами остывшего чая перед спорящими. Радоваться ли этому? И да и нет, на мой взгляд. Бердяев много сказал очень верного, по нынешнему состоянию умов очень нужного: в частности, о свободе. Но самая очевидность, непреложность его главнейших утверждений, как насущным хлебом удовлетворяя пробудившийся к пытливости ум, отбивает охоту к дальнейшим поискам и проверкам. Бердяев немножко «рубит с плеча», и, помню, сам признавался, что пишет большую книгу в месяц-два, а на обстоятельное ознакомление с большой книгой нового автора ему достаточно одного вечера. У Бердяева был ум сильный, трезвый, требовательный, но не было задумчивости, в противоположность Розанову или Шестову, несравненно более гибким, нередко колеблющимся, допускавшим к концу мысли то, что представлялось им невероятным при её зарождении. Отчасти это обнаруживается в стиле Бердяева, более «рубленном», чем у кого-либо другого из больших русских мыслителей.
Но, пожалуй, и хорошо, что очнувшаяся от спячки русская молодёжь начинает с Бердяева. Ей нужны сейчас простые, первичные, оклеветанные истины: остальное придёт потом.
* * *
Утверждение одного из авторитетнейших современных биологов и химиков, нобелевского лауреата Жака Моно в замечательной вступительной лекции к курсу в «Коллеж де Франс».
Давно было сказано, что если представить себе обезьяну, которая в течение миллионов, миллиардов, триллионов лет сидела бы за пишущей машинкой и безостановочно стучала бы клавишам, наугад, наудачу, не разбираясь в начертанных на них знаках, то могло бы оказаться, что в порядке почти невероятной, но теоретически допустимой случайности она выстукала бы полное собрание произведений Шекспира. Это было бы воспринято, как чудо, но это чудо, в опровержение возможности которого доводов нет.
А если возникло в мире величайшее чудо, подлинное чудо из чудес, человеческий мозг, центральная нервная система человека, и значит, как следствие, всё относящееся к «ноосфере», всё бесплотное и духовное, то должно было это произойти в результате такой же триллионной, квадриллионной случайности, бесконечного столкновения, сцепления, разлада слепых молекул, бесконечной их слепой игры, начавшейся в непостижимые для нас времена и обреченной вместе с нами, вместе с нашим солнцем и землёй бесследно исчезнуть. Вероятность образования человеческого мозга в процессе становления вселенной была не больше вероятности появления трагедий Шекспира под пальцами обезьяны.
Нельзя без оцепенения вчитываться, вдумываться в такие строки, невозмутимо и неумолимо логические, неумолимо убедительные в своем полном безразличии к убаюкивающим метафизическим домыслам Тейяра де Шардена, а заодно и к мнимонаучной «Диалектике природы» Энгельса.
Два возможных, достойных ответа.
Или пойти в церковь и сказать: «Отче наш, иже еси на небесех…».
Или застрелиться, – но не так, как Кириллов, чтобы «заявить своеволие», а от нестерпимого сознания финальной бессмысленности мироздания, если действительно оно таково, как допускает наука.
(Впрочем, возможен и другой ответ, в наше время всё шире распространяющийся: ухватиться за эффектную тему «абсурдности» жизни, приняться с увлечением эту тему разрабатывать, сочинять соответствующие повести и романы и составить себе солидную, завидную, репутацию писателя, «идущего в ногу с веком», модернистического властителя дум.)
* * *
Не ответ, а, скорей, соображение в параллель и дополнение к словам Жака Моно о «чуде» и о неизбежности его финальной гибели. Чуть-чуть всё-таки и в убаюкивание.
Ни симфония Моцарта, ни стихотворение Пушкина окончательно быть уничтожены не могут, что с нами и с нашим миром ни произошло бы. В них нет ничего поддающегося уничтожению и разрушению.
Для нас они обманчиво «осуществляются» каждый раз, как мы входим в общение с их бесплотной сущностью, беря в руки книгу или сидя в концерте. Но истинная их сущность остаётся и при этом вполне вневещественной, нигде окончательно не запечатленной. Они неуловимы, они остаются чем-то вроде платоновской «идеи». Книга, оркестр – нечто вроде зеркала, в котором они отражены, но и только. Исчезнет оркестр, который эту симфонию может исполнить, истлеют, сгорят рукописи с уже никому непонятными печатными знаками, умрёт последний человек, который пушкинское стихотворение в состоянии вспомнить, повторить, но их пребывание в плане не поддающемся власти понятий временных и пространственных останется неизменным. Они существуют, и с момента их создания будут существовать всегда, может быть, оставаясь навеки неведомыми, никому недоступными, но и пребывая вне какой бы то ни было разрушающей досягаемости. При возникновении, при восстановлении памяти, невероятном, но допустимом, как предположение, мгновенно были бы восстановлены и они, без малейшего творческого усилия со стороны вспомнившего.
«Смерть и время царят на земле», по Владимиру Соловьеву. Не над всем царят.
* * *
«Анна Каренина»
Большей частью предпочтение отдаётся «Войне и миру», хотя «Анну Каренину» многие считают «совершеннее». Это иносказательно признал Достоевский (в «Дневнике писателя» и в словах, переданных Н.Н. Страховым). Об этом, если не ошибаюсь, писал Конст. Леонтьев, говорили и другие.
Не думаю, чтобы это было в точности верно. Кое-где в «Анне Карениной» чувствуется, что Толстому, охваченному уже совсем иными мыслями, скучно и тягостно было её писать. Временами он оживлялся, вдохновлялся и писал так, с такой силой, как в русской литературе не писал никогда никто («ни до, ни после него», повторял Лев Шестов). Но потом снова принуждал себя к работе над рукописью, и принуждение это в некоторых главах, – тех преимущественно, где Анна и Вронский отсутствуют, – дает себя знать.
А всё-таки, даже при убыли прежнего гомеровски-безбрежного, безмятежного вдохновения, «Анна Каренина» едва ли не значительнее «Войны и мира», едва ли не глубже, и во всяком случае представляет собой ужасный и неотвратимый вывод из того, что в «Войне и мире» рассказано и показано.
«Война и мир» – это жизнь, бытие. Вот что такое жизнь, на всем протяжении своего повествования как бы говорит Толстой. «Анна Каренина» – другое, то есть второй, следующий этап: вот что человек со своей жизнью делает, вот во что он может жизнь свою превратить. Не знаю, разделяет ли кто-нибудь моё чувство, но сколько бы я эту книгу ни перечитывал, мне всегда хочется взять Анну за руку, остановить, сказать ей: что ты делаешь, зачем, по какому дьявольскому наваждению ты сама себя губишь? Особенно хочется это над несравненными, предсмертными её страницами, начиная с той, где она смотрит на спящего Вронского, чуть ли не задыхаясь от любви, «не в силах сдержать слёз нежности», и кончая уже близкой свечой, которая «затрещала, стала меркнуть и навсегда потухла». Но ведь такое же чувство возникает и при чтении иных трагедий Шекспира, то же чувство возникает и в «Кольце Нибелунгов», когда Зигфрид доверчиво, в последний раз произнося дорогое имя, пьёт братски предложенную ему отраву, лишающую его памяти, – да чувство это лежит в основе, в идейной ткани некоторых величайших созданий человека, как бы ни были они различны по складу.
Толстой, вероятно, расхохотался бы, если бы ему сказали, что Анна кому-то напомнила Зигфрида. Но что с Толстого взять? Хохотал он над многим, не удостаивая заметить, что хохочет над самим собой, над лучшим, что проносилось в его сознании. Что ты с собой делаешь? Что все вы делаете со своей жизнью? Помочь нельзя, и крайне мало надежды, что люди одумаются и перестанут сами себя губить.[1]1
Знаю, что упоминание о вагнеровских замыслах, да еще рядом с Шекспиром, многим покажется преувеличенным, почти нелепым. Ветер времени веет в другом направлении, люди снисходительно скучают над тем, что изумило и потрясло их отцов. Но Морис Баррес в конце прошлого века чуть ли не на коленях обращался к Нагорной проповеди и к «Федону», – как к лучшему, самому высокому, что мог вспомнить, – с мольбой «принять на свои высоты» именно это. И был по-своему прав. А что каждое поколение не только «переоценивает ценности», но и глохнет по отношению к тому, что слышали поколения предыдущие, известно давно. Правда, ни с Нагорной проповедью, ни с «Федоном» этого не произошло. Но тем более мольба, именно к ним обращённая, «принять на свои высоты» создание если и не столь долговечное, то всё же с порывами к вечному свету, сохраняет своё значение.
[Закрыть]
Мне приходилось читать и разбирать «Анну Каренину» с иностранными студентами, приходилось не раз беседовать о толстовском романе и с людьми постарше. В девяти случаях и десяти реакция была такая: «Да, вы правы, хороший роман, очень хороший, но всё же, знаете, несколько устарелый… Женщина влюбилась, бросила мужа и сына, запуталась, кончила самоубийством, – что же тут такого замечательного? Теперь, когда в мире происходят такие события…» Руки опускались, я не знал, что ответить, ибо начать пришлось бы с таких далеких азов, которые и припомнить трудно. Действительно, женщина влюбилась, запуталась, погибла, совершенно верно, ничего замечательного в этом нет, да к тому же и бытовая оболочка романа устарела, верно, – но неужели вы не чувствуете, даже не столько в смысле слов, сколько в ритме их, неужели вы не чувствуете, что это весь мир гибнет вместе с нею, мы все гибнем, и неужели не содрогаетесь?
Кстати, по свидетельству Вал. Катаева, Бунин при давних, одесских встречах с ним, говорил, что хотел бы по-своему «переписать» толстовский роман, кое-где подчистить его, кое-что выбросить. Нет сомнения, что Бунин сделал бы это мастерски, – хотя вспоминая то, что он говорил об «Анне Карениной» в самые последние годы жизни, удивляюсь, как могла прийти ему в голову такая мысль даже в молодости. Однако, допустим, Бунин написал бы «Анну Каренину» наново. Что получилось бы? Отличный, превосходный роман, вероятно, более короткий, чем у Толстого, и, может быть, более стройный. Но «Анна Каренина» – это не роман, отличный или не отличный, это целый мир, и как в живом, беспредельном мире, в ней есть, в ней не может не быть многого, что кажется лишним. Та или иная мелочь есть потому, что она есть, без объяснения и без оправдания, вовсе не потому, что она нужна. Таких мелочей еще больше в «Войне и мире». У Бунина почти все «лишнее», вероятно, исчезло бы, но стремясь очистить написанное Толстым, по-своему даже добившись этого, он исказил бы «Анну Каренину», умалил, снизил бы ее до неузнаваемости. Вероятно, он, например, убрал бы свечу, при которой Анна читала «исполненную тревог, обманов, горя и зла книгу жизни». В самом деле, образ донельзя банален, и не только он, Бунин, но и Тургенев или, скажем, Флобер сочли бы недопустимым ввести его в свой текст. Им было бы стыдно, если бы он по недосмотру в книгу вкрался. Однако эта свеча вспыхивает и гаснет у Толстого как будто в первый раз с тех пор, как создан мир, и все стилистические усовершенствования и ухищрения становятся в её прерывистом, предсмертном мерцании до смешного ничтожны.
* * *
В последние годы, читая иные книги или статьи, прислушиваясь к некоторым разговорам, нередко вспоминаешь тургеневскую Кукшину, нигилистку из «Отцов и детей»: «Помилуйте, в наше время как же без эмбриологии!». Теперь об эмбриологии мало кто вспоминает, но по существу нравы изменились мало.
«Помилуйте, после Планка и теории квантов, после Нильса Бора…» «Помилуйте, после того, как Эйнштейн опроверг Ньютона…» «Теперь, после Фрейда, приписывать какое-либо значение разуму?..» – и так далее.
Бесспорно, во всех этих «после» доля правды есть, даже большая доля правды. Наука сделала в наше столетие головокружительный скачок и в разных областях обнаружила многое, еще недавно казавшееся невероятным. Главное, может быть, обнаружила она то, что в строении нашего мира есть нечто, если на крайность и укладывающееся в цифры, то ускользающее от понимания и рассудочного анализа, – о чем, впрочем, догадывались отдельные великие умы в прошлом. Есть нечто непостижимое и в самом человеке. Да, это бесспорно так. Но ничуть это не оправдывает беззаботного, залихватского, веселого «всё позволено», которым охвачены некоторые наши современники, не оправдывает ребяческого упоения внезапно представившейся возможностью болтать что угодно, предполагать что вздумается, красуясь при этом своей интеллектуальной авангардностью. Пожалуй, никогда ещё человеческая суетность не была так очевидна, как теперь, «после Планка», – который, конечно, вместе с Эйнштейном, Фрейдом и другими великими учёными, никакой ответственности за подобное использование своих трудов не несёт и, наверное, никакой суетностью не страдал. Но научные, подлинно творческие открытия – одно, а их вульгаризирование, их стремительная переработка в удобоваримую идейную пищу передовых весельчаков – нечто совсем другое.[2]2
Гаусс, не напрасно прозванный «королём математики», предугадал до Лобачевского и Римана построения не-евклидовой геометрии. Но, по-видимому, он был настолько ошеломлен своими прозрениями, что предпочёл молчать. Если глухие, не совсем ясные сведения насчёт этого, содержащиеся в его биографии, верны, то факт такого молчания мог бы заставить задуматься и людей от математики далёких. Потому что не только в математике тут дело.
[Закрыть]
Во-первых, милейшая Кукшина тоже была убеждена, что ей и её эпохе открылась окончательная, неопровержимая мудрость, – и как знать, не усмехнутся ли над нами наши внуки и правнуки приблизительно так же, как теперь мы готовы усмехнуться над ней и её незадачливой, будто бы всё объясняющей «эмбриологией»? А во-вторых… во-вторых, люди всё же обречены до конца дней жить в пространстве трёхмерном, обречены жить, действовать, страдать, искать, рассуждать в соответствии с единственно нам доступным строем мышления, и никакие теоретические догадки о другом строе, с другими предпосылками, практически изменить для нас не могут и с земли никуда нас не уведут. Разум понял, что он не всё в состоянии понять, и откровенно в этом признался. Поняв свою ограниченность, он убедился в условности наших земных мерил. Но на деле в нашем существовании всё для нас осталось таким же, как было испокон веков, как будет и впредь, до конца мира. Отрекаясь от разума, мы, в сущности, отрекаемся и от той великой новой ценности, которую можно было бы определить как «понимание непонимания».
«Друзья рода человеческого и всего, что для людей свято, не оспаривайте у разума того, что делает его высшим благом на земле: его права быть последним пробным камнем истины». Этим патетическим призывом оканчивается одна из статей человека, который с тех пор, как стоит свет, вероятно, больше и глубже кого-либо другого думал о природе разума и сам отчетливо установил его границы, предоставив свободу вере: это – слова Канта («Об ориентировке в мышлении»).
Правда, после Канта явились мыслители, с необычайным ожесточением восставшие против разума, – Ницше, Киркегаард, если назвать имена самые значительные и во всяком случае сейчас наиболее влиятельные. Но в их восстании был оттенок трагический, они бились головой о стену, сходили с ума, и не случайно Киркегаард сказал, что источник философии – отчаяние, вопреки древним, утверждавшим, что её источник – удивление.
Всё это, действительно, идейное содержание нашего времени. Но содержание это имеет до крайности мало общего с самодовольством бесчисленных нео-Кукшиных, в частности, облюбовавших новую поэзию и под старым, истрепанным, полинялым знаменем «слова, как такового» стремящихся уйти в бесконтрольное мечтательство, прикорнуть в удобном, уютном уголке.
* * *
Слушая «Весну Священную» Игоря Стравинского.
Слушая не в первый, а, вероятно, в десятый раз, но всегда с тем же смутным смятением, с какой-то горечью и печалью. По мнению знатоков, это произведение гениальное, и не мне, с моим музыкальным дилетантизмом, им перечить, – тем более что к смятению неизменно примешивается и удовлетворение дикой мощью звуков, безошибочно-ладным их сцеплением.
Но с этими звуками надвигается на нас тьма. Наше солнце заходит, будут другие, долгие дни, будет долгая, новая перелицовка единого человеческого духовного наследия. Но наш день кончается, наш чудный, ясный день, да, с его исключениями, заблуждениями, может быть, даже с каким-то его малодушием, но и с тем, что всё-таки не напрасно мы любили, хотели удержать, отстоять, спасти. «Помедли здесь со мной над этим пепелищем твоих надежд земных». Кому это сказать, кто поймёт, откликнется? Возраст роли не играет, и должны бы найтись люди совсем ещё молодые, которые неотвратимость надвигающейся тьмы чувствуют – впрочем, в толпе тех, кто ей рукоплещет, высокомерно посматривая на тупых, по их убеждению, консерваторов.
Конечно, история движется скачками, а не по прямой линии, конечно, нельзя жить прошлым, конечно, обновление в искусстве необходимо: конечно, лошади едят сено и овёс. Но всё-таки «помедли здесь со мной над этим пепелищем твоих надежд земных», – тем более что пепелище ещё не совсем остыло, еще светится последними, дотлевающими огоньками.
Не знаю, как относится теперь к «Весне» её автор. Но судя по всей его позднейшей деятельности, он её отбрасывает, перечеркивает. «Звуки ничего выразить не могут» – упорно повторяет Стравинский. Нет, в мире не существует ни одного явления, которое ничего не выражало бы, и звуки исключения собой не представляют.
* * *
Когда Россия станет Россией.
Не «снова станет Россией», как сказано в одной из статей В.В. Вейдле (в сборнике «Старые молодым»: «Пора России снова стать Россией»). Нет, не «снова», – потому что в действительности она никогда и не была окончательным свершением того, что, по предположению Бердяева, в данном случае перефразировавшего Соловьева, – «Бог задумал о России» и что мелькнуло в некоторых редчайших русских сознаниях. Думая об этом, слово «снова», относящийся к пореволюционному огрублению былой, узкой и глубокой русской культуры, отбрасываешь ещё и потому, что революция была и остаётся для России неким «страшным судом», экзаменом, который следовало бы выдержать, но на котором можно и сплоховать. Огрубление, измельчание культуры было неизбежно, по-своему даже оправдано, если принять во внимание, что одному или двум многомиллионным русским поколениям, которые веками и десятилетиями пребывали в безграмотности или малограмотности, внезапно оказались доступны прежние духовные яства. С этим можно примириться, с этим надо примириться, как бы нам ни представлялось это тягостно, а нередко, к сожалению, и смешно. И дело всё-таки не в этом.
Россия станет Россией, когда поймет, почувствует и во всеуслышание признает, что революция была нашим общим великим бедствием, пусть в первоначальном, теоретическом замысле своем и казалась она, – как почти все революции, – одушевленной справедливыми целями, правильными стремлениями. Россия станет Россией, когда поймет, почувствует и во всеуслышание признает, что никакие государственные достижения, – полностью отрицать которые невозможно иначе как по слепому упорству, – да, никакие государственные достижения, ни в каких областях, не искупают неисчислимых страданий, несчастий, моря крови, ожесточенного, беспощадного, бесстыдного сведения счетов с людьми лично ни в чем неповинными, словом, торжества тьмы и злобы. Россия станет Россией, когда возникнет ужас перед тем, что революцией было вызвано и во имя ее совершено, когда перестанут восхваляться и даже обожествляться деятели, политически, может быть, и выдающиеся, но примером своим, указаниями своими утвердившие бездушное, бесчеловечное, мертвящее представление о народе и истории.
Когда будут отвергнуты лживые, мнимоотвлеченные прописи насчет великих достоинств класса «восходящего» и неустранимых пороков класса «нисходящего», когда исчезнут остатки волчьей ярости к тем, кто будто бы «нисходит», когда былые красные и белые поймут, что и тем и другим есть чему ужаснуться, а вопрос, кто должен бы ужаснуться сильнее, решающего значения не имеет. Все виноваты, все должны признать это и, как в стихотворении Хомякова, посвященном нашей истории, на коленях просить Господа Бога, «чтоб Он простил, чтоб Он простил», а при неверии в Бога просить прощения у своей искаженной, одурманенной совести, у всех других русских людей, «восходящих» или «нисходящих», одурманенных не меньше, чем они сами. И еще молить Бога, чтобы никогда больше в России ничего подобного не было, как бы порой ни казался общенародный переворот желателен, – ибо иначе, хотя б и при другом характере взрыва, будет опять то же самое, будет та же слепая, звериная ненависть, слепое сведение счетов, бесчисленные жертвы, океан крови, все то же, чего искупить и забыть нельзя. Нужно постепенное отрезвление, мало-помалу внушаемое поколениями, революции не видевшими, но знающими понаслышке о ее истинной сущности.
Нет, такие мысли – не прекраснодушный, эмигрантский бред, заслуживающий всего только пренебрежительной усмешки. Если в прошлом уже бывали длительные общенародные кровавые бедствия, после которых никакого общенародного отрезвления умов и сердец не последовало, а, наоборот, последовали успокоительные разъяснения, что воспринимать их следует «en bloc», то есть в целом, без деления на составные части, – насколько помню, термин этот принадлежит Клемансо и относится, конечно, к революции французской, – если это и бывало, то довод не убедителен, по крайней мере, для нас, для России не убедителен. Пусть, кому угодно, занимаются «блоками», превозношениями и всякими иными наркотическими передергиваниями. Пусть! Никто никому в этих делах не указ. Но Россия должна бы стать рано или поздно Россией, и когда вспоминаешь всё то страстно-вдохновенное, что было о ней написано, полное страстно-вдохновенного убеждения, что у нас есть своё, особое назначение в мире, как не сказать себе: теперь или никогда! Теперь не в смысле «завтра», «послезавтра», а именно в предчувствии окончательного, последнего, далекого экзамена, на котором дай Бог ей не провалиться. Даже лучше, если бы далекого, – потому что при этом в личных надеждах исчезает эгоистический оттенок. Отпадает подозрение в эгоизме. Нет, нам лично уже не дождаться великого русского примирения и просветления после великого русского безумия. Нам лично уже «все равно». Но даже доживать свой век, даже умирать легче, веря, что просветление наступить должно, и тем твёрже веря, что оттуда из России, нет-нет да и доносятся новые, молодые голоса, на свой лад говорящие о чём-то очень близком и схожем.