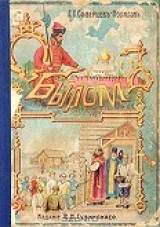
Текст книги "О былом. Рассказы"
Автор книги: Георгий Северцев-Полилов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 3 страниц) [доступный отрывок для чтения: 1 страниц]
Сон цветочницы
Долго сидела Мариулла в мастерской в Рождественский сочельник. Необходимо было окончить громадную гирлянду цветов для одной богатой дамы, непременно желавшей убрать ею завтра свое праздничное платье. Мастерицы и девочки, под руководством Мариуллы, свивали, клеили, гофрили искусственные цветы, и заказанная гирлянда быстро росла. Часам к двенадцати она была готова, тщательно осмотрена самою цветочницею и уложена в картонку, Мариулла взяла ее с собою, чтобы утром отнести заказчице. Всех учениц на Рождество хозяйка распустила по домам.
Чудной ночью вышли мастерицы из душной мастерской на улицу; легкие снежинки падали на землю, блистая при свете газа. Несмотря на то, что становилось поздно, на улице было оживленно, – народ гулял толпами. Выяснившиеся звёздочки ярко горели на темном небе. Мариулла, в легкой кофточке, бойко бежала домой, передергивая плечами от легкого мороза. Но вот она и дома. Быстро взбежав в пятый этаж, где помещалась её комнатка, она бережно поставила картонку на стол и, раздевшись, стала приводить свою каморку в праздничный вид. Не первый год приходилось ей проводить Рождество вдали от родины… Приехала она в Петербург три года тому назад, из южной Франции, по приглашению ее теперешней хозяйки, для заведывания большою мастерской искусственных цветов: хозяйка сама ничего в этом деле не понимала. Заработком своим Мариулла была довольна: ей хватало и на себя, да и на старушку-мать, которой она могла помогать кое-чем. И все-таки ей припоминалась теперь её далекая родина, оставшиеся там мать и сестры, красивый кузен Жюстэн, кончающий военную службу, чудный климат, теплое, приветливое солнышко Юга, – и она невольно сравнивала с ним сырую осень и холодную зиму Петербурга.
Немного погодя она легла в постель и заснула, думая о далеких милых.
Вдруг ее точно кто толкнул; она открыла глаза и увидела себя в другой обстановке. Комнаты больше не было; Мариулла лежала на траве, среди прелестного сада. Луна мягко светила, обливая своим серебристым блеском клумбы с цветами, широкие дорожки, усыпанные красным песком, и мелодично журчащие фонтаны. Воздух был напоен благоуханиями цветов; теплая, роскошная южная ночь царила вокруг неё. Она узнала свою родину, свой чудный Прованс.
Сначала её поразило столь быстрое переселение сюда с берегов Невы, но потом ей вдруг почему-то стало это приятно.
В саду, кроме неё, никого не было. Она лежала молча, кругом стояла величественная тишина.
Вдруг на небе появилась необыкновенно яркая звезда, и Мариулле послышалось, что кто-то около самого её уха, голосом, похожим на звуки серебряного колокольчика, произнёс:
– Родился младенец Христос, пора нам справлять эту великую ночь!
Она оглянулась и прислушалась: голос шёл из соседней с нею клумбы. Ей показалось, что это произнесла красавица Бэль-де-Нюи [1].
– Да, пора, – послышались со всех сторон голоса, и цветы из всех клумб спешили на лужайку, где лежала Мариулла.
Они не замечали её, топтали её своими тоненькими ножками-стебельками.
Кого, кого тут только не было!..
Красавец Нарцис, под руку с белой Лилией, изящно выступал вперед; скромная Резеда протягивала, здороваясь, свои лепестки; Левкои весело болтали с ярко-красными Настурциями; пятилистная Кадеция хвастала шелковистостью своих лепестков, слушая комплименты от Душистого Горошка; розовый Портулак шептал что-то на ухо Гвоздике.
Все были веселы, довольны, все хотели веселиться в эту радостную для всего живущего на земле и небе ночь.
– Написали ли вы гимн в честь Младенца Христа? – обратилась Бэль-де-Нюи к Колокольчику. – Я надеюсь, что мне вы уделили в нем место? – кокетливо на него посматривая, продолжала она.
– Разумеется, кто же, кроме вас, может исполнять его! – галантно отвечал Колокольчик.
– А меня, надеюсь, тоже не забыли, прохрипел готовый лопнуть от чрезмерной полноты Пион, – я думаю, что мой бас вам может пригодиться?
– Высокому сопрано и тенору вы написали в гимне партию? – допытывалась голубенькая Незабудка, проталкиваясь, вместе с Ландышем, к композитору.
– А мне дадите партию? а мне? а мне? – слышались голоса из толпы цветов.
– Фу! какой невежа этот Колокольчик! Он просто зазнался! Не может даже ответить, – прошептала статная Иномея.
– И не говорите! Я его прошу, прошу, а он не обращает на меня никакого внимания, точно я какая-нибудь Фиалка, а не Никтериния, благоухающая только ночью! – гордо произнесла последняя, пахнув своим чудным ароматом.
– Ну, и выбрали композитора! – громко сказала длинноногая Тубероза. – Поручили бы составить гимн Тюльпану, вот он бы составил. А то – Колокольчику!.. – И Тубероза фыркнула.
– Однако, времени терять нечего! Пора начинать! – скомандовал желтый Лакфиоль, игравший роль распорядителя. – Эй, вы! Кто поёт сопрано первое? Становитесь рядом.
Вышли Незабудки, Ромашки, Фиалки и стали рядами.
– Вторые сопрано и альты! – командовал Лакфиоль.
Резеда, Кадеция, Анютины Глазки и Маргаритки пробрались сквозь толпу и стали тут же.
– Тенора! эй, где вы, тенора? – кричал Лакфиоль, тщетно их отыскивая. – Ну, так я и знал! – воскликнул он, поймав Душистый Горошек, который ухаживал за Бэль-де-Нюи, – только знают, что куры строить!..
С трудом, удалось разыскать теноров и водворить их на место.
Душистый Горошек, Ландыши, Левкои, Лупинус и Портулак, хотя и выражали свое негодование, что их оторвали от их милых спутниц, но все-таки стали на места.
Нарцис, исполнявший соло, ни с кем теперь не любезничал: он ожидал Розу-царицу цветов, рассчитывая, в своем самомнении, покорить её сердце.
– Басы! – низким голосом произнес Лакфиоль. – И, неуклюже ступая, потянулись краснорожие Пионы, цветные Георгины, белый Табак. Тюльпан стал туг же.
Тубероза хотела присоединиться к басам, но суровый Лакфиоль отогнал голенастую бесстыдницу прочь, говоря:
– Здесь тебе не место! Ты ведь не бас! У тебя никакого голоса нет; стань там, с прочими, в сторонке и слушай!
Пристыженная Тубероза удалилась.
– Ну, теперь всё готово, я иду докладывать её величеству королеве. Ах, да! Беги скорее, – послал он Василька, – разбуди Бэль-де-Жур [2] и Маки, что они спят! Пусть хотя сегодня, в такую ночь пободрствуют! Ну, живо! А ты, Колокольчик, раздай ноты, приготовьтесь, и как только королева прибудет, так и начинайте! – окончил он, уходя за Розой-королевой.
Немного погодя Роза появилась во всём своём величии. Пышно распустившиеся лепестки свешивались, как мантия, по сторонам; весь костюм её был великолепен; золотая корона сияла при лунном свете на головке красавицы-королевы. Гордо выступая за Лакфиолем, окруженная толпою фрейлин, придворных, состоявших из чайных, белых, ярко-красных, пунцовых и других оттенков Роз, она подошла к трону, нарочно для неё устроенному на плечах могучего Ревеня. Лакфиоль дал знак, и гимн раздался.
Миллионы тоненьких серебристых голосков пели; их нежные голоса летели к небу. Каждое из Божиих творений возносило хвалу Творцу, так дивно их создавшему и одевшему одних в такие роскошные одежды и наделившему других таким чудным запахом.
Месяц всё ниже и ниже опускался, не переставая ярко освещать эту святую ночь. Мариулла чувствовала, что она сама цветок и, вместе с другими, поет гимн Христу-Младенцу.
Вдруг из месяца вышел сам Младенец-Христос. Он стал спускаться по лунным лучам к возносящим Ему хвалу цветам и….
Мариулла проснулась. Луч северного зимнего солнца бил ей прямо в глаза. Она взглянула на часы: было девять утра.
В дверь кто-то постучался. Она быстро оделась и отворила.
– Госпоже Мариулле Боншанс! – подавая письмо, сказал почтальон. – С праздником, барышня, – прибавил он.
Мариулла дала ему серебряную монету; он ушёл. Она начала читать; письмо было от матери; старушка извещала, что скоро думает приехать навестить дочь. Хорошее расположение духа овладело Мариуллой.
«А цветы-то надобно снести», – припомнилось вдруг девушке, и она еще раз открыла картонку и посмотрела на все эти фиалки, розы, маки, иномеи, так недавно оживившиеся во время её сна; она вздохнула, уложила опять их в коробку и понесла заказчице, перебирая в уме все подробности своего сновидения.
1895
Примечания
1
Вьюнок трехцветный – Е. Ш.
(обратно)
2
красоднев, лилейник (Hemerocallis)
(обратно)
Г. Г. Северцов (Г. Полилов) Две встречи
Почти тридцать лет миновало с тех пор… Случайная встреча в вагоне, знакомство и несколько лет отсутствия сведений друг о друге.
Судьба перетасовала карты – и новая встреча на новом поприще, случайная, закрепленная теперь многолетним приятельством.
Я вел крупную хлебную торговлю в Петербурге и каждым день приезжал со своей дачи из Таиц в столицу с тем, чтобы под вечер возвратиться из душного города на лоно природы, на чистый воздух тогда еще мало населенного уголка, обвеянного красивыми перелесками.
Ежедневно я возвращался из города с одним и тем же поездом, нагруженным множеством «дачных мужей», тоже ехавших к своим семьям.
В одной из таких поездок мне пришлось поместиться против какого-то молодого человека, всю дорогу читавшего различные газеты, которых у него была целая пачка.
На другой день судьба опять свела меня с моим вчерашним спутником; он по-прежнему, как трудолюбивая пчела, вытаскивал из пачки различные газеты, журналы, внимательно просматривал их, сортировал.
На этот раз я заинтересовался моим соседом. Худощавый, с темными пытливыми глазами, с легкой растительностью, он мне напоминал труженика – инженера, архитектора; но меня смущали его газеты. На репортера он не походил.
В молодости как-то легче сближаешься с людьми. Я вежливо спросил сидевшего против меня молодого человека:
– Вы что же, работаете в газетах? – и многозначительно указал ему на его неизменных спутников.
Молодой человек встрепенулся, оторвался от своей работы и серьезно, не спеша, ответил:
– Нет, я не работаю в газете, а так, просматриваю. У меня типография, хотя еще очень небольшая, – добавил он с улыбкой.
Мы познакомились, разговорились. Это был Петр Петрович Сойкин.
Деятельный молодой человек, даже отправляясь отдыхать на дачу, не забывал о своей обязанности, просматривал корректуру, окидывал глазами газетные статьи…
С этого дня нашего знакомства мы очень часто с ним встречались в вагоне, разговаривали о том, о сем. Я в то время уже немного писал, но как дилетант, в свободные минуты, никогда и не мечтая быть присяжным писателем. У меня было свое дело, я очень интересовался им, а, кроме того, занимался пением и весь ушел в вокальное искусство.
Если когда мой новый знакомый и рассказывал мне о типографии, о печатных делах, они меня мало интересовали.
Прошло лето. Встречи наши в вагоне прекратились, и мы расстались.
Новый взмах колеса фортуны. Спустя некоторое время мои торговые дела пошли неудачно: я разорился. Пришлось переменить специальность, сделаться певцом.
И вот, когда судьба меня снова заставила переменить профессию и окончательно встать в ряды литераторов, опять я встретился с моим старым знакомцем по вагону.
Случилось это так: совершенно незнакомый с редакциями, я работал только у покойного А. К. Шеллера в «Живописном Обозрении» да в «Ниве»; но нужно было искать и других источников для сбыта своих произведений, и в один прекрасный день я зашел в редакцию «Природа и Люди». Она помещалась там же, где и теперь находится, но только домик был маленький, деревянный; редакция ютилась в нижнем этаже, с левой стороны, во второй комнате; в первой же помещалась контора. На правой стороне дома был книжный склад.
В редакции я познакомился с покойным редактором Ф. С. Груздевым, впоследствии моим большим приятелем. Не помню теперь, какую вещь я принес ему тогда для напечатания; он принял рукопись, просил придти за ответом, и вот, выходя, я в дверях конторы встретил какого-то господина. Мне он показался почему-то знакомым.
Я ему поклонился, прибавив:
– Мы, кажется, с вами где-то встречались?
Посмотрел и он на меня, задумался на минуту, точно припоминая, потом весело сказал:
– Разве вы забыли Балтийскую дорогу и вашего спутника по вагону, помните тогда, с пачкой газет?
Теперь мне все было ясно. Это был тот молодой человек, очень мало переменившийся с тех пор: те же внимательные темные глаза, редкая бородка, непослушные волосы.
Я обрадовался; мы разговорились.
– А вы что же, печатаете этот журнал? – спросил я наивно моего собеседника.
– Не только печатаю, но и издаю: ведь я издатель журнала «Природа и Люди», – с оттенком вполне понятной гордости ответил он.
Такое известие меня очень обрадовало, и после долгого промежутка мы снова пожали друг другу руки…
Теперь бывший крупный торговец и певец не мало уже напечатал своих произведений в изданиях своего старого знакомого по вагону, П. П. Сойкина. За последние года мы оба успели отпраздновать юбилей нашей двадцатипятилетней деятельности, и ныне я с удовольствием приветствую четвертьвековый юбилей журнала «Природа и Люди», этот краеугольный камень издательства старого друга.
1914
Г. Г. Северцов (Г. Полилов) Кровавый цветок
– Из моих воспоминаний об old merry England (старой, доброй Англии), где мне пришлось четверть века тому назад прожить несколько лет, мало что осталось в моей памяти.
Так ответил Максим Ермолаевич, крупный финансовый деятель, на просьбу немногочисленного кружка его друзей, расположившихся после обеда в его кабинете за кофе с ликерами, рассказать что-нибудь об его жизни в Великобритании.
– Неужели этот период времени совершенно улетучился из ваших воспоминаний? – шутливо-насмешливо заметил один из собеседников, жизнерадостный блондин, бухгалтер того кредитного учреждения, где был директором хозяин.
– Известный промежуток времени сглаживает те особенности, ту рельефность впечатления, которые могли обратить внимание тогда, впрочем….
И Синев внезапно умолк…
Его крупная, чисто-русская, немного расплывчатая фигура, с большою темно-русою бородою, вдумчивыми серыми глазами еще глубже ушла в кресло, на котором он сидел; левая рука нетерпеливо терла высокий лоб, тогда как правая лежала без движения на ручке кресла.
– Это небольшая история, впрочем в то время меня очень интересовавшая, и если желаете-я вам ее расскажу.
В согласии слушателей нельзя было сомневаться.
– Посланный моим покойным отцом в Лондон, чтобы изучить условия иностранной торговли, я, благодаря привезенным с собою рекомендациям, скоро нашел себе место в одной из лондонских фирм. Изумленно моему не было предела, когда я узнал, что должен служить даром, только ради практики.
Долго думать мне было нельзя, и уже на другой день я сидел в темноватом бюро моих новых хозяев, усердно выписывая всевозможные коноссаменты и счета.
К моему изумлению и, нужно прибавить, к нескрываемому удовольствию, в числе служащих фирмы Куксмун и Кo я встретил моего соотечественника, Василия Бенедиктова.
Кто из вас, господа, не знает, как приятно встретить на чужбине земляка? Одна возможность говорить на родном языке, после постоянных «oh yes! all right!» англичан, невольно заставляет сейчас же сойтись со своим соотечественником.
Это случилось и между нами. Не прошло и двух дней, как я и Вася стали неразлучными друзьями. Вы смеетесь, господа, но ведь четверть века отделяют вас от того времени, когда еще верили в дружбу, когда скептицизм далеко не так сильно владел сердцами людей.
Я жил на Chester square, а мой приятель ютился где-то недалеко от самого City. В будни занятия в office (конторе) настолько утомляли нас, что о прогулках или развлечениях вечером не было и речи, – каждый из нас был вполне счастлив вернуться к себе домой, пообедать, выпить четверть пинты хорошего портера и взять какую-нибудь книгу с тем, чтобы сейчас же задремать, пока резкий голос служанки не разбудит к чаю. Но зато в субботу вечером и все воскресенье мы посвящали время увеселениям всякого рода, начиная от бесцельного шатания по Пиккадилли и кончая поездками в Итон, Вульвич и прочие интересные по своему прошлому города и местечки. В одно из воскресений мы попали на скачки, в небольшой городок New-Market.
– Проклятый городишка! – ворчал мой приятель, раздосадованный проигрышем на скачках; большая часть наших скромных средств перешла в широкие карманы бук-мэкеров.
Это было еще тем досаднее, что отыграться не было возможности, стоял конец июля и сегодняшние скачки были последними. Июльское солнце палило немилосердно, когда нам удалось добраться до небольшой харчевни, чтобы скрыться от зноя и выпить прохладительного. Три с половиной часа, проведенные на ипподроме, все время на солнце, превратили нас в какой-то студень. Как приятно было опуститься на стулья после долгого стоянья на ногах. Кроме нас в харчевне находилось еще несколько человек. Это тоже были счастливые или несчастливые участники минувших скачек. Среди шума и возгласов полупьяной толпы, вдруг послышался плаксивый голос продавца и исполнителя баллад, до сих пор находящих себе любителей и ценителей в Англии.
– Э, гей, Джим, что же ты раньше не приходил, – послышался хриплый голос молодого парня, – я бы тогда не проигрался. Куда это тебя носит только! – закончил говоривший недовольно.
– Ну, что за беда, ты проиграл, а я выиграл, – заметил другой из компании.
– Rascal! (разбойник), твой кошелек пополнел за счет моего, – ответил первый, – таким людям как ты – счастье валит.
Ссора разгоралась.
Напрасно удерживали благоразумные из их компании двух противников, Билль ругал Джон ни невозможным образом. Драка была недалека; и действительно, не прошло и минуты, как оба парня схватились, осыпая лицо противника кулачными ударами по всем правилам бокса.
Исполнитель баллад, испитой, чахлый старик, лет пятидесяти, очутился во время драки около нас, и увлеченный, как истинный британец, исходом борьбы, держал пари с другими зрителями.
Борцы не удовольствовались тесным помещением харчевни, выбежали на луг, лежащий перед домом, и там продолжали бой.
Подобно древним певцам и поэтам, воспевавшим героев, торговец балладами воодушевился и начал гнусавым голосом петь о битве, когда-то происшедшей между англо-саксами и норманами в окрестностях New-Market’а.
Расквасив друг другу носы, боксеры прекратили свое достойное занятие и, минуту спустя, мирно беседовали за кружкою портера. Наш же исполнитель баллад продолжал машинально гнусавить слова баллады.
Меня все больше и больше интересовал сюжет ее. В нем рассказывалось, как осажденные в замке англо-саксы долго держались против врага, но когда все запасы были истощены, когда колодцы, снабжавшие замок водою, иссякли, осажденные предложили норманам сразиться грудь с грудью во рву замка. «Чем судьба решит, так и будет». Нормандцы согласились и враждующее сошлись. Бой длился долго, но в конце все же был неблагоприятен для осажденных, они все полегли во рву, – с ними вместе пало не мало и норманов.
«Века прошли, упали стены, травою заросли бойницы, паутина заволокла покои в башнях. Где был двор – там теперь стоит лес, где струился ручей – там прошла соха пахаря, – все запустело, все одичало. Люди, их злоба, ненависть, раздоры – все глубоко спит под землею. Все тихо вокруг, ничто не напоминает о минувшем, только один цветок, только один Bloody Flower (кровавый цветок) говорит людям о том, что здесь произошло. Он дает им счастье и горе».
Певец закончил свою балладу и хотел уже уходить, получив несколько пенсов за печатный текст исполненной им баллады.
Меня очень заинтересовала она, и я, толкнув товарища, последовал за старым Джимом.
День уже клонился к вечеру, солнце не так пекло, как раньше, утомленная природа сбрасывала с себя это томление, в которое была погружена целый день. Побуревшие кустики травы вдоль дороги беспомощно глядели из окутавшей их пыли. Золотившиеся под косыми лучами заходившего солнца поля спеющего ячменя, слегка волнуемые ветром, переливались точно море. Кое-где светло-зеленым бордюром оттеняли их узкие полоски льна. Высохшие колосья пшеницы гармонично шептались друг с другом. Густой ковер клевера, с малиновыми и белыми помпонами манил поваляться на нем… На скошенных уже лугах бродил скот, меланхолично позвякивая жестяными колокольцами. Высоко в воздухе звенел запоздавший невидимый жаворонок, кузнечики и стрекозы тянули свою однообразную песенку.
Общая гармония природы как-то восстановлялась при полной безлюдности дороги. Из покинутой только что нами харчевни несся резкий гул голосов.
Старый балладчик не торопясь шагал по пыльной дороге. Его небольшой ящик с печатными экземплярами баллад висел у него за спиной. Вся бурая от непогод широкополая шляпа не мешала сильно вьющимся волосам Джима выбиваться из-под полей ее.
Догнать его не представляло труда. Он испуганно посмотреть на нас, когда мы поровнялись с ним и пошли рядом.
– Скажите, пожалуйста, Джим, – сказал я ему, – существует это место и до сих пор, о котором говорить ваша баллада?
Старик презрительно взглянул на меня и проговорил:
– Все, что старый Джим поет в своих балладах – все это правда.
– А вы можете показать нам это место?
– Показать я вам его покажу, только прошу вас, не рвите Bloody flower, он редко приносить счастье, чаще горе, несчастье!
Мы оба охотно дали Джиму обещание, что не тронем его «Кровавого цветка» и успокоенный этим, он нас повел к месту знаменитой битвы.
Далеко за городом, мы встретили жалкие развалины древних укреплений. Приближаясь ближе к месту битвы, мой товарищ вскрикнул от восхищения.
Все пространство лежащего под нашими ногами широкого рва было покрыто крупными, ярко-красными цветами. Толстые, с колючками, в роде кактуса, листья, еле виднелись среди пятилистных красных цветов. Ров казался залитым кровью.
– Вот видите эти цветы, – сказал наш проводник, – они выросли на костях и пролитой здесь крови. – Нигде, кроме этого места, в нашей Англии вы не найдете подобных цветов, да и у нас они цветут только в июле. – Из листьев если их разрезать, течет сок, точно молоко. – Много горя придется испытать тому человеку, кто сорвет хоть один цветок. Бывает, впрочем, и наоборот, но только очень редко. Когда же действительно цветок принесет счастье, то оно никогда уже не изменяет.
Старик с суеверным страхом глядел на цветы. Невольно под обаянием рассказа и мною овладело какое-то неприятное чувство, между тем страстное желание сорвать хотя один из этих роскошных пятилистных цветов не оставляло меня в покое.
– Мало ли что брешет выживший из ума старик, – заметил Венедиктов по-русски, – сорвем по цветочку на память, да и поедем домой.
И, послушав его, я сорвал себе и ему по цветку. Когда вернулся взбиравшийся в руины Джим, я и Венедиктов спрятали сорванные цветы в шляпы; наш поступок был им не замечен.
– Если вы, молодые господа, желаете, можно посмотреть и руины, – заметил он и предложил подняться выше.
Мы охотно согласились и, карабкаясь по крутому скату, начали взбираться в старую крепость.
Первым наверху очутился я и с восхищением стал осматривать расстилавшиеся кругом меня живописные виды.
Глубокий ров, из которого я поднялся, сплошно усеянный красными цветами сверху, еще более казался наполненным кровью. Странное чувство отвращения при этом сходстве заставило меня обратить внимание на другую сторону холма.
Бесконечная панорама возделанных полей красивою лентою убегала вдаль.
Я невольно залюбовался ею, как вдруг внезапный крик проводника заставил меня быстро оглянуться назад.
Венедиктов, уже достигнувший вершины холма, оступившись, быстро катился книзу, тогда как продавец баллад, крича, звал меня на помощь.
Подобное падение не могло принести много вреда моему приятелю: густая трава ската смягчала падение его, и я не беспокоился о нем.
Он быстро скатился в ров и черным пятном выделялся на кровавом ковре.
– Ну, Вася, вставай, полно валяться! – крикнул я ему сверху. Но Венедиктов оставался неподвижным.
Видя, что мой приятель мне не отвечает, я быстро спустился из развалин в ров и бросился к нему.
Венедиктов, несмотря на мои толчки, не двигался. Предполагая, что он в обмороке, я старался привести его в чувство.
Увы, мои усилия были напрасны: Вася не подавал признаков жизни, и когда я, с помощью проводника поднял его, небольшая струйка крови, бежавшая из левого его виска, объяснила нам печальную истину.
Венедиктов был мертв.
При своем падении, он ударился во рву головою об лежащий там камень, последствием удара была смерть.
Кроме этого большого камня, во рву не было другого. Несчастный случай заставил его как будто нарочно упасть именно в этом месте.
При падении, шляпа свалилась с его головы и роковой, сорванный им цветок валялся около него, своим завялым видом обращая на себя внимание проводника.
– Не послушал меня господин, сорвал цветок, – грустно проговорил старик, – несчастье его и постигло.
Все еще словно не веря тому, что за минуту перед этим полный сил юноша лежал перед нами холодным трупом, мы с проводником, осторожно подняв Бенедиктова, понесли его в город в гостиницу.
Приглашенный врач подтвердил нам смерть моего приятеля.
Мне было жалко его, как постоянного спутника и товарища, но горе в молодые годы забывчиво и я скоро забыл о земляке, скрасившем первые месяцы моего скучного пребывания в Англии. Была ли здесь случайность, отомстил ли сорванный цветок за себя, – решить невозможно, это вне наших понятий, хотя вы, люди новейшей формации, несомненно улыбнетесь на это. Сохранившийся у меня цветок до сих пор приносил мне только счастье, вы это сами знаете, и горя мне приходилось испытывать мало.
– Вот, посмотрите, – продолжал хозяин, доставая из письменного стола коробку со стеклянной крышкою.
Совершенно высохший цветок лежал в коробке. Цвет его, цвет человеческой крови, – сохранился превосходно.
– Вот и вся моя история, – заключил хозяин, пряча снова в письменный стол коробку с цветком. – Рассказанный вам мною эпизод юных лет, хотя может быть и мало интересен, но справедлив.
Гости прихлебнули из чашек ароматный кофе и молча согласились с Максимом Ермолаевичем.
1899
Г. Г. Северцов (Г. Полилов) Портрет
Жанни стояла на выступе скалы, весело смеясь. Справа на нее глядело бирюзовое зеркало озера Комо, налево – чуть синела полоска озера Лекко; прямо перед нею вилась пыльная дорога, спускаясь за предгорья между двумя непрерывно тянувшимися вдоль неё белыми стенами; вдали виднелись изящные виллы и дворцы Белладжио, а над нею высились, все поднимаясь, уходя вершинами в небо, горы, между которыми Merde di Gatto отливала изумрудною зеленью. Далеко на горизонте, по правой стороне Комо, за местечком Колико, серебрились снежные вершины Альпов.** Теплый, но в то же время редкий воздух предгорья приятно щекотал молодую девушку, невольно заставляя подыматься её ещё не вполне сформировавшуюся грудь, вдыхавшую аромат ранних цветов на склонах гор и цветущих плодовых деревьев.
Жанни имела причину смеяться: зоркие глаза девушки уже давно заметили на дороге мужскую фигуру, как-то лениво-изнывающе подымавшуюся на горы.
– Это он, наверно он, кузен Тито, – вскрикнула Жанни, еще раз пристально вглядываясь в идущего. – Ну, уж и лениво же он идет, точно кто его сзади удерживает. Тито, Титино! – закричала Жанни и захлопала в ладоши, хотя едва ли кузен мог расслышать ее возглас: расстояние было чересчур велико.
Жанни, круглая сирота, недавно еще лишившаяся матери, унаследовала от нее остерию [1] на предгорье, небольшой домик и чудный фруктовый сад с виноградником, приносившим недурной доход владелице. Сад этот еще был насажен дедушкой Жанни, старым Титом Маттеи, одним из гарибальдийских ветеранов. Жанни только что исполнилось семнадцать лет, как она осталась одинокою и владелицей остерии и сада. Старуха, мать ее, запасливая и хлопотливая хозяйка, оставила ей полную кантину [2] вина, из своего и покупного винограда. Опекунами молодой девушки явились брат ее матери, Туллио Ферручио, старый лесной сторож из горной деревушки, лежавшей в расстоянии часа ходьбы от остерии, на вершине горы, и местный деревенский брадобрей, очень уж древний, Циприано Баркузо. Последний частенько навещал кабачок своей опекаемой, и несмотря на ее отказы от денег, постоянно уплачивал ей за выпитое им вино и съеденный сыр. Вообще дела остерии по смерти старой Мариэтты нисколько не ухудшились, а напротив шли даже лучше; лицо молоденькой девушки привлекало массу посетителей.
Жанни, в своей ярко-красной юбке, черном бархатном спенсере [3], с веткой яблочного цвета в иссиня-черных волосах, выглядела очень хорошенькою. Неправильные черты лица северной итальянки сглаживались ее небольшою, но изящною фигурою; черные, большие глаза украшали ее загорелое личико. Кузен ее Тито, которого она в настоящую минуту поджидала, был сын ее дяди-опекуна Туллио Ферручио. Он, по ремеслу каменщик, работал постоянно в Белладжио или Каденабии, и только по праздникам отправлялся к отцу в его горную деревушку, но редко попадал туда раньше позднего вечера, предпочитая остерию своей кузины Жанни беседе с суровым горцем-отцом.
Последствия оказались такими, какими их все соседи и ждали. Молодые люди полюбили друг друга, и так как никаких препятствий к браку не было, то они и решили обвенчаться в начале осени, когда истекал год со дня смерти старой Мариэтты. Женившись, Тито должен был кинуть свое ремесло каменщика и стать хозяином остерии: молодая хозяйка была крайне неопытна, да и пребывание целыми днями среди охмелевших людей было для нее не особенно приятно.
Тито все ближе и ближе подходил к остерии. Вот уже Жанни рассмотрела его, всю побелевшую от известки, синюю блузу и низенькую мягкую шляпу; спустя немного времени и сам он, легко перепрыгивая через ложбинки, добрался до стоявшей все еще на выступе скалы и ожидавшей его прихода Жанни.
– Добрый день, малютка! – весело приветствовал каменщик свою невесту.
– Будь здоров, Тито, – звонко прозвучал ответ девушки, протянувшей пришедшему руку. – Что так поздно?
– Дело было в городе, Жанни, – серьезно ответил Тито, – и… хорошее дело…
– Опять, что ли, англичанина замуровывали? – шутливо спросила девушка, намекая на недавнюю выгодную работу склепа для утонувшего приезжего богатого англичанина.
– Эге! Куда лучше! – хвастливо промолвил Тито. – Приглашают ехать строить казармы в Палермо.
Веселые глазки Жанни внезапно потухли.
– И ты… поедешь, Тито? – спросила она нерешительно.
– Эге, отчего не ехать! Ведь пять франков в день платят, проезд ихний, да всего только до первого сентября. К нашей свадьбе я тут как тут.
Но Жанни продолжала глядеть невесело, на глазах ее заблестели слезы.
– Ну, чего ездить, – сказала она, – работал бы ты в Белладжии.
– Пустое, милая! Быстро промелькнут эти три-четыре месяца, и я снова здесь, но с хорошими деньгами, не так ли, дорогая? Ну, что же, идем, что ли, домой, ты меня напоследок полакомишь стаканчиком Асти-Туманте, а завтра с утренним пароходом я еду в Комо.








