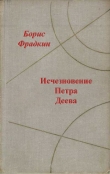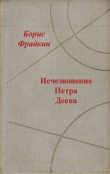Текст книги "Пленники астероида"
Автор книги: Георгий Гуревич
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 15 страниц)
Георгий ГУРЕВИЧ
ПЛЕННИКИ АСТЕРОИДА
Лунные будни
В детстве читал я цветистую восточную сказку о красавице принцессе. Из глаз этой девушки вместо слез падали жемчуга, изо рта сыпались золотые монеты, на следах ее расцветали розы. Как ступит – розовый куст, шагнет второй раз – второй куст, пройдет – за ней цветочная аллея. Я вспоминал эту сказку нынешним летом в Кременье.
В Кременье мы попали случайно – художник Вихров и я. Оба мы искали укромное местечко. Я уже давно знаю, что самые лучшие мысли приходят, когда лежишь на траве и смотришь, как пушистые верхушки сосен плывут по голубым проливам между облаками.
В Кременье оказалось вдоволь сосен. Они росли за огородами, на песчаных холмах, стройные, как ионические колонны, и розовые, как заря. За бором начинался лиственный лес: осины с бледно-зелеными стволами, узловатые дубы, липы, вокруг которых вились пчелы, гудя, словно маленькие самолеты. Березы, слишком высокие и тонкие, чтобы выдержать вес своей листвы, перегнувшись через дорожку, клали вершины на плечи дубам. На одном из березовых арок мы нашли птичье гнездо с оливковыми яйцами. Мы видели ядовито-зеленую ящерицу, гревшуюся на старом пне, видели, как оса, уцепившись одной ногой за лист, на весу скатывала в комок пойманного кузнечика, видели, как черно-пестрый дятел долбил сосновый сук, замахиваясь головой; белка, бежавшая по земле, наткнулась на меня и замерла, уставившись черными, как бусинки, глазами. Я сказал ей, что я не охотник, но она не поверила, решила не связываться со мной и, взмахнув пушистым хвостом, поскакала обратно.
От солнца, аромата смолы и цветов у нас кружилась голова. Мы нашли не меньше полусотни вдохновляющих местечек в лесу и на берегу реки. Я был в восхищении, художник тоже, и свои чувства он выразил такими словами:
– Сюда бы хороший московский ресторан – это был бы рай на земле.
– Кажется, у пристани есть столовая, – заметил я.
– Знаю я здешние столовые, – скептически отозвался художник. – Несоленые щи из свежей капусты и вареные котлеты каждый день.
(Вихров уважал искусство и не любил, чтобы мелкие житейские неудобства отвлекали его от творчества.)
Но столовая приятно разочаровала нас. Нас усадили за столик с накрахмаленной скатертью и цветами, спросили, где мы гуляли, сильно ли проголодались, угостили великолепной окрошкой с квасом, укропом и зеленым луком, на второе дали бифштекс с яичницей и поджаренными сухарями… и после мороженого мы попросили книгу отзывов.
Наша просьба вызвала переполох. Как потом оказалось, в столовой была только жалобная книга. Взволнованная подавальщица призвала на помощь какую-то Марусю.
– Которую? – переспросил ее повар.
– Да Лунную же! – крикнула она.
И через три минуты перед нами явилась эта самая лунная Маруся с жалобной книгой под мышкой. У нее было круглое курносое лицо, действительно похожее на полную луну, серьезные серые глаза и озабоченная складка между бровями. Мы успокоили ее и на первой странице незапятнанной книги написали наши впечатления о скатертях, цветах, окрошке, подавальщице и шеф-поваре Марии.
– Лунная – это ваша фамилия? – наивно спросил художник.
– Да нет, фамилия наша Кремневы. У нас полдеревни Кремневых. А Лунная – прозвище мое. Потому что я на Луне зимовала.
Я смотрел на нее во все глаза. Эта девушка была на Луне? Так это и есть Мария Кремнева из первой комсомольской зимовки, вот эта самая – в поварском колпаке?
– Как же вы попали на Луну?
Маруся посмотрела на ручные часики, оглянулась.
В столовой было пусто. Обед кончился, до ужина было далеко. Возможно, ей самой хотелось, рассказать, а в деревне все уже знали ее историю. В общем, Маруся не заставила себя упрашивать.
– Многие у нас недооценивают общественного питания, – начала она. (Книжные обороты часто встречались в ее речи. Видимо, она не умела пересказывать их своими словами.) – Помню, когда колхоз посылал меня в Москву на курсы поваров, я не хотела ехать… даже плакала. Подруги у меня – кто на тракторе, кто на комбайне, а я вдруг с поварешкой у плиты. После уже на курсах поняла. Нам шеф, бывало, говорил: “Мы, повара, как врачи и даже еще важнее. К нам люди три раза в день приходят от голода лечиться, а к доктору идут с неохотой, в крайнем случае, в беде. И кормить надо по правилам науки – по калориям и витаминам. Потому что люди сами не знают, что им следует есть. Мы за них думать должны”.
Училась я старательно и диплом сдала на “отлично”. Делала я, как сейчас помню, праздничный обед и фигурный торт с фруктами. Думала – вернусь в Кременье, устрою в столовой пир всем на удивление. Но так случилось, что вернулась домой я не скоро.
Пришло на курсы распоряжение – трех лучших учениц направить в Арктику на зимовки. Я-то была по отметкам пятая, но третья побоялась ехать и обменялась со мной. И отправилась она в Кременье, а я – на Землю Франца-Иосифа.
Про Арктику говорить не буду, вы меня не про то спрашивали. Все повидала – белых медведей, пургу, трехмесячную ночь, полярное сияние. Жили хорошо, потому что коллектив был дружный. Особенно мне понравился один парень – Шурка-радист, веселый такой, славный. Мы с ним крепко подружились и, когда вышел срок, решили еще раз вместе зимовать; съездить на Кавказ, в Москву, в Кременье, а потом в Арктику.
И вот, как раз когда мы ехали в поезде из Архангельска, Шурка услышал по радио, что на Луне будет комсомольская зимовка. Услышал и загорелся – “Давай подадим заявление”. Он такой у меня выдумщик! Я говорю: “Шура, туда людей с отбором пошлют. Какие у нас особые заслуги? Я простой повар, ты простой радист”. Но он упрямится: “Я не простой, я радист первого класса, у меня значок отличного полярника. Радисты везде нарасхват”. Уговорил… Написали мы заявление и снесли в комитет, проезжая через Москву. По правде, я не надеялась совсем, потому что мой номер был 14325, а у Шурки – 14324.
Но вышло иначе. Не успели мы уехать, приносят мне в гостиницу повестку: Марию Алексеевну Кремневу меня, значит, – просят явиться в одиннадцать ноль-ноль в райком комсомола к товарищу Платонову.
Бегу, ног под собой не чую. Принимает меня этот Платонов, обходительный такой, называет по имени отчеству, спрашивает, как я работала в Арктике, какой у меня стаж – по работе и комсомольский, – есть ли взыскания. Потом говорит:
“Полагаем мы, Мария Алексеевна, что вы подходящий для нас кандидат. И диплом у вас, специальное образование, и опыт работы на зимовке, а на Луне условия сходные. Но должен разъяснить вам заранее: полетят на Луну всего-навсего пять человек. Посылать с ними особого повара нет никакой возможности. Надо будет вам взять на себя все хозяйство – приготовить, и посуду помыть, и убрать, и постирать, и починить”.
Не могу сказать, чтобы мне понравились такие слова.
У нас на зимовке поговорка была: “В Арктике горничных не бывает”. Подмести, пол помыть, воду принести на это дежурный есть. Очередь подошла – сам начальник дежурит, не стесняется. Я так и сказала в глаза товарищу Платонову:
“Кто на Луну поедет, белоручки или комсомольцы?
И с каких пор комсомольцам прислуга нужна?”
А он в ответ:
“Мы вас неволить не собираемся. Подумайте, взвесьте. Но поймите одно обстоятельство. Дом, в котором мы сейчас с вами сидим, обошелся государству в сто тысяч рублей. А если вы возьмете карандашик и посчитаете, получится, что каждый трудодень ученого на Луне станет нам в две тысячи рублей. Не хотим мы эти деньги тратить на дежурства, потому и посылаем на Луну не просто повара, а доверенного человека, чтобы берег нам драгоценные часы. Подумайте об этом до утра, а завтра по телефону позвоните, только не задерживайте, чтобы мы другую кандидатуру могли подыскать”.
Бегу я к Шурке и каждое слово повторяю, боюсь растерять. Гляжу, Шурка мой сидит темнее тучи, а в руках у него открытка: “Уважаемый товарищ, ввиду того, что в настоящее время на Луне не требуются радисты.” В общем, отказ по всей форме.
Как мне быть? И Шурку жалко, и ехать хочется.
Такая мне честь – из четырнадцати тысяч выбрали, все равно как по лотерее выиграла. Отказаться обидно, а любовь потерять еще обиднее. Ведь вы, мужчины, самолюбивые, хотите себя перед девушкой показать. А тут мне честь, а Шурка в тени.
Но Шурка, он хороший у меня, правильный, по-настоящему рассудил, без зависти. Он так сказал:
“Если бы ты меня не пускала, я бы не послушал, и я тебя удерживать не буду. Только ты запоминай все подробности, все мелочи пересказывай, чтобы я почувствовал, как будто сам я на Луну съездил”.
На том и порешили. А на следующий день я позвонила товарищу Платонову и тут же начала тренировку.
Маруся смолкла. Очевидно, она считала, что исчерпывающе ответила на заданный вопрос, каким образом она попала на Луну. Но, по-моему, самое интересное только начиналось.
– Ну и как, тяжело показалось вам на Луне? – спросил я.
Маруся рассмеялась:
– Если вы в прямом смысле спрашиваете, на Луне даже очень легко. Перед отъездом я весила пятьдесят пять кило, а на Луне это девять кило с небольшим. На Луне я поднимала двух парней сразу – одного правой рукой, другого – левой. Два пятипудовых мешка с мукой тащила по лестнице вверх. Школьницей на районных соревнованиях я получила грамоту за прыжки в длину. Но таких результатов, как на Луне, я не показывала никогда – овраг в двадцать метров перепрыгивала с разбега. Сначала страшилась, удивлялась, потом привыкла, даже земной глазомер потеряла. Здесь, в Кременье, то и дело хочется через дома прыгать. В первые дни с горы скатилась, ободралась вся…
От этой легкости и работать нетрудно. Себя самое носить легче, не устаешь. Но жить на Луне очень скучно, куда хуже, чем в Арктике. Сидишь взаперти в герметическом домике, внизу четыре комнаты, наверху, под куполом, склад. Наружу выходишь только в скафандре, а выйдешь – не на что смотреть: пыль и камень, камень и пыль. Как вам сказать, на что похоже? Видите за рекой у электростанции горы шлака? Вот и представьте таким шлаком, сыпучим и скрипучим, темно-серым или ржавым, засыпано все кругом на тысячи километров. Горизонт на Луне близкий, все время кажется, что ты на холме, а дальше обрыв. Вот стоишь на этом пятачке, глядишь на звездную осыпь. Тишина мертвая, уши как будто ватой заткнуты. Днем жара, хоть блины пеки в пыли, ночью – невиданный мороз. Небо черное днем и ночью, и на нем Земля огромная, ярко-голубая, куда ярче, чем луна в Кременье. Глянешь на нее, и сердце щемит. Отыщешь темную полосу – Атлантический океан, Арктику – она блестит, как будто лампой освещена.
А правее океана и пониже Арктики – родина, Москва и Кременье. На Луне морозище, а у нас лето – август: на лугах пахучее сено, стогометатель работает, в скошенной траве – кузнечики, пройдешь – они из-под ног брызгами. Девушки в машине едут с почетным красным знаменем, за лесом трактор стрекочет, в лесу орехи поспели – гладкие, твердые, с зубчатым венчиком; в прошлогодней листве – грибы, по тенистым оврагам малина. Вспомнишь обо всем, и тоска берет. Куда тебя занесло, Маруся, найдешь ли дорогу домой?
Таким мыслям воли нельзя давать, это я по Арктике знаю. Распустишься, раскиснешь, невесть что в голову полезет. И одно лекарство – работа. Ну, работы у меня не занимать стать. В моих руках хозяйство, как бы семья – самих шестеро, дом в четыре комнаты да еще склад. К ужину так уходишься, не знаешь, куда руки-ноги деть. Но час ужина был для меня за весь день наградой.
У нас такое правило было: за ужином каждый отчитывается за сутки. Первый начинал Костя-геолог. Такой нескладный был, длинноногий, казалось, ноги у него под мышками начинаются. А как он по Луне вышагивал, смех смотреть, словно циркулем Луну мерит. Норма у него была – шестьдесят километров за рабочий день. Когда исходил все окрестности, начал на вездеходе ездить, потом на два дня, на три, на четыре уезжал, да еще такую манеру взял – опаздывать на сутки. Ему говорили: “Костя, пропадешь. Случится что, где тебя искать?” Смеется: “Пустяки, по следам найдете”. Это верно, на Луне ведь дождя и ветра нет, следы в пыли остаются навечно. И сколько Костя их там понаставил считать, не пересчитать.
Этот Костя начинал отчет: был, допустим, к югу от кратера Архимеда, изучал светлые лучи, обнаружил насыпь из породы, похожей на светлые туфы, собрал образцы – самородное серебро, роговую обманку, цинковую обманку… И тут же камни на стол выкладывает.
За ним слово брала Анна Михайловна – Аня, начальник наш. Женщина была у нас на Луне начальником. Видная такая, румяная, черноглазая и с темными усиками, красивая женщина, только полная. А на Луне расплылась выше всякой меры. Ведь там незаметно, свой вес не чувствуешь и одышка не мучит. Я говорила ей: “Анна Михайловна, я для вас отдельно готовить буду – диетическое, посуше, посытнее…” – “Не надо, говорит, Марусенька. И так я неудачница. В любви мне не везет, еще поститься буду”.
Такая приятная женщина, а счастья своего не нашла. Просто слепые вы, мужчины, честное слово! Смеяться любила – как зальется, всех заразит. На гитаре играла, пела; спектакль у нас ставили – “Медведь”, она помещицу изобразила. И работать мастерица: она и начальник, и физик, и химик, и математик. Образцы, которые Костя приносил, она проверяла, смотрела в микроскоп, в пробирках испытывала, заносила в книгу. Опыты придумывала, каждый день новые. На Луне можно интересные опыты проводить. Первое дело – там воздуха нет.
На Земле пустоту добывают с великим трудом, а там ее сколько угодно. Второе – разница температур. На свету – зной, в тени – мороз, сто шестьдесят ниже нуля.
С пустотой – опыты, с теплотой – опыты, со светом, с электричеством, с магнитами. Иной раз такой прибор построит – со шкаф величиной. И все на один-два раза. Включит, запишет цифры и разбирает.
Когда Аня про свои дела расскажет, третья очередь – Сережи-астронома. Вот кто действительно свои две тысячи в день оправдывал. Встанет раньше всех, норовит убежать до завтрака и сидит у телескопа до ужина не евши. Еще телефонную трубку снимет, чтобы его не отрывали.
Сережин телескоп стоял не в доме, а в обсерватории. Установлен был под крышей, чтобы солнце его не нагревало, а в тени на Луне – вечный мороз и тьма. Воздуха там не было, Сережа сидел в скафандре. И вот сидел он там, как привязанный, по двенадцать часов подряд: наводил – фотографировал, наводил – фотографировал.
И опять сначала. А после ужина еще часа четыре проявлял фотографии, измерял и цифры записывал в толстую книгу. А что записывал? Номер звезды, местоположение, величину. Попросту сказать – инвентаризация, на мой взгляд, самое скучное дело. Я так и сказала Сереже откровенно: “Удивляюсь вашему терпению, Сережа”. Но, оказывается, в каждом деле свой интерес. Сережа говорит мне с гордостью: “Мы, астрономы, – разведчики дальних дорог. Луну мы изучили, передали людям на пользование, теперь с Луны прицеливаемся на другие планеты”. Я попросила его показать звезды. Он не важничал, не чинился, позволил глянуть в телескоп. На Луне и так много звезд видно, потому что там небо чище. А в телескопе все небо словно толченой пудрой засыпано.
И каждая точечка – чужое солнце, вокруг него – земли, вокруг земель – луны. Как рассказал мне Сережа, дух у меня захватило. Словно стою я на берегу неведомого океана и плыть мне по нему всю жизнь, или словно в библиотеку я пришла, а на полках миллионы книг, одна другой интереснее, прочла первую про Москву, читаю вторую – про Луну, а все остальное еще впереди.
Был у нас еще один Сережа – инженер. Этого мы звали Сережей-земным, а астронома – Сережей-небесным. Сережа-земной небольшого роста, франтоват, всегда при галстучке, брюки выутюжены, ботинки блестят, в танцах первый кавалер, ночь напролет готов танцевать; пригласит, закрутит до упаду. Зато и в работе горел, мастер – золотые руки. За дом он отвечал, за герметичность, за освещение, отопление, за электростанцию, за обсерваторию, за вездеход, за все скафандры, за все приборы для Аниных опытов. А кроме того, в его руках было радио. И каждый вечер, после ужина, Аня диктовала ему отчет, Сережа передавал его в Москву, а потом сообщал нам земные новости: в Москве физкультурный парад, в Донбассе – автоматическая шахта без людей, на Амуре – новая гидростанция, энергию хотят отражать от Луны и передавать на Кавказ, американцы собираются на Луну – думают высадиться в Море Кризисов (ребята смеются: “Мало им на Земле кризисов”).
А иной раз особые передачи для нас… вдруг от Шурки морзянка с острова Врангеля: “Маруся, помню, жду…”
Так мы и жили. Каждый день – новости лунные, лабораторные, небесные и земные. И, может быть, никто на свете не жил интереснее нас шестерых.
– Шестерых? – переспросил художник. – Аня, Костя, два Сережи и вы. Кто же шестой?
Я не раз замечал, что Вихров внимательнее меня к деталям. Это понятно. Я пишу то, что мне нужно сказать, говорю про нос и предоставляю вам дорисовать лицо. Но художник не может ограничиться носом, ему нужен подбородок, воротник, волосы и все остальное. Конечно, слушая Марусю, Вихров мысленно иллюстрировал ее рассказ. Вот за столом шесть человек. Пять ясны, а каков из себя шестой? Посадить его спиной? А кто он – мужчина или женщина?
Маруся вздохнула.
– Шестым был у нас доктор, Олег Владимирович. Не собиралась я говорить про него, но из песни слова не выкинешь. Расскажу, как было, – незачем нам правду прятать.
Не знаю, как это вышло, то ли просчитались в Межпланетном комитете, то ли сам он был виноват, но доктору у нас было нечего делать. С одной стороны, без доктора как будто нельзя, с другой – в сельской местности по нормам один врач на сто человек, а на Луне нас было шестеро, все молодые и здоровые, болеть не хотят. Были у него свои задания по бактериям и растениям. Но микробы померзли, растения завяли. Аня приглашала доктора помогать ей, просто упрашивала, но он не захотел. Осталось у доктора одно – составлять меню и снимать пробу. И зачастил он ко мне на кухню, не от жадности, а так, от скуки. Скушает ложечку, выпьет глоточек, сядет на ларь и рассказывает.
Сам он был статный, видный и держался солидно, цену себе знал. И рассказывал интересно, но больше про себя – как он жил с отцом, академиком, и знаменитые люди к ним на квартиру ходили, как в институте отличался, как его работы хвалили, как он предложил больные кости на Луне лечить, там, где тяжесть меньше, как выхлопотал себе командировку на Луну. Я слушала с удовольствием, даже еще просила рассказывать. У меня работа не умственная, можно лук крошить и слушать, делу не мешает.
Может быть, он не так меня понял или скука его одолела, в общем, начал он шутки шутить со мной, пришлось разок по рукам дать. Но он ничего, не обиделся. Даже наоборот, ласковые слова говорит. Я вижу, надо объясниться начистоту. Говорю ему: “Доктор, вы себя не тревожьте. Я от скуки в любовь играть не буду. У меня на Земле жених – Шура-радист. А если вам делать нечего, идите помогать Анне Михайловне. Вы с ней пара: она – кандидатскую пишет, вы – кандидат. А у меня восемь классов, курсы поваров”.
Усмехается в ответ: “Смешно рассуждаешь, Маруся, словно продукты взвешиваешь. При чем тут классы и звания? Ты мне нравишься, а на эту бочку я смотреть не могу”. (Это он про Аню так.)
Только забыл он, что в нашем домике перегородки из металла и все насквозь слышно. Вышла я из кухни, вижу – в столовой Аня, бледная, как мел. Напустилась на меня: “Чем занимаешься в служебное время?” Потом заплакала, обняла меня и прощения просит: “Маруся, я сама не знаю, что говорю”.
Так мне жалко ее, а что посоветовать, не знаю. Каким советом тут поможешь?
Все-таки пересилила она себя. А за ужином слышу песни поет. Характер у нее легкий был, отходчивый.
С этой поры прошло совсем немного времени – по земному счету две недели, а по лунному – половина суток: утро, день и вечер. И появилась у доктора забота – больной, а больной тот я.
Все это вышло из-за Сережи-небесного. Как раз было великое противостояние Марса, а это случается один раз в пятнадцать лет. И Сережа каждой минутой дорожил, не обедал, не ужинал, даже на сон время жалел. Жалко все-таки, человек голодный сидит. Я собрала кое-что, надела скафандр – и в шлюз. Это камера такая, где воздух откачивают. Медленно это делается – минут двадцать ждешь. Из-за этого Сережа и не хотел на обед приходить. Наконец откачали воздух, открылась дверь (все это делается без людей, автоматически), побежала я в обсерваторию. И совсем немного осталось, рукой подать, вдруг – щелк, звякнуло что-то по скафандру.
И ногу мне как огнем обожгло. Гляжу, в скафандре дырка, пар оттуда бьет.
Я сразу поняла, в чем дело. В меня угодила метеорная частичка. Такая вредная пылинка, крошечная, а летит быстрее пули раз в пятьдесят. До Земли они не долетают, врезаются в воздух и испаряются, блеснут – и нет. В народе говорят: звездочка упала. А на Луне воздуха нет, там эти частички щелкают по камням. И никакая сталь от них не защита – прошивают насквозь, как иголкой. Дома-то мы были в безопасности, у нас в верхнем этаже был склад – пусть себе стреляют в муку и капусту. Так не повезло мне! Сережа день-деньской в обсерватории, Костя по целым суткам в походах под открытым небом, а я выскочила на пять минут, и на тебе!
Насчет метеоров у нас был специальный инструктаж, как пробоину затыкать. Но, пока я возилась (рукавицы-то у нас неуклюжие, неповоротливые), ногу мне прихватило. Сгоряча я прибежала к Сереже и обратно, а как вышла из шлюза – не могу ступить. Нога опухла, вся синяя, как будто банки ставили. И жар и озноб, лицо горит, и перед глазами зелено.
Доставила я хлопот не одному доктору. Аня за меня обед варила, Сережа-инженер в доме убирал, Сережа-астроном тарелки мыл, Костя на стол накрывал. Совестно мне – лежу, как колода, всем мешаю. И в голове стучит – растратчица я: день пролежала – две тысячи рублей, четыре секунды – гривенник.
Как ребята за работу, я – к плите. Прыгаю на одной ноге – и смех и грех. Поскользнулась, сковородку уронила, сама упала. Прибежала Аня, уложила в постель силком. “Я, говорит, в приказе проведу – лежать тебе и не вставать”.
Но доктор лучше всех был. Компрессы, примочки, микстуры… с ложечки меня кормил, как маленькую, у постели сидя в кресле спал. Побледнел, осунулся, под глазами синяки… и глаза какие-то странные. Я гнала его, не уходит. Говорит – врач у постели больного как часовой на посту. Его только другой врач сменить может.
Однажды проснулась я ночью. Так привыкли мы по-земному говорить: часы сна называли “ночью”. А на самом деле слегла я, по-лунному, вечером, и, пока болела, все время было темно. Итак, проснулась я. В комнате света нет, за окном Земля, голубая, яркая-яркая. И от окна длинные тени, как у нас бывает в лунную ночь. Вижу, доктор перед окном. Шею вытянул, прислушивается.
И верно, трещит что-то снаружи. Я-то знала, это краска от мороза лопается; краска у нас была неудачная, негодная для Луны. Вдруг удар, звонки такой. Не метеор ли? Как вскочит доктор, потом в кресло упал и руками закрылся.
“Доктор, что с вами? – кричу. – Очнитесь!”
Отнял он руки, глаза бегают, лицо земным светом озарено, как неживое.
“Не страшно тебе, Маруся?”
“Почему страшно?”
“А мне страшно. Все мы здесь как приговоренные к расстрелу. Спим, едим, читаем, а в нас небесные пули летят. Вот я начал слово, а договорю ли, не знаю. Влетит метеор в окно, и смерть. Зачем же я учился, защищал диссертацию, в науке совершенствовался, выдумал лунный санаторий для больных детей? Какой здесь санаторий, разве можно детей под расстрел? Всего три месяца мы здесь, и вот – первая жертва. Кто теперь на очереди? Чувствую, что я. К чему мне тогда честь, почет и слава межпланетного путешественника? Не хочу славы, хочу голубое небо, луг с зеленой травой, деревья с листьями. Минуты считаю, а еще месяцы впереди”.
Вижу я – человек не в себе, говорю ему ласково, как детей уговаривают: “Доктор, вы переутомились, вам отдохнуть надо. Опасно повсюду бывает. В Москве улицы переходить куда опаснее. В Кременье, когда гроза в лесу, еще страшнее. Один раз сосна сломалась, упала на просеку, веткой меня по спине хлестнуло. Еще бы шаг – и конец.
А как на войне бывало? Там не глупые небесные пули, а злые, вражеские, с умом направленные. Как же наши отцы в атаку на пули шли? Нужно было, вот и шли.
И наша работа Родине нужна. Сами знаете, не мне объяснять”.
Вздохнул он тяжело.
“Эх, Маруся, ясный ты человек, и душа у тебя здоровая. Полюбила бы ты меня, и я бы рядом с тобой здоровее стал и крепче”.
Что ему сказать на это? Я говорю:
“Доктор, я вас уважаю и помогу как умею, а люблю я Шуру-радиста, я вам про это говорила”.
Усмехнулся он криво и спрашивает с высокомерием:
“Чем же я хуже этого Шуры-радиста?”
“А тем и хуже, – отвечаю в сердцах, – что Шурка полярной ночью песни пел, всех смешил, а вас самого утешать надо. И тем еще, что Шурка мне говорил: “Полюби меня, на руках носить буду”, а вы говорите: “Полюби, чтобы меня спасти”. И еще тем, что Шурка ради меня своим интересом поступился, а вы для своего интереса готовы все забыть и бегом бежать”.
Поклонился он мне с издевкой. “Спасибо, – говорит, – за отповедь”. С тем ушел и дверью хлопнул.
Он ушел, а меня совесть замучила. Нечего сказать, отплатила за заботы. Человек душу обнажил, тоску излил, а ты к нему с поучениями. А сама по зелени тоскуешь? Не снятся тебе серебристые ивы над рекой, зеленые перья лука, крутые капустные головы в распахнутых одежках? На Луне зеленого ничего нет, там все черное, бурое, красноватое. Принесла бы я доктору живую зелень, больше утешила бы его, чем словами.
Запала мне в голову эта мысль, и, как встала я на ноги, вернее, на одну ногу как следует, а на другую кое-как, полезла я наверх, в склад. В склад, кроме меня, никто не ходил. Здесь могла я по секрету приготовить подарок для доктора.
А задумала я очень простое дело: вырастить зеленый лук и доктора свежей зеленью угостить. Вся сложность в том, что на Луне никогда ничего не росло, со всякой малостью там затруднение. Воды даже нет, воду я из технических запасов брала. Там у нас тонны были, ведро-другое не играло роли. Почвы подходящей на Луне тоже нет, вместо песка и глины – каменная пыль, и в ней как бы железные опилки. Извести тоже нет, Костя мне полевой шпат за сорок километров принес. Истолкла я этот шпат в ступке, смешала с золой, со всякими кухонными отбросами, и так получилась у меня земля для рассады.
Со светом опять хлопоты. Солнце на Луне знойное, шлет лучи, губительные для растения. У Сережи-небесного я выведала – он сказал, что оконное стекло защищает от этих лучей. У нас-то окна были кварцевые, но я взяла у Ани битые склянки, поставила между окном и рассадой.
Возни было с этим луком, как на земле с какими-нибудь лимонами. Лунный день долог, может быть, для лука это вредно. Перед сном я окна завешивала. Лунная ночь длинна – для земного лука непривычно, лампу пришлось зажигать. В середине дня духота, жара, в конце ночи – мороз, то поливка нужна, то отопление.
Но удался лук. Сначала не прорастал, а потом пошел и пошел, перья тоненькие, а ростом выше меня, должно быть, лук к земной тяжести приспособлен, а на Луне тяжесть иная, вот и вышел мой лук с кукурузу ростом.
А на вкус не очень хорош – свежий, острый, но сочности нет и хрустит на зубах, как будто в нем песок.
Но все же приятно. У нас на кухне все сушеное и мороженное, свежей зелени с отъезда не видали. Витамины пили каждый день, но все-таки не то.
И вот приготовила я луковый десерт, нарезала, разложила по тарелочкам, добавила соли, уксусу, вареной картошки. Для земной столовой – простейший гарнир, для Луны – праздничное блюдо. Расставила на подносе, несу в столовую… и слышу – в столовой Аня и доктор, и ведут они такой разговор.
Доктор говорит:
“Анна Михайловна, я должен доложить, что у нас есть больной”.
“Но Маруся выздоравливает. Разве ей хуже?”
“Речь идет не о Марусе. Больной я”.
“Чем же я могу помочь вам, доктор? Вам придется вылечить себя самому; в крайнем случае, по вашему предписанию я могу поставить вам банки”.
“Анна Михайловна, я не шучу. У меня полиневрит на почве авитаминоза. На Земле такие вещи легко вылечивают кумысом, свежим воздухом, фруктами. Но лечить надо своевременно, иначе могут быть тяжелые осложнения, вплоть до паралича”.
“Дорогой доктор, принимайте все меры. (Слышу, у нее тревога в голосе.) Сделайте себе анализы, рентген, передадим снимки по радио, на Земле соберут консилиум”.
“Боюсь, что суррогаты не помогут. Нужны природные витамины. Если бы вы заболели, Анна Михайловна, я бы настаивал на немедленной отправке на Землю”.
Ну, думаю, вовремя я пришла. Раскрываю дверь – и к доктору с подносом:
“Вот вам природные витамины, сама вырастила”.
Глянул он на меня, словно кнутом хлестнул: “Уберите, – говорит, – ваш силос”. И Ане через мою голову:
“Я вам доложил, принимайте решение. Если вы нуждаетесь в моем обществе, я потерплю”. Дескать, я знаю, что ты ко мне неравнодушна, хочешь при себе удержать, так смотри, как я буду чахнуть у тебя на глазах.
У Ани губы задрожали, убежала к себе. Я стою с подносом в руках и реву, просто в голос реву, слезы в салат каплют. Обидно мне – так я старалась, так надеялась угодить, утешить доктора, с больной ногой по лестнице ковыляла, а он еле взглянул. “Уберите, – говорит, – ваш силос”.
Ребята прибежали – умывались после работы. Спрашивают, уговаривают, по головке гладят, как маленькую.
А Костя взял из рук поднос, увидел зеленый лук, ест и нахваливает: “Ай да лук, откуда взялся?” После лунной беготни аппетит у него волчий. Пока другие со мной возились, он три тарелочки очистил.
Успокоилась я, повела их наверх в склад, показала весь мой лунный огород. Так хвалили они меня, выше всякой меры. Костя лунной мичуринкой назвал, руку пожал. А у Сережи-небесного уже план: голова у него была с фантазиями. Говорит:
“Превратим наш дом в зимний сад: на окнах – цветы, на столе – цветы, по стенам – хмель, душистый горошек и виноград. Утром проснулся, потянул гроздь и в рот”.
А Сережа-земной его за рукав:
“А вода?”
Верно, вода – это больное место. Растение много пьет – на килограмм сухого веса две-три бочки и больше. На Земле с этим не считаются, а у нас вода драгоценная, из московского водопровода, за четыреста тысяч километров привезена. Пожалуй, выгоднее готовую свеклу везти, чем золотой водой лунную пыль поливать.
Поникла я головой, вижу – фантазия, пустая мечта.
Но парни не сдаются, спорят.
Костя говорит:
“Есть на Луне вода. В Апеннинах, в глубоком ущелье видел я лед”.
“А кто будет его выламывать, из ущелья подымать, доставлять оттуда за Двести километров?”