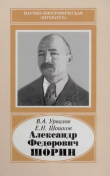Текст книги "Функция Шорина"
Автор книги: Георгий Гуревич
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 3 страниц)
Георгий Иосифович Гуревич
Функция Шорина


Функция Шорина знакома каждому студенту-звездолетчику. Изящное многолепестковое тело, искривленное в четвертом измерении – на нем всегда испытывают пространственное воображение. Но немногие знают, что была еще одна функция Шорина – главная в его жизни и совсем простая, как уравнение первой степени, линейная, прямолинейная.
* * *
По сведениям библиотекарей, каждый читатель в возрасте около десяти лет вступает в полосу приключенческого запоя. В эту пору из родительских архивов извлекаются старые бумажные книги о кровожадных индейцах с перьями на макушке, о благородных пиратах, о мрачных шпионах в синих очках и с наклеенной бородой и о звездолетчиках в серебристо-стеклянной броне, под чужим солнцем пожимающих нечеловеческие руки – мохнатые, чешуйчатые, кожистые, с пальцами, щупальцами или присосками, голубые, зеленые, фиолетовые, полосатые… Все мы с упоением читаем эти книги в десять лет и с усмешечкой – после шестнадцати. От десяти до шестнадцати мы постепенно проникаемся чувством времени: начинаем осознавать XXII век – эпоху всеобщего мира, понимаем, что томагавки исчезли и шпионы тоже исчезли вместе с последней войной; очки исчезли тоже, как только появился гибин, размягчающий хрусталик и мышцы глаза. Узнаем, что на дворе эпоха термоядерного могущества, люди легко летают на любую планету и переделывают природу планет – своей и чужих, но, к сожалению, не могут прорваться к другим солнцам, где проживают эти самые чешуйчатые или мохнатые. Узнаем, смиряемся, находим другое дело, не менее увлекательное, чем ловля шпионов или полет к звездам.
А Шорин не смирился.
На его полке стояли только книжки старинных фантастов XX века, звездные атласы, карты планет. На стене висели портреты Гагарина и Титова. Шорин даже переименовал себя – назвал Германом в честь Космонавта-два. Зная, что в космосе нужны сильные люди, мальчик тренировал себя, приучал к выносливости и лишениям – зимой спал на улице, купался в проруби, раз в месяц голодал два дня подряд (что совсем не считается полезным), раз в неделю устраивал дальние походы – пешком или на лыжах, по выходным летал на Средиземное море и проплывал там несколько километров, с каждым годом на два километра больше.
И однажды это кончилось плохо.
В тот сентябрьский выходной он наметил перекрыть свою норму, поставить личный рекорд. День был прохладный, ветреный, совсем не подходящий для дальнего плавания. Но космонавты не меняют планов из-за плохой погоды. Герман заставил себя войти в воду.
У берега море было гладким, за отмелью начало поплескивать. Качаясь на волнах, юноша подумал, что ветер дует с берега, возвращаться назад будет труднее. Но «космонавты не меняют решения в пути». Шорин приказал себе плыть дальше.
Дальнее плавание – занятие монотонное. Толчок, скольжение, оперся ладонями на воду, поднял голову, вдохнул, широко раскрыв рот, выдохнул в воду, булькнул воздухом, гребок, толчок, скольжение. И снова, и снова, и снова. Тысячу, две тысячи, три тысячи раз. Движения плавные, без особых усилий, рот набирает воздух, мускулы напрягаются и расслабляются, но голова не занята, мысли идут своим чередом:
МЕЧТА 1
В последнюю минуту, когда скорость ничтожно мала, капитан садится за штурвал. Быть может, понадобится неожиданное решение, в электронном мозгу не предусмотренное.
Капитан молод, но лицо у него волевое, твердо сжатые губы, нахмуренные брови. Все смотрят на него с уважением, ему доверяют жизнь.
Капитана зовут Герман Шорин, конечно.
Ниже. Ниже. Еще ниже. Когтистые стальные лапы ракеты впиваются в раскаленный песок.
Корабль стоит на чужой, неведомой планете.
Над головой их солнце – яркий и горячий апельсин. По апельсиновому небу плывут облака – белые и оранжевые. Ближе к горизонту небо кровавое, даль багровая, как будто вся планета охвачена пожаром. Но капитан не боится. Он знает, что никакого пожара нет. Атмосфера тут плотнее земной, рассеивает другие лучи.
Оранжевое, алое, багровое. Край зноя и страсти!
Капитан надевает скафандр. Его право и его обязанность – первым ступить на неизвестную планету.
И вот магнитные подошвы отпечатали первый человеческий след.
Справа что-то белое. Похоже на снег. Снег при такой жаре? Может быть, пласты соли? Капитан скользит по воздуху – крылатая тень ныряет по песчаным холмам. Оказывается, белое – лес. Деревья и травы спасаются от зноя, отражая все световые лучи. Почти все. У каждого листочка свой оттенок – голубоватый, розоватый, радужный. Лес перламутровый, он переливается нежной радугой Каждая травка – как древнее ювелирное изделие.
За лесом – обрыв и море. Апельсиновые волны с натуральной пеной. Темно-багровая даль. Море тоже охвачено пожаром.
Шум, движение, пена, плеск. Только разумных существ нет на этой беспокойной планете.
И вдруг в прозрачных волнах человеческая фигура. Голова, руки, торс… А ноги? Рыбий хвост вместо ног? Возможно ли? Русалка как в сказке!
Привет вам, разумные русалки с планеты Сказка!
Если закрыть глаза, можно представить себе, что ты плывешь по оранжевому морю. И рядом с тобой русалка, зеленоглазая, с волосами, как водоросли. И можно коснуться ее руки, нежной и сильной. И в ушах не бульканье пузырей, а мелодичное пение.
Но волны становились все выше, угрожающе шумели пенными гребнями. Уже нельзя было скользить механически, требовалось внимание и расчет, чтобы под каждый гребень нырнуть выдыхая, а вынырнув за волной, набрать воздух. Монотонное занятие стало нелегким и утомительным. Шорин сбивался с дыхания и ругал себя: «Эх ты, звездоплаватель! Полдороги не проплыл и уже устал».
Полдороги обозначали три скалы, голые и кривые, уродливые, как испорченные зубы. Юноша измерял расстояние локатором – пять километров до скал, пять – обратно. Но вот и скалы. Подплыл, повернул, даже приободрился. Зато волны плескали теперь в лицо. Напряг усилия. Минута, другая. Что такое – скалы не удалились? Прибавил сил, пять минут не оглядывался. Наконец позволил себе посмотреть – скалы на том же месте. Решил тогда плыть под водой – нырять и выныривать. Так удалось продвинуться, но дыхание срывалось и сердце колотилось. И тут в довершение бед пришла судорога, одна нога сложилась, как перочинный ножик.
Шорин не пошел ко дну, он был слишком хорошим пловцом. Он продержался, пока судорога не прошла, он даже отдалился от скал. Но сил уже не было, и вечер приближался. Юноша плыл осторожно, толкаясь одной ногой, боялся новой судороги. Сначала боялся, потом отчаялся, потом ему стало все равно, лишь бы не двигаться. И песчаное дно уже казалось соблазнительной постелью: лечь бы и отдохнуть. Но он плыл и твердил себе: «Не смей тонуть! Держись, слюнтяй! Ты не имеешь права тонуть, не для того тебя учили, воспитывали.; А еще в звездоплаватели собирался, Германом себя назвал! Позор!»
Знобило. Руки стали как тряпки, челюсть болела от многочасового разевания. Сил не было совсем. Юноша плыл, но не верил, что проплывет еще четыре километра.
Потом ему пришло в голову – вам, читатели, это пришло бы в голову быстрее – отдаться на волю волн, пусть несет к скалам. За скалами, под ветром, прибой должен быть тише, и там можно попытаться влезть. Он решил не плыть к берегу… С пятой попытки, исцарапанный и ободранный, он взобрался на среднюю скалу. Просидел там ночь до утра и на рассвете приплыл к берегу, уже больной, с воспалением легких. С пневмонией в XXII веке справлялись без труда, но памятку Герман получил – хронический насморк на всю жизнь.
«Пусть это послужит уроком тебе, – сказала потрясенная мать. – Не лезь очертя голову на опасность».
«Пусть это послужит уроком тебе, – сказал учитель. – Не переоценивай свои силы, не надейся на себя одного, не рискуй в одиночку».
А юноша понял урок по-своему. Тонет тот, кто позволяет себе утонуть. Ведь он же не позволил и остался жив. Потому что знал: не на корм рыбам его учили, воспитывали. Никто не имеет права погибнуть, пока не выполнил свое назначение, цель, свою «функцию», как он выражался позже.
Вот у него есть функция – стать звездоплавателем, открыть разумные существа в космосе, положить начало Всегалактическому Братству. И он не погибнет, пока не выполнит функцию.
Юноша уверился в своих силах и по окончании школы отправился в Институт астронавтики.
Но неумолимая арифметика встала на его пути.
Из миллиарда молодых людей, кончивших школу в том году, двести миллионов по крайней мере мечтали о космосе. А требовалось двадцать тысяч человек, не более. Из нескольких миллионов безукоризненных во всех отношениях, превосходно подготовленных кандидатов институт отбирал студентов… стыдно сказать… по жребию. Но костлявого, долговязого, несколько хмурого парня, по имени Герман Шорин, не было даже среди кандидатов. Его забраковали из-за насморка. Хватало людей со здоровой носоглоткой.
199 миллионов 980 тысяч отвергнутых смирились с неудачей, подыскали себе нужные и интересные занятия на Земле. Шорин не смирился. Он поселился в Космограде, взял первую попавшуюся малоинтересную работу (работы тогда уже разделялись на интересные и малоинтересные) и три раза в неделю обходил Космические управления, справляясь, не освободилось ли место, какое угодно. Ему отказывали, сначала вежливо, потом с усмешкой, даже с раздражением, потом привыкли, стали окликать, благодушно подбадривать. И однажды в Санаторном управлении судьба улыбнулась юноше. «Ты сходи в космическую клинику, – сказали ему. – Там сиделки требуются в отъезд».
Шорин совсем не рвался ухаживать за больными. Но что делать: ради космоса надо идти на все. Кто знает, на кого похожи небожители – на русалок или на осьминогов. Слизистые с присосками щупальца тоже не так приятно пожимать. И Шорин пошел в сиделки, а когда понадобилась сиделка на Луну, отправили его. Не потому, что он был лучшим, а потому, что другим лететь не хотелось.
Сиделками обычно работали женщины пожилые и семейные. А матери семейства не так уж хочется, бросив дом, мчаться на Луну или на Марс.
Так отверженец с хроническим насморком оказался в космосе и даже раньше тех, кто выиграл это счастье по жребию. И еще крепче поверил он в свою функцию. Явно же: судьба ведет его на звездную дорогу.
Своими глазами увидел он голубой глобус на фоне звезд, глобус в полнеба величиной, с сизыми кудряшками облаков и с бирюзовым бантом атмосферы. И другой мир увидел – латунный, с круглыми оспинами, как бы следами копыт, как бы печатями космоса. Голубой глобус съежился, а латунный вырос, занял небосвод, подошел вплотную к окнам, сделался черно-пестрым, резко плакатным. Такой непохожий на нежно-акварельную Землю! Все это выглядело великолепно, прекраснее и величественнее, чем на любой иллюстрации, втиснутой в страничку, чем на любом экране, ограниченном рамкой. Юноша был очарован… и разочарован немножко.
Разочарован, потому что дело происходило в XXII веке. Билет юноша заказал по радио, получил место в каюте лайнера. Рядом с ним сидели старики, ехавшие на Луну лечиться от тучности. Проводница в серебряной форме принесла обед. Поели, подремали, потом прибыли на Луну, из каюты перешли в лифт, из лифта – в автобус, оттуда – в шлюз-приемник гостиницы, получили номер с ванной. А за окном номера был Селеноград, прикрытый самозарастающим куполом: дома, улицы, сады, в садах – лунные цветы, громадные, с худосочными стеблями. И молодые селениты срывали эти цветы, подносили девушкам, а девушки прятали румяные щеки в букеты.
Уже не Земля и не совсем еще космос. Дальше надо было идти.
Но опять перед Шориным стояла стена, та же самая – арифметическая.
Примерно двести тысяч человек трудились в те годы в космосе, половина из них – на Луне: на космодроме и вокруг космодрома – в обсерваториях, лабораториях, на шахтах, энергостанциях, заводах… а также в санаториях и на туристских базах.
Из ста тысяч не более ста человек уходили в дальние экспедиции, на край или за край Солнечной системы. Обычно это были заслуженные ученые: астрономы, геологи, физики…
Стать заслуженным ученым? Иной раз жизни не хватает.
Одну только лазейку нашел Шорин, одну слабую надежду. Иногда в дальние экспедиции, где экипаж бывал невелик, требовались универсалы, мастера на все руки: слесарь–токарь–электрик–повар–астроном–вычислитель–санитар–садовод в одном лице, подсобник в любом деле. И юноша решил стать подсобником-универсалом.
Он кончил на Луне фельдшерскую школу, курсы поваров, получил права летчика-любителя, сдал курс машинного вычисления и оранжерейного огородничества, научился работать на штампах и монтажных кранах. Некогда, до появления машин-переводчиков, существовали на Земле полиглоты, знавшие десять–пятнадцать–двадцать языков. Гордясь емкой памятью, они коллекционировали языки, ставили рекорды запоминания, как спортсмены. Шорин стал полимастером, он как бы коллекционировал профессии. Сначала его обучали с охотой, потом с удивлением и с некоторым раздражением даже («Тратит время свое и наше. Спорт делает из учения»), а потом с уважением. Людям свойственно уважать упорство, даже не очень разумное. В Селенограде жило тысяч десять народу, каждый чудак был на виду, Шорин со временем сделался достопримечательностью («Есть у нас один, двенадцать дипломов собрал»). О нем говорили приезжим, и разговоры эти дошли до нужных ушей.
В одну прекрасную ночь, лунную, трехсотпятидесятичасовую, молодого полимастера пригласил Цянь, великий путешественник Цянь, теоретик и практик, знаток космических путей. Уже глубокий старик в те годы, он жил на Луне, готовясь к последнему своему походу.
– Но у меня хронический насморк, – честно предупредил Шорин. – Я не различаю запахов. Любая комиссия меня забракует.
Цянь не улыбнулся. Только морщинки сдвинул возле щелочек-глаз.
– Планетологи по-разному выбирают помощников, – сказал он. – Одни предпочитают рекордсменов, ради выносливости, другие – рисовальщиков, ради наблюдательности. Те ищут исполнительных, хлопотливо-услужливых, те – самостоятельно думающих, иные считают, что важнее всего знания, и выбирают эрудитов. У меня свое мнение. По-моему, в космос надо брать влюбленных в космос. Тот, кто влюблен по-настоящему, сумеет быть спортсменом, эрудитом, услужливым и самостоятельным.
– Разве каждый может стать рекордсменом? – спросил Шорин.
– Если влюблен по-настоящему, станет.
Так случилось, что Шорин второй раз выиграл в лотерее: из миллиона один попал на Луну, из тысячи лунных жителей один – в экспедицию.
Выиграл в лотерее или заслужил? Как по-вашему?
Он ходил счастливый и гордый, даже голову держал выше. Думал: «Столько людей вокруг – умных, талантливых, ученых, опытных, – а выбрали меня, мальчишку. Если вслух объявить, не поверят, кинутся расспрашивать, даже позавидуют». В своей прямолинейности Шорин был убежден, что все люди рвутся в космос, космонавтов считают счастливчиками, себя – второсортными неудачниками. Он даже удивился бы, узнав, что другие искренне мечтают быть артистами, писателями, врачами или инженерами.
Так Шорин вышел на звездную дорогу.
МЕЧТА 2
Молодой капитан сидит у моря на оранжевой планете.
Небо похоже на костер, облака – языки пламени, горизонт – как догорающие угли. А море спокойное, нежно-абрикосовое. И в абрикосовой ряби качается русалка.
Прозрачные струи перебирают ее волосы, и пузырьки пены лопаются на молочно-белых плечах. Удлиненные глаза смотрят на Шорина серьезно, без тени страха, без удивления даже, не то изучают, не то гипнотизируют.
Капитан любуется, водит глазами по чистому лбу, ровным бровям, нежно-розовым губам, удивляется ушку – такому маленькому, безукоризненному и сложному, словно неживому, словно выточенному из слоновой кости.
Потом спохватывается. Разумное ли это существо? Надо объясниться с ним. Он чертит на песке квадрат, треугольник, ромб, шестиугольник в круге, пифагоровы штаны. Геометрию должны понимать все. Законы геометрии едины в нашей Галактике.
– Не надо. Я читаю твои мысли.
Кто это сказал? И еще по-русски! Не русалка же. Тем более, что лицо ее в воде, даже на глаза набежала волна. И вновь слова отдаются в мозгу:
– Ты удивлен, что я кажусь тебе красивой. Но законы красоты едины в нашей Галактике. И законы радости, любви и счастья.
– А что такое счастье? – спрашивает капитан. Русалка улыбается загадочно, как Джиоконда.
– Самое большое счастье вдалеке. Счастье – это горизонт. Счастье – это то, к чему тянешься и не можешь дотянуться. Счастье – это мечта. Вот я мечтала о друге, который ради меня пришел бы со звезды, пел бы мне песни, рассказывал легенды о небесных полетах.
Сердце замирает у юного капитана.
– Но я пришел со звезды, – говорит он.
Шорин не знал тогда, как удачно попал он в экспедицию, не знал, что Цянь, старик с короткой седой щетиной на темени, – тот же Шорин, только кончающий жизнь.
Учебники истории космоса называют Цяня последним из великих открывателей. В Солнечной системе, изъезженной вдоль и поперек, не так уж много осталось белых пятен к XXII веку. Но Цянь отыскивал их с рвением и с мастерством. Он открыл Прозерпину, последнюю из заплутоновых планет, он нырял в глубины Юпитера, обнаружил там своеобразную газовую жизнь – воздушных гигантских амеб, плавающих в газе, сжатом до пятисот атмосфер. Цянь посетил семьдесят семь астероидов, из тех, где не ступала нога человека, а теперь собирался проехаться на комете.
Он только поджидал комету посолиднее, не из числа короткопериодических, снующих между Солнцем и Юпитером и тоже изученных давным-давно. Цяню нужна была большая комета издалека, посещающая Солнце раз в тысячу или в сто тысяч лет. Среди них он думал найти чужестранные, захваченные Солнцем обломки неких планет… и хотелось бы – с остатками жизни, чужой, не под Солнцем рожденной.
Но такие кометы приходят не так часто и обычно неожиданно. Экспедиция готовилась заранее. На складах Селенограда громоздились штабеля ящиков и баллонов, участники экспедиции были подобраны, сидели на чемоданах…. а цели не было, где-то она еще пробиралась в межпланетных просторах, еще не попалась в зрачок телескопа, не развернула свой павлиний хвост.
Ждали, ждали, ждали! И вдруг известие: приближается крупная комета, пересекла пояс астероидов, подходит к Марсу. В тот же час экспедиция начала погрузку, а еще через неделю, заслоняя звездный бисер, на ракету надвинулась ноздреватая гора со шлейфом скал, беззвучно сталкивающихся друг с другом, с вихрями искристой пыли. Ракета со скрежетом врезалась в эту пыль, окна сразу стали матовыми от мелких уколов…. Нащупав локаторами пропасть, ракета спрятала свой нос в теле горы.
И вот люди на комете. Летающая гора, километров шестьдесят в поперечнике, так она и представляется глазу – одинокой горой, плывущей по звездному морю. Изломанные глыбы камня и железа, в углублениях – мутный пузырчатый лед, водяной, углекислый, углеводородный, аммиачный. Газы тверды, потому что температура гораздо ниже двухсот градусов мороза. Но комета идет к Солнцу, Солнце греет, с каждым часом теплее. Лед дымится… невидимые пары подымаются над скалами…. и темное небо загорается. Бледно-зеленые, соломенно-желтые, малиновые и сиреневые полосы играют над звездной горой. Колышется многоцветный занавес, цветные лучинки собираются в пачки, в стога, зажигается холодный костер. Комета плывет в праздничном фейерверке, все небо ее охвачено полярным сиянием. А с Земли это выглядит туманным пятнышком – зарождающимся хвостом.
Много позже, когда Цянь умер, Шорин узнал, как близки были его мечты и мечты старого космонавта. Даже на дневнике экспедиции вместо эпиграфа стояли такие стихи:
Письмо о космической дружбе,
Запечатанное морозом,
Доставит посыльная
В газовой фате.
Вот почему в экспедиции было так много биологов, вот почему с первых же дней начались поиски водяного льда: осколки льда таяли в пробирках, окуляры микроскопов нацеливались на каждую каплю.
Вода, углеводороды, углекислый газ, солнечные лучи. Почему бы не проснуться жизни на комете?
И жизнь была найдена: недвижные палочки, содержащие воду, жиры, белок и нуклеиновую кислоту-какое-то подобие бактерий.
Потом комочки в игольчатых кремневых панцирях – вроде земных корненожек.
Потом – еще глубже – ветвистые колонии этих игольчатых комочков, вероятнее – аналогия полипов.
И все это в каждой капле, тысячи видов, десятки тысяч форм, миллионы и миллионы экземпляров для микрозверинца. По четырнадцати – шестнадцати часов сидели биологи перед экранами микроскопов. Четырехчасовой рабочий день остался на Земле. Ведь не было же смысла везти на комету тройной экипаж с тройными запасами только для того, чтобы участники могли отдыхать по-земному.
Что делал Шорин? Все! Готовил, кормил увлеченных микроскопистов, помогал завхозу, механикам, электрикам, кибернетикам, ходил (точнее – плавал в почти невесомом мире) с геологами за образцами, долбил шурфы, носил лед в термосе, составлял ведомости, надписывал наклейки, хранил банки с образцами, укладывал коллекции в контейнеры.
Нумерованные банки, нумерованные камни, нумерованные прошитые листы. Часто Шорин сам не знал, что у него в банках и в ящиках. Даже научные сотрудники знали поверхностно, потому что в экспедиции некогда было разбираться, торопились набрать побольше материала для земных исследователей, набрать факты для будущих размышлений. А в распоряжении фактоискателей было не так много времени – месяца два, пока комета шла от орбиты Марса к орбите Меркурия. Затем предстояло поспешно бежать от огненного дыхания Солнца.
Надписывая банки, Шорин вспоминал детские мечты. Они казались такими наивными! Сейчас у него осталось одно желание: как следует выспаться. Но он знал, что держит экзамен на космонавта. Должен показать себя выносливым, как рекордсмен, наблюдательным, как художник, любознательным, самостоятельным и услужливым. И Шорин не позволял себе поддаваться усталости. Он первым брался за самый тяжелый ящик, первым вскакивал, когда вызывали желающих в необязательный и всегда опасный поход, работал всех больше и всех больше задавал вопросов. Товарищи считали его двужильным, некоторые осуждали, называли выскочкой. Быть может, он и был выскочкой, ведь он же хотел выделиться, заслужить рекомендацию в следующую экспедицию.
А старый Цянь все подмечал. И однажды сказал:
– Хорошо, сынок. Притворяйся и дальше неутомимым.
Шорин был в отчаянии. Значит, Цянь разоблачил его. Видит его насквозь – усталого, умеренно выносливого, умеренно смелого, среднесообразительного человека с хроническим насморком, пытающегося подражать героям.
Но у Цяня была своя логика. Это выяснилось вскоре.
Экспедиция подходила к концу. Орбита Меркурия осталась позади. Косматое, непомерно разросшееся Солнце нещадно палило комету. Приближался пояс радиации, небезопасный даже в XXII веке. Пора было, не дожидаясь лучевых ударов, эвакуировать комету. Но как раз к этому времени лед на комете растаял и началась весна жизни – не в пробирках, а в лужах и озерках.
Видимо, приспособившаяся к кратковременному лету жизнь развивалась бурно и агрессивно. Зеленая, голубая и красная плесень полезла из луж на скалы. Микробы грызли металл, резину и пластмассу, проникали в скафандры, покрывали кожу пузырями и язвами. На поверхности луж плавали какие-то пленки, появились прозрачные мешочки, похожие на медуз, все более сложные. Ничего подобного не наблюдалось в пробирках.
Приходилось все это бросать, не досмотрев самого интересного.
И Цянь принял решение: пойти на риск, но не всем. Большинство переправить на Меркурий с собранными коллекциями, на комете оставить дрейфующую партию – четверых из сорока шести. Он остался сам, оставил биолога Аренаса, биохимика Зосю Вандовскую… и мастера на все руки, притворявшегося неутомимым.
Знал ли Шорин о риске? Знал, конечно. Но в молодости как-то не веришь в возможность гибели. К тому же путешествие на комете он считал только ступенькой, до функции было еще далеко.
Что было дальше, вы знаете сами. Во всех детских хрестоматиях рассказывается о дрейфе четырех на комете. Они прошли на расстоянии полутора миллионов километров от Солнца – в сто раз ближе, чем Земля. Ослепительный диск занимал теперь четверть неба, обугливал ткани, оплавлял камни. Пятна, факелы, даже рисовые зерна были видны без телескопа, через толстые черные стекла, конечно. Трижды спутники спасались от хромосферной вспышки на оборотную сторону кометы. Гигантский протуберанец достал их однажды, комета нырнула в раскаленный туман. Люди облачились в неуклюжие сверхскафандры антирадиационной защиты с дельта-слоем и укрылись в пещере, и как раз по этой пещере прошла трещина – ядро кометы лопнуло, раскололось надвое. Три человека остались на одной половине, Вандовскаяна другой. Шорин прыгнул вперед, подхватил растерявшуюся женщину, кинул ее через зияющую трещину, перелетел сам.
Нет, романтическая любовь к спасителю не возникла. Зося любила Аренаса, потому и осталась с ним на комете.
Комета, видимо, никогда еще не проходила сквозь протуберанец, жизнь на этот раз была выжжена дотла. Уцелели только четверо в скафандрах, но потеряли дом, припасы, коллекции, дневники, все, кроме того, что было в скафандрах, – семидневного запаса воздуха, воды и пищи.
Радиосвязи не было. Солнце нарушило радиосвязь, и люди на Земле, глядя на двойное яркое светило, гадали, на каком из них будут найдены обгоревшие трупы. Ракета с Меркурия повернула к той половине ядра, которая двигалась быстрее и шла впереди. Цянь с товарищами находились на второй. У них кончилась пища, кончилась вода. Они сидели неподвижно, стараясь дышать пореже, экономить воздух. Было решено: Цянь и Аренас отдадут свой кислород женщине и юноше. Шорин ушел тайком в сожженный лагерь и разыскал там уцелевший баллон с кислородом – еще на три дня…
Их сняли с кометы к концу третьего дня.
Шорин стал знаменитостью наравне с Аренасом и Вандовской. Заслуженно ли? Сами судите. Конечно, если бы Цянь выбрал другого в спутники, знаменитостью стал бы тот. Весь мир жаждал познакомиться с Оседлавшими Комету. Но Цянь болел, а Вандовская с Аренасом поженились, им вовсе не хотелось проводить медовый месяц перед экраном телевизора. Шорин читал лекции, диктовал записки, делился воспоминаниями. Он мог свернуть на легкий путь мемуариста, мог отправиться в любую экспедицию на выбор, его приглашали наперебой. Но он воспользовался своей славой, чтобы овладеть еще одной специальностью: стал летчиком-испытателем фотонолетов.
Небольшое пояснение. Века XIX и XX были эпохой химической – молекулярной – энергетики. Энергия добывалась тогда за счет соединения атомов в молекулы, реже – за счет распада больших молекул. При горении получались скорости газов около двух – четырех километров в секунду, и химические ракеты пролетали километры в секунду – достаточно для любого путешествия над Землей и для первоначального выхода в космос.
К концу XX века началась ядерная эпоха. Теперь энергию давали атомные ядра – распад больших ядер (например, урана) или соединение частиц в ядра – например, в ядро гелия. При ядерных реакциях скорость частиц – тысячи и десятки тысяч километров в секунду, и скорость ядерных ракет постепенно дошла до тысячи километров в секунду, что вполне достаточно для любого путешествия по Солнечной системе. Но даже до Альфы Центавра, до ближайшей из ближних звезд, ядерная ракета летела бы тысячу лет.
Ради звездных полетов энергию надо было доставать еще глубже – от атомных ядер переходить к их составляющим, к частицам: протонам, нейтронам и к электронам тоже.
При реакциях частиц получаются фотоны, и только они способны разогнать ракету почти до скорости света – до трехсот тысяч километров в секунду.
Фотонная ракета могла бы долететь до ближайшей звезды за четыре года с небольшим.
Вот почему звездный мечтатель Шорин решил пойти испытателем на фотонолеты.
«Само собой разумеется», – скажет читатель.
Но во времена Шорина это не разумелось само собой. О фотонной ракете люди думали уже двести лет, и не было гарантии, что Дело не затянется еще лет на сто.
Реакция синтеза в мире частиц была известна давным-давно. Электрон, соединяясь с антиэлектроном (позитроном), дает два фотона. Это соединение неудачно было названо аннигиляцией – уничтожением.
Но антиэлектронов и вообще антивещества в природе ничтожно мало, изготовить его трудно, еще труднее сохранить. Двести лет ученые старались создать двигатели на антивеществе, двести лет взрывы губили и замыслы и ученых.
И только к концу XXII века, когда Шорин был уже на Луне, удалось подойти к фотонолету с другой стороны, не соединяя частицы, а расщепляя их.
Но Шорин никак не мог знать, когда получится корабль – через год или через сто лет?
Истина оказалась посредине. Шорин пробыл в испытателях восемнадцать лет – всю свою молодость.
Жил он на базе на Ганимеде, летал в пустоте, подальше от планет, подальше от трасс, не в плоскости Солнечной системы. Фотонолет был капризен и кровожаден; как древний мексиканский идол, он пожирал испытателей одного за другим. Иногда распад управляемый переходил в самопроизвольный, тогда от аппарата и летчика оставалась секундная вспышка. Часто сбивался режим расщепления: вместо безвредных заданных лучей получались слишком жесткие, и летчики гибли из-за лучевой болезни, или получались лучи тепловые, и зеркало плавилось, или возникал резонанс, и аппарат рассыпался от ультразвуковых колебаний, летчик неожиданно оказывался в пустом пространстве, на кресле и среди звезд.
Шорин был на волосок от смерти не раз и остался цел. Сам он был уверен, что не погибнет, не имеет права взорваться, не выполнив функции. Весь космос посмеивался над чудаковатым суеверием знаменитого испытателя. Вероятно, смеетесь и вы… а может, не стоило подшучивать? Ведь в самые грозные и опасные секунды Шорин никогда не думал: «Неужели смерть? Прощай, милая жизнь!» И он не тратил секунду на сомнения, искал, что предпринять… Конечно, уверенность прибавляла ему шанс на спасение.
Не для того копил он мастерство, чтобы разлететься на атомы. Иная у него функция: