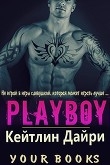Текст книги "Ордер на молодость(сборник)"
Автор книги: Георгий Гуревич
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 17 страниц)
Я помертвел. В груди оборвалось, руки опустили крылья. Провалился, дух не мог перевести. Когда опомнился, догонять пришлось. Уж и не помню, что лепетал.
«Ничего не выйдет» – единственное, что в голову пришло.
– Ничего не выйдет. Ты и не дозвонишься. Его номер в справочной не дадут. К таким звонят через ноль, автомату диктуют, кто и по какому поводу. Будешь объясняться в любви автомату?
– Я уже все разузнала, – возразила Сильва. – У Тернова есть номер для родных.
У моей подруги сестра замужем за племянником Тернова. У него для родных час свободного экрана – в понедельник, четверг и в воскресенье с одиннадцати утра.
Вот в четверг я и позвоню. Скажу все, а там будь что будет.
Что-то я еще возражать пытался, что-то бормотал невразумительное – кажется, отговорить пытался. Твердил: «Сильва, опомнись, ты себя погубишь!» Плел нелепое, неуместное, повторял: «Губишь, губишь!» Хотя почему губишь? Тогда не мог объяснить и сейчас не могу. Традиционные слова из классической литературы прошлого тысячелетия.
Впрочем, все это не имеет значения. Сильву я не отговорил. Но решился спасти ее. Как? Обратиться к Тернову. Он взрослый человек и, конечно, хороший человек. В наше время злодеи остались только в книгах. Так пусть же вразумит эту взбалмошную дурочку! И я сам позвонил Тернову в понедельник, за три дня до рокового четверга. Специально пошел в переговорную, Не стал приглашать великого артиста на крошечный экранчик своего запястья. Эта миниатюрка всегда искажает: и головешечка крошечная, и голосок пискливый. Не бархатный баритон несравненного Тернова. Я извинился, попросил прощения за вторжение на его домашний экран, сказал, что понимаю, как он занят, как драгоценны его минуты, как невежливо и бессовестно с моей стороны… и всякое такое прочее.
Поперхнулся, еще раз извинился, пояснил, что волнуюсь…
– Ну, кончайте извиняться, – сказал он в конце концов. – К делу! Что вы хотите от меня?
– Дело идет о судьбе одного человека…
– То есть вашей? Мечтаете о сцене?
– Нет, не обо мне, о другом человеке…
– Он мечтает о сцене?
– Совсем другое. Мечта тоже присутствует, но это как-то трудно объяснить сразу. Поверьте, для него это вопрос жизни, и Вы, именно Вы можете все исправить.
– Я могу?
– Только Вы, и никто другой. Поверьте, тут вопрос жизни одного человека.
Он улыбнулся:
– Юноша, это похвально, что вы так заботитесь об «одном человеке». Но мне сейчас некогда. Я жду важный вызов и не смогу вас дослушать. Где вы живете?
Недалеко? Тогда прилетайте ко мне в четверг в десять сорок пять. Пятнадцать минут хватит вам? Но настойчиво прошу: приготовьте связный рассказ. Запишите, можете даже читать мне, чтобы не спотыкаться. Если не уложитесь в пятнадцать минут, пеняйте на себя. Не вам будет плохо, «одному человеку».
И три дня спустя, в десять сорок пять ровнехонько, сидел я в кабинете великого Валерия Тернова.
А кто его помнит сейчас? Только театроведы-историки. Увы, коротка сценическая слава. Пока видят – рукоплещут. А потом приходит новая техника записи, новая режиссура, новая манера игры. Записи есть, но они раздражают нас: кажутся беспомощными и наивными. Мы пожимаем плечами: «И это великий артист? Сплошные ходуди!»
Впрочем, я отвлекся.
И тогда, при всем моем волнении, я тоже отвлекался. С любопытством озирался, разглядывая кабинет знаменитости. С моей точки зрения, неудобный был кабинет, загроможденный. Венки, стулья, картины, вазы какие-то. Всё призы и подарки, подарки и призы, память о победах, успехах, восторгах, благодарностях. Музей благодарностей!
Сам же Тернов разочаровал меня. Плохо он выглядел, куда хуже, чем на сцене, хуже, чем на экране даже: несвежая кожа, синеватая от частого бритья и грима, тяжелые мешки под глазами, залысины, седина на висках. Признаюсь, непрезентабельный вид этот подбодрил меня. Не будет Сильва любить этого старика. Всмотрится и излечится. Пройдет ее временная блажь.
«Старик» между тем и сам всматривался в себя, сидя перед зеркалом, разглаживал пальцем кожу на лице и при этом напевал сначала про себя, а потом и в голос:
«А! О! О-о! А-а!»
– Чисто звучит? – спросил он озабоченно. – Нет хрипловатости? – И пояснил: – Голос – главный инструмент в нашем деле. Охрипну… и конец Валерию Тернову.
Я приободрился окончательно. Человеческое увидел в недосягаемо великом артисте.
– Так в чем же дело? – спросил он, наконец, оторвавшись от зеркала.
– Один мой товарищ любит девушку. (Такое примитивное начало я придумал.)
– Понял, – сказал он. – Этот товарищ – вы. Дальше!
– Девушка хорошая, способная, красивая, – продолжал я, не тратя время на отнекивание, – но неровная, непредсказуемая. И вот она посмотрела ваши видео, пришла в восхищение, и ей взбрело в голову… ей показалось, лучше сказать, что она влюблена в вас, не влюблена – любит на всю жизнь. И если вы ее пальцем поманите, она побежит за вами на край света – так она сказала прямо. Но вы же понимаете, это минутное увлечение, это… Но где-то она разузнала ваш номер и собирается позвонить.
– Все понял, юноша, – опять прервал он. – Когда ваша девушка позвонит, я прочту ей отеческое наставление. Как это у Пушкина: «В благом пылу нравоученья читал когда-то наставленья». Так и скажу: «Когда бы жизнь домашним кругом я ограничить захотел…» Читал наставления, приходилось. Сумею повторить, и с надлежащим выражением. Не раз повторял. Есть, видите ли, юноша, профессиональная вредность в нашей сценической профессии. У химиков – вредные газы, дышат ими волей-неволей; в космосе – отсутствие всякой атмосферы, а у нас – насыщенная атмосфера страстей, дух любви-любви-любви. И зрителям, зрительницам в особенности, представляется, неосознанно, подсознательно, хотя, если вслух спросить, отрицать будут категорически, что мы, артисты, так умело умеющие изображать любовь, наверное, в подлинной жизни любим в сто раз сильнее и красивее, необыкновенно, божественно любим. Так им хочется испытать эту, божественную. Вот и летят на огонь любви, как бабочки. Крылья опаляют, конечно.
Он замолчал, задумавшись, свое вспоминал что-то.
– Вам надо выступить на эту тему, – сказал я. – По видео, по радио хотя бы.
Еще лучше написать и издать, чтобы все могли прочесть и в будущих поколениях.
Он посмотрел на меня с сомнением:
– Надо, юноша?
– Обязательно!
– А вот я не уверен, что надо. В жизни все гораздо сложнее, чем представляется в ваши годы. Ведь им, бабочкам, на огонь летящим, необыкновенно хочется небывалой любви. Разве их утешит трезвое сообщение, что небывалой не бывает, необыкновенная – редкость, а обычно встречается обыкновенная; что и мы сами, артисты, герои-любовники, – люди обыкновенные. Нет, не утешит. Вот они и бегут, летят к нам, машут крылышками, просят, умоляют: «Будь добр, притворись необыкновенным, ты же умеешь притворяться!» Иногда идешь навстречу.
– Но это же чистый обман! – возмутился я.
– Дорогой мой несгибаемый пуританин, а разве обман никому не нужен? Ты же садишься перед экраном видео, чтобы тебя обманули. Смотришь на сцену, заведомо зная, что это не на самом деле, «как будто». Перед тобой артисты, изображающие трагедию, придуманную драматургом о людях, которых никогда не было, может быть. Но ты умиляешься, вытираешь слезы или мужественно сдерживаешь слезы и шумно аплодируешь тем, кто умело обманул тебя, заставил забыть про «как будто». Даже не постесняешься ворчать и возмущаться и поносить тех, кто не сумел обмануть тебя. Так и женщины. Они придумывают тебя, они хотят, чтобы ты был героем. И не разуверяй их, пожалуйста, притворяйся что есть силы. «Тьмы низких истин нам дороже нас возвышающий обман».
Я оторопело слушал этот неожиданный панегирик обману. В школе нам внушалось только противоположное. Где же истина? Или на свете много истин?
Разобраться я не успел. Нас прервал колокольчик видео. Над домашним экраном.
Полотно осветилось, на нем появилась курносая девчонка лет пятнадцати со светлыми косами вокруг круглой головы и выпученными круглыми глазами.

– Эта? – спросил меня Тернов шепотом. Я замотал головой отрицательно.
– Тогда извини, пришел мой час экрана. Сядь в сторонку, туда, за занавеску, чтобы не смущать. Потом договорим. И не забудь записать номер твоей бабочки.
Между тем круглоглазая тараторила, объясняя, что вот она приехала в гости к тете Лиз и узнала, что тетя Лиз собирается звонить удивительному, замечательному, несравненному, непревзойденному, и она попросила разрешения оторвать минутку, чтобы выразить свое удивление, восхищение, восторг и самозабвение. Она уже смотрела «Отелло» пять раз, и «Меджнуна» восемь раз, и девять раз «Коварство и любовь», и «Первую любовь» по Тургеневу, и «Первую любовь» Росара из Росарио, и «Первую любовь» Нурмухамедова, и «Первую любовь» Людмилы Гай, и все это ей ужасно-ужасно-ужасно понравилось, и она посмотрит все первые любви с участием Валерия Тернова, и она желает ему тысячу раз сыграть про первую любовь… Все это произносилось скороговоркой без пауз и знаков препинания. Видно было, что девочка старательно выучила речь наизусть и очень торопится уложиться в подаренные ей минуты.
Тернов терпеливо выслушал все до конца.
– Спасибо, девочка, – сказал он. – Мне было очень приятно услышать твое одобрение. Как тебя зовут? Нина? Хорошо, Ниночка, спасибо. Но давай договоримся, Нина: никому-никому из подруг ты не выдаешь мой номер. Пусть это будет наш с тобой секрет. Ты же понимаешь, мне нужно очень-очень много работать, чтобы угодить таким, как ты, взыскательным знатокам сцены.
Договорились? А теперь позови тетю Лиз.
И круглоглазое румяное лицо заменило на экране другое, удлиненное, со впалыми щеками и тяжелыми усталыми веками, – лицо женщины лет тридцати семи, пожилой, с моей тогдашней точки зрения.
– Как ты, Лиз? – спросил артист. – Ты и в самом деле собиралась позвонить мне?
– Позавчера я видела тебя в «Отелло», – сказала она, уклоняясь от прямого ответа. – Ты выглядел усталым. Мне показалось, что тебе уже трудно играть африканские страсти.
– А ты все еще ждешь меня, Лиз, – грустно улыбнулся он. – Я же обещал тебе и могу повторить еще раз: «Как «только я выдохнусь и устану от сцены, я прибегу к тебе, виляя хвостом. И мы заживем мирно в твоем мирном саду, сажая гладиолусы, или хризантемы, или капусту, как Гораций, или крыжовник по Чехову.
– Этого никогда не будет, – возразила она. – Ты отравлен сценой безнадежно. Ты согласишься на роли старых В, лакеев – «Кушать подано».
– Может быть, может быть, Лиз, по всей вероятности, ты права. Я не уйду со сцены, меня унесут. Но если унесут живым, то к тебе, так я распорядился.
Вопрос в том, примешь ли ты меня тогда? Занятый своими переживаниями, я не очень вслушивался в этот интимный разговор, но запомнил его механически. К тому же Тернов добавил пояснения. Всем нам хочется поделиться с живым человеком, хотя бы с чужим, и даже лучше с чужим – незаинтересованным. Недаром люди так откровенничают в дальней дороге, на воде или на суше.
– Это моя первая жена, – сказал Тернов, когда экран погас. – Очень хорошая женщина, достойная женщина, надежный друг, но у них, у женщин, своя логика.
Артиста выбрала она, но артист ей нужен для себя лично, даже не для себя, для детей, чтобы задатки им передал и пестовал, как няня. Она меня за муки полюбила, но не разрешает мучиться дальше, не хочет, чтобы я играл, дико ревнует к сцене и к кулисам. И мы разошлись. Но вот ждет она, чтобы я сдал и сдался, потому позвонила, что показалось ей, будто я уже начал сдавать, устал, плохо выгляжу, недостаточно страстен в роли. Да, мне трудновато, но Лиз права, я навек отравлен сценой. И я молодею, я оживаю у рампы. Откуда силы берутся?!
Меня вдохновляет полутемный зал, сотни смутных лиц в партере. Я их не вижу, не различаю, но ощущаю напряженное ожидание и впитываю это напряжение, я в нем черпаю силы и возвращаю их а зал, выкладываю все, все и сверх того – вдвое, втрое. Это мой долг и моя радость. Я могу одарить целый зал. Ты понимаешь, что значит делать подарки?
Я кивнул головой. Я понимал.
– А вот Лиз не понимает. Хочет, чтобы все подарки я нес только ей. И не столковались мы. Я человек слабый или же жадный. Люблю благодарные улыбки.
Хочу одаривать многолюдье, дарить и тем, кто выпрашивает не всю мою жизнь, а минутки, как эта наивная девочка с торчащими глазами. Ну, не велик труд был выслушать ее, а она же счастлива теперь. Я нужен был ей для полного счастья!
Ты понимаешь, что это значит: нужен!
Я опять кивнул. Я понимал. Я-то был не нужен!
– А Лиз никак не хочет понять. И ждет, чтобы я стал ненужным. И не знаю, буду ли я ей нужен тогда, выжатый и высосанный сценой, кожура от лимона, сморщенная кожура бывшего артиста.
Он тяжело вздохнул и тряхнул головой, как бы грустные мысли стряхивая.
– Так на чем же мы остановились?
И тут экран снова зажегся. Сильва появилась на нем. Смуглое скуластое личико с нежным пушком, чуть прищуренные глаза над тяжелыми монгольскими скулами, длинная шейка, подбородок, вскинутый с горделивым достоинством.
– Меня зовут Сильва, – сказала она. – Я рядовая зрительница, но не рядовая ваша поклонница. Я потрясена вашей игрой, в особенности в «Первой любви», и больше всего в сцене, где вы поете «Будь моей»!
Даже и тогда, в ту страшную, возможно самую страшную, минуту моей жизни, я отметил редкую выдержку Сильвы. Все мы, молодые и неопытные, смущались, обращаясь к великому Тернову. Я от волнения мямлил, путался и повторялся.
Круглоглазая тараторила, видимо не понимая, что произносит, не ощущая смысла слов. Сильва же каждый звук выговаривала четко, подавала слова с достоинством, не развязно и не униженно.
– С моей стороны нескромно… – продолжала она (сказала «нескромно», как бы извиняясь, но в тоне ощущалось: «имею серьезные основания»), – нескромно обращаться к вам с большой просьбой. У меня день рождения сегодня. День моего совершеннолетия, и я прошу, чтобы вы сделали мне лично подарок: спели бы для меня «Будь моей». Не поймите меня буквально, я не прошу, чтобы вы пели специально для меня, это был бы чересчур дорогой подарок. Но я хотела бы, чтобы в следующий раз, исполняя эту арию на сцене или на репетиции, вы подумали бы, что на этот раз поете для меня, для девушки по имени Сильва.
– Вы хотели бы от меня услышать «Будь моей»? – переспросил он, подчеркивая каждое слово.
– Может быть, – отчеканила Сильва, еще выше вскидывая голову.
Тернов глядел на нее, прищурясь.
– Сегодня я не выступаю, – сказал он. – Сегодня я репетирую дома. И буду петь.
И спою «Будь моей». Для вас. Можете прилететь к семи вечера?
А я сидел, замотавшись в занавеску, съежившись, обхватив плечи руками, и все я слышал, и все я видел: лицо Сильвы видел и видел ее глаза, глубокие, томные, ласковые, ласкающие, восхищенные, торжествующие и счастливые, – глаза счастливой влюбленной. В первый раз в жизни видел такие глаза и в последний.
– Интересная девушка, – сказал артист, простившись с Сильвой. – Сильный характер.
И, оглянувшись, увидел мою странную позу.
– Она? – сразу догадался он.
– Н-н-н-ет!
– Наверное, она все-таки. Ну-ка, быстро давай ее номер, не упрямься. Я позвоню, отменю приглашение.
– Нет, не она, – твердил я. – Мою зовут Искрой (назвал первое попавшееся имя).
Просто я не видал, никогда не видал, как это бывает в жизни.
Много раз, и в тот день и впоследствии, спрашивал я себя, почему же я отрекся от Сильвы?
Не обдумывал я, инстинктивно брякнул, но почему же инстинкт сработал так?
Потому ли, что с раннего детства мне твердили, что право выбирать предоставлено женщине, она слабая, ей труднее? А в старших классах объяснили:
«Она выбирает отца для будущих детей, не мешайте ей выбрать лучшего».
Потому ли, что Тернов показался мне совсем не скверным человеком и этот нескверный расшатал мое мнение о том, что Сильва губит себя, бросаясь в его объятия?
Нет, не потому.
А потому, что я увидел глаза Сильвы – глубокие, томные, нежные, ласковые и ласкающие, влюбленные, упоенные любовью. Счастливые глаза счастливой возлюбленной. И не посмел я отнять у нее это счастье.
Позже добавилось: я ей такое счастье дать не могу, я могу у нее выпросить, вынудить любовь, приучить к себе, заставить оценить мое постоянство и преданность. И оценит она, согласится на меня, но годы и годы, всю жизнь, возможно, будет сожалеть и попрекать меня в минуты раздражения, что я не позволил ей однажды быть счастливой.
Нет, не твердое, не окончательное было у меня решение. Столько раз в мыслях своих я переиначивал тот роковой день. Ну что бы стоило мне раскрыть рот и сказать артисту: «Да, это она, та самая, оставьте ее в покое, для вашего огня найдутся другие бабочки». И даже если в ту секунду я растерялся, я же мог, уходя, обернуться и на пороге объявить: «Извините, я обманул вас необдуманно, на самом деле это та девушка, та самая, не пойте ей «Будь моей». И даже если бы я промедлил в тот момент, я же мог дождаться Сильву в семь вечера у его дома, перехватить ее, переубедить, не пустить силой.
Мог бы! Не сказал, не обернулся, не дождался. Потому что не на меня она смотрела счастливыми глазами.
Немало я размышлял тогда и после, хорошо ли поступила Сильва, правильно ли по отношению ко мне и по отношению к себе? И хорошо ли поступил Тернов, взрослый, сложившийся человек? Он должен был бы оказаться сдержаннее юнцов обоего пола.
Сейчас не о том речь. Я о себе размышляю. Не почему не помешал, а почему не заслужил любви? Вел себя неправильно или же были во мне какие-то изъяны, врожденные недостатки характера, препятствующие личному счастью? Так пускай мне исправят эти изъяны! Вот в чем цель всего этого горестного отчета.
* * *
Что было после?
А ничего.
Я твердо решил никогда-никогда в жизни не встречаться с изменницей. Хотя почему, собственно говоря, я считал ее изменницей? Сильва ничего не обещала мне и не нарушала обещаний. Первое время мне удавалось выдерживать характер отчасти потому, что мое отношение к Сильве резко изменилось. Прежде она была недосягаемой мечтой, для меня стояла на пьедестале, более того, на вершине горы, на небе – этакий ангел небесный. Я собирался посвятить ей всю жизнь, чтобы по лестнице подвигов забраться к ней на небо. Но вот небесный ангел становится падшим, недосягаемая и неприкосновенная сама кидается в чьи-то нечистые объятия. И почтительная любовь сменяется разочарованием, обидой, чуть ли не презрением. Эти новые античувства помогали мне не звонить, не унижаться на экране.
Но все же их вытеснила жалость. Себя я начал упрекать. Пусть недосягаемая оступилась, упала, испачкалась. Плохо ей теперь, грязь на душе и на теле, а поддержать, утешить некому. И она вспомнит обо мне, самом близком из друзей, которому можно любую тайну доверить, Какую, что не доверишь ни подругам, ни сестре, ни родной маме. И я стал ждать звонка Сильвы, заготовил наставительную речь о самоуважении, потом заменил ее утешительной речью о целительном времени, потом решил просто пожалеть, посочувствовать.
Потом еще что-то придумал.
А Сильва все не звонила. Не просила ни поучений, ни сожалений.
Тогда я доказал себе, что обязан позвонить сам. Все-таки от мужчины ждут инициативы. Позвоню и буду молчать, не покажусь на экране. Догадается же она, что это лучший друг о ней тревожится.
Позвонил. Свой экран закрыл ладонью. Голос ее услышал.
Не догадалась.
Еще раз позвонил. В ответ раздраженно:
– Опять воздыхатель какой-то. Я же слышу: пыхтит кто-то. Пауль, это ты? Ну, говори, если дело есть.
Пауль какой-то! Обо мне и не вспомнила.
И больше мы не виделись. Вскоре я кончил школу и уехал на Тихий океан; случайных встреч быть не могло. Стороной до меня донеслись сведения, что
Сильва была женой Тернова, но недолго. Очень уж неравная пара – тридцать лет разницы. У него талант, у нее характер – кому уступать? Не знаю, кто кого отверг, сплетничать не буду.
А встретились мы не так давно, на курорте Гран-Канария. Она узнала меня, а я ее – нет. Передо мной была полная, рыхлая, малоподвижная женщина с отекшими ногами и непрочной прической; космы всё выбивались у нее из-под платка.
– Видишь, какой я стала, – вздохнула седая Сильфида, бывшая Сильва. – Ты же не узнал меня.
Я забормотал какие-то извинения, вымученные комплименты, утешительные слова о том, что омолаживают сейчас безупречно. Моя жена, например…
– Нет, я подожду, – сказала Сильва твердо. – Я еще не все, что причитается, перепробовала.
И с увлечением начала рассказывать, какая удачная у нее третья внучка, так хорошо держит головку на воде, так рано пошла, так рано заговорила. Выдающийся младенец!
– А у тебя дети есть?
Краснея, я признался, что нет, к сожалению.
– Для себя живешь, – отрезала Сильва. – Эгоист. А у меня трое: два сына и дочь.
И внуков уже три. Конечно, заботы. А заботы не красят.
– Я был здорово влюблен в тебя, – признался я. Почему-то мне казалось, что эту увядшую Сильву надо утешить хотя бы прежними чувствами.
– Ты был зеленым мальчишкой, – отрезала Сильва. – А я искала героя.
– Нашла в Тернове?
– Тогда я считала его героем. Неопытная была, наивная. Но ведь и ты на героя не тянул. В дальнейшем-то вытянул? Как считаешь сам?
Я только руками развел.
А Сильва ушла, выцветшая, растрепанная, но с гордо поднятой головой, уверенная в правоте, в своей жизненной логике. Некоторое время эта резкая женщина заслоняла (в моей памяти воздушную Сильву, но постепенно стерлась.
Внуков у меня нет, но на судьбу я не жалуюсь, судьба меня не обделила. В свое время женился я благополучно, даже отбил жену у соперника. Не только поражения были в жизни, бывали и победы. Но жена – это особенная женщина: не праздничная, не вечерняя, не ночная, она i круглосуточная, круглогодичная. Это товарищ, соратник, сотрудник, пара твоя в семейной упряжке. И мы тащили эту упряжку без малого тридцать лет. Бывали у нас размолвки, бывали и радости.
Друзья считали, что мы счастливы в браке. Наверное, такой спокойный брак и считается счастливым.