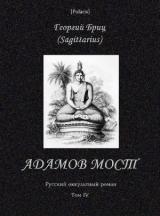
Текст книги "Адамов мост"
Автор книги: Георгий Бриц
Жанр:
Мистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 5 страниц)
Зайдя на квартиру Блаватского, чтобы переговорить с нужными ему людьми, Нелиус в одной из передних комнат заметил матроса, ковырявшего ножом ствол латании[14], одной из лучших, какие вообще бывали в Петербурге. Возмущенный, он не удержался от резкого замечания. Матрос быстро повернулся, окинул взором незнакомого генерала, угрожающе двинулся к Нелиусу и прежде, чем последний, почуяв опасность, успел сунуть руку в карман за револьвером, он был свален с ног могучим ударом кулака по скуле, а затем его стали избивать беспощадно; его бы здесь и прикончили, если бы не подоспела помощь в лице нескольких главарей, знавших Нелиуса.
Побои оказались смертельными и спустя несколько дней Нелиус скончался. Идейный мастер революции попал под ее колесо.
Случай с Нелиусом и его смерть сильно понизили радужное настроение Рокотовой, а в остальном все это прошло вполне незаметно в те дни, когда, в те дни.
V ВЕСЕННЕЕ
Блаватский, Вера и Кребтри прибыли в Стокгольм вместе, как то было условлено.
Кребтри, в сущности, должен был поспешить дальше – в Англию, но медлил. Предлогом задержки явилось легкое недомогание Петра Эрастовича, вызванное, по его объяснениям, более дальним и хлопотливым переездом; в действительности же Блаватский не без труда переваривал свое бегство из Петербурга.
Заботливый Кребтри принял деятельное участие в устройстве на новом месте, но особых усилий не требовалось, так как приезд Блаватских ожидался и они нашли готовое, вполне удобное помещение в семье доктора Сьёберга[15]. Между Блаватским и доктором существовала какая-то связь и последний выказал большую предупредительность.
Да, Джозеф Кребтри, юноша твердых правил, торопился одной стороной своего существа на родину, а другой малодушно оттягивал отъезд.
В занятия английским языком на дому, в уютной и обособленной обстановке, когда ученица достигает семнадцатого года своей жизни, а учителю чуть-чуть побольше, когда оба симпатизируют друг другу, – в занятия эти должен был закрасться элемент нежной дружбы, по меньшей мере.
Так оно и случилось. Ученица еще не совсем разбиралась, в чем тут дело, зато педагог успел подвинуться далеко и уже сознательно шагал по привлекательнейшей из дорог юности.
Ах, как трудно было теперь Джозефу Кребтри оторваться от своей молоденькой очаровательницы, тем более, что он не знал еще ничего определенного, не смел коснуться вопроса о взаимности; о, он многого не знал об этой чернокудрой, хрупкой, такой изящной женской статуэтке.
Юноша, идеалистически настроенный, не задетый уже намечавшимся в его поколении уклоном в сторону преимущественно физиологического восприятия женского обаяния, нашел в себе достаточно красок со старомодной палитры и наделил образ своей возлюбленной многим чудесным. Но ему посчастливилось – портрет, насколько это возможно в подобных обстоятельствах, был близок к оригиналу.
Старик Блаватский, бездетный вдовец, чрезвычайно привязался к Вере, которая, начиная с семилетнего возраста, была исключительно на его попечении. Он вложил в ее воспитание весь свой опыт умудренного жизнью и много размышлявшего человека; очень свободомыслящий, он именно поэтому ничего не навязывал ребенку, давал ему развиваться по линии прирожденных склонностей, а наблюдения показали, что таковые были из числа вполне положительных.
С другой стороны, сам жуя, на протяжении долгих лет, сухую корку умозрения, Блаватский решил не мешать Катерине, старухе строго набожной и очень доброй, второму важному в жизни Веры лицу, влиять по-своему на ребенка.
Не предрешая вопроса о высшем образовании, Блават-ский повел дело обучения своей питомицы самолично; здесь не было перегрузки плановыми уроками, но все их, Бла-ватского и Веры, десятилетнее уже общение было непре-кращающимся применением определенного метода передачи знаний и наведения на путь самостоятельных суждений и любознательности.
Своеобразная, но основанная на подлинно культурных потребностях обстановка дома Блаватского, его коллекции, его собственные занятия, немногочисленный, но избранный круг его друзей, все это создавало исключительно благоприятную атмосферу для развития девушки.
Конечно, на всем протяжении своего роста этот цветок был несколько тепличен, но, балансируя плюсы и минусы, можно было отдать ему решительное предпочтение перед многими, взращенными в обычных условиях семьи и школы. Так, по крайней мере, без малейших колебаний решил Джозеф Кребтри.
Вернемся же к юному англичанину и к его затруднениям. Вот как раз идут они вместе, Кребтри и Вера, направляясь в Национальный музей. Кребтри знает, что его отъезд теперь уже неминуемо состоится послезавтра, Кребтри хочет высказать нечто, желает получить некоторые разъяснения, но все это как-то не удается, пока, наконец, всемогущий и, на этот раз, благодетельный случай не приходит на помощь.
Они заняты рассматриванием собрания египетских древностей, хранящихся в музее; Вера задает своему спутнику ряд вопросов, но объяснения последнего не удовлетворяют спрашивающей.
– Мистер Кребтри, вы сегодня как-то нескладно говорите.
– Я плохой египтолог, Вера (просто по имени – по праву долгого знакомства и преподавательского авторитета), спрашивайте меня лучше о чем-нибудь по моей, известной вам, специальности.
– Ах, не обижайтесь, мистер Кребтри, вы столько интересного сообщили уже мне. Особенно этот недавний рассказ о Сангамитте, дочери индийского царя Асоки Великого[16]. Чудесна, чудесна ее история: прибыть, во главе торжественной экспедиции, с отпрыском священного дерева «бо» на неведомый Цейлон, на Ланкадива – так ведь он назывался, – участвовать в посадке побега дерева, под которым получил свое откровение Будда, содействовать своему брату, апостолу Махинде, в распространении возвышенного буддийского учения, стать основательницей монастырей и, наконец, сохранить свое имя для потомства на протяжении более чем двух тысячелетий – это чудесно и величаво! Видите, как хорошо я запомнила. Но вот что, мистер Креб-три, смотрю я на угловатые и безобразные фигуры этого барельефа и думаю, что наверное, Сангамитта должна была походить на одну из них, – ведь это было так давно, – последовало наивное заключение.
– О, нет, Вера, здесь перед нами образец древнейшего периода египетского искусства, вообще условного, а затем, буддийские книги вспоминают о внешности Сангамитты совсем иначе; она была очень красивой, она была похожей на вас, Вера.
Так сказал Джозеф Кребтри и внезапно умолк, а девушка не без лукавого тщеславия сейчас же реагировала на сказанное:
– Сангамитта, говорите вы, походила на меня и она была очень красива, то есть, по вашему мнению, мистер Креб-три, и я очень красива, – построила первый в своей жизни силлогизм Вера, снабдив его очаровательным сощурением глаз и одной из прелестнейших в мире улыбок.
Но вот она что-то сообразила, спохватилась, румянец залил бледные щеки, а строго моделированное лицо ее стало еще строже.
Однако было уже поздно, ибо Кребтри вспомнил еще раз, что уезжает в Англию, что перед ним война, что можно уехать, не высказав самого важного, и остаться без ободряющей сладкой надежды. И ведь это ему сверкнули из-под бархата ресниц чудесные глаза, а пунцовые губы на бледном обожаемом личике для него сложились в манящую улыбку! Он порывисто схватил руки девушки и, в присутствии какого-то господина в очках, всматривавшегося в гиератическую надпись на одной из гробниц, отчеканил по-английски: «I love you, Vera!»
Господин в очках ехидно улыбнулся, Вера зарделась пуще прежнего и, крепко сжав руки ошеломленного своей смелостью кавалера, энергично потянула его в противоположный конец зала музее. Вся взбудораженная, она не сказала, однако, ни слова и не дала говорить Кребтри, а быстро направилась к выходу.
Она спешила домой искать совета и защиты у своего многоопытного дяди Пети, который всегда и все умел устроить как следует. Кребтри, за неимением лучшего, старался не отставать.
Музей находился поблизости от квартиры Блаватских и Вера минут через десять уже лежала на груди у старика Блаватского и взволнованно рассказывала, какое необычайное горе с ней приключилось. Кребтри ожидал своей участи в соседней комнате.
Блаватский сразу понял, в чем дело и не удивился смеси самоуверенной энергии с полным отсутствием таковой у его Верочки, – это было по-женски, а затем, элемент детского отношения к жизни еще был силен в его питомице.
Но случай, однако, требовал, чтобы сама нарождавшаяся женщина решила, указала направление, по крайней мере.
– Веруся, а если бы меня не было, как поступила бы ты теперь?
Раздумье девушки, повернутой на привычный уже путь самостоятельности, длилось недолго.
– Я бы сказала, я бы сказала мистеру Кребтри, что таких вещей не говорят в музеях, при посторонних, да еще по-английски, – здесь все понимают..
Блаватский забавно сощурился – это была семейная черта – поцеловал свою, вспыхнувшую до корней волос, племянницу и позвал Кребтри.
– Любезный друг, с переездом нашим в Стокгольм занятия английским языком, как известно, прекращены, но, с разрешения вот этой дамы, формы английского глагола «любить» подлежат исключению. На днях вы уезжаете, но времени хватить для нескольких успешных уроков; дальнейшие же упражнения, по общему соглашению, по общей необходимости, нам придется отложить до лучших времен, до нашей, дай Бог, счастливой встречи в будущем, Джозеф. Поезжайте – вы так поняли свой долг – и ни нам не следует вас задерживать, ни вам задерживаться.
Блаватский соединил руки Веры и Кребтри, перецеловал обоих и ушел в свою спальню переодеваться. Он не придавал происшедшему слишком серьезного значения – оба были так молоды, в особенности Вера, – но, если бы эта помолвка выдержала пробу времени и событий, он бы охотно видел Веру замужем за Кребтри.
А они были очень смущены, охвачены волнами намерений и мыслей и не знали, как проявить свое состояние наружу. Перед ними открылась дверь в сад любви, в сад с нетоптаными еще дорожками, в котором на нежных и чудесных цветах дрожали бриллиантовые капли утренней росы; в чудесный сад, раз в жизни только и все меньше и меньше доступный.
Они не решались войти по своей восхитительной неопытности, а затем, по вечно действующему, увы, закону света и тени, их уже пугал костлявый призрак войны, туманил солнце этого и неведомо скольких будущих дней.
Кребтри запечатлевал в своем сердце черты дорогого лица и молчание было нарушено Верой, проявившей своеобразную практичность женского ума.
– Ничего не поделаешь, но что за несуразное имя – Джозеф! И по-русски то оно всего-навсего Иосиф, а то еще хуже Осип…. Сколько уже я думала над этим.
В глазах Кребтри мелькнуло сначала недоумение, затем задумчивое, чуть-чуть печальное, выражение немой признательности.
Все это было замечено, оценено и тронуло в девушке с места ее накопившуюся нежность. Вера быстро приблизилась к своему нареченному, взяла за руку, подвела к дивану и усадила около себя.
– Мистер Кребтри, я буду звать вас Джойя, Джоинька, – тихо прозвучали воркующие слова милого голоса.
Тогда наступило время мужчине править волшебной колесницей.
Романтический эпизод длился еще день, он был овеян весенним очарованием, а затем надлежало расстаться, быть может, навсегда.
VI CE QUE DOIT SAVOIR UN MAITRE-MAGON[17]
Годы шли и Блаватский хандрил. Гулкое эхо событий российских воспринималось им довольно пассивно – он ожидал подобного и знал приблизительную цену всему. Затем, ему ли, знатоку психологии масс, самолично прикасавшемуся к некоторым значительным рычагам социального порядка, ему ли приходилось удивляться?
Но планировка событий обнаруживала неожиданные уклоны, но родина звала, но полагавший себя гражданином мира тосковал по воздуху родины. Не помогала удаленность стареющего человека и изменял спасительный, давно усвоенный гедонистический взгляд на жизнь. Закат этой жизни заволокли тучи, а организм неустанно давал перебои, сигнализировал о своей изношенности.
Кроме доктора Сьёберга, у Блаватского имелись в Стокгольме еще знакомые; среди них, по давнишней близости и по своему удельному весу, выделялся Абрам Самуилович – он же Адольф Семенович – Марбург, финансист мирового масштаба, весьма, между прочим, интересовавшийся русскими делами и незаметно, но веско влиявший на ход последних. Его-то частенько и проведывал Блаватс-кий.
Старые друзья, во многом единомышленники, люди большого умственного кругозора, они находили, о чем с интересом побеседовать; сверх того, Марбург, как никто, был осведомлен о том, что происходило в России.
Блаватский в последнее время чувствовал себя неважно, а его ровесник Марбург страдал застарелой болезнью горла, и вот в их разговоры то и дело закрадывалось старческое покряхтыванье о бремени лет и о надвигающемся конце жизни.
– Да, Адольф Семенович, – начал однажды Блават-ский, – сейчас нас, пожалуй, не удовлетворит экстериори-зация, как третий член к бинеру: жизнь – смерть? Не поможет и вся наша приучающая символика. Не предложите ли вы что-нибудь более ценное, успокоительное и обнадеживающее; ведь, по всей видимости, нам обоим необходимы уже этого рода валериановые капли?
– О, какой неделикатный вопрос, – ответил в тон Бла-ватскому Марбург.
– Достопочтенный брат, – продолжал он – мы подобрали кое-что из земной мудрости, научились сознательно реализовать земные блага и возможности, но наш синтез земного порядка и абстрактное, вкупе со всем ведомым и неведомым, мы заключили уже давно в тернере: архетип – человек – природа[18]. Это наше, а больше… откуда же?
– Адольф Семенович, это неудовлетворительный багаж для посмертного путешествия, если таковое существует, и он не включает в себя потребных валериановых капель.
– Да, увы, не включает, – задумчиво протянул в ответ Марбург, – и, к сожалению, этого рода капли, те, которые могут быть получены, для нас, по законам духовной диффузии, не годятся.
Оба умолкли.
– Мне вспомнились розенкрейцеры первичной формации, Адольф Семенович.
– Вполне уместно, но. такое же но, Петр Эрастович.
Знаменательны были эти слова в устах этих людей – искусные пловцы по житейскому морю, они теряли паруса в конце плавания. Уходили, затуманивались интересы их прошлого; борьба, достижения, успехи, весь блеск земного существования угасал перед лицом надвигавшейся ночи вечности; ибо только вечность, подавляющая своей неуловимостью, с тусклым оконцем астраля, была последним прибежищем этих материалистических эпигонов мистически настроенных предков. Чистого «ничто», растворения без остатка в материи дух их приять не мог, но они же были духовно бессильны подкрепить себя какой-либо, переходящей в уверенность, доброй надеждой.
VII ВЕРА ВСТУПАЕТ В ЖИЗНЬ
Затянулось пребывание Блаватских в Стокгольме и оборвалось смертью Петра Эрастовича. Он умер скоропостижно, погрузив Веру в бездну отчаяния и сознания своей затерянности на свете.
Положение усугублялось тем обстоятельством, что Креб-три, после целого ряда восторженных писем, вдруг умолк совершенно.
Попытки Веры снестись с его родными дали результат неутешительный; отклик последовал лишь на третье письмо, то, которое было написано самим Блаватским. Сообщалось очень сухо, но одновременно в каком-то неуверенном тоне, что, надо полагать, Джозеф Кребтри пропал без вести в боях с германцами; где, когда, при каких обстоятельствах – об этом умалчивалось. Дальнейшие старания получить более определенные сведения, добиться либо подтверждения печального факта, либо его опровержения остались безо всякого ответа.
Блаватский, как мог, старался утешить свою любимицу, но к Блаватскому пожаловала смерть и начисто осиротила бедную Веру.
Доктор Сьёберг, его симпатичная супруга, Марбург, – все выказали много сочувствия, аранжировали печальную процедуру похорон и проявили maximum внимания к Вере.
Марбург с поразительной быстротой и в высшей степени дельно урегулировал имущественное положение юной и, как оказалось, богатой наследницы. Лучшего душеприказчика не мог бы избрать Блаватский; но делец, финансист и политик Марбург был бессилен бросить зерна утешения на пустырь, образовавшийся в сердце девушки.
Прозрев, как обстоит дело, он не счел более возможным удерживать Веру и отпустил ее, в сопровождении вполне надежной и симпатичной Вере фру Линнеман, одинокой и нуждавшейся родственницы Сьёбергов.
Марбург снабдил Веру рекомендательными письмами к ряду своих влиятельных знакомых и, прощаясь, заверил о всегдашней готовности быть полезным, обещал заботиться о имущественных делах Веры до ее недалекого совершеннолетия и просил всегда видеть в нем друга.
Что же, собственно, решила предпринять Вера и куда направлялась?
Она, как сказано было, хотела получить точные данные о судьбе своего жениха, но уязвленная гордость закрыла перед ней путь непосредственного обращения к родственникам Кребтри, на это она решилась бы лишь в крайности. Вот почему был принят совет Марбурга прибегнуть к помощи платной агентуры. Однако его указание, что нет надобности в отъезде из Стокгольма, было оставлено без внимания.
Не сиделось Вере в этом надоевшем городе, где она только что перенесла тяжелую утрату. Путь оплакивания своего опекуна, с каждодневным посещением его могилы и тому подобным, оказался не в натуре Веры; она запечатлела внутри себя воспоминание о дорогом «дяде Пете», а в остальном решительно рвалась к жизни, а эту жизнь в настоящий момент представлял для нее Джозеф Кребтри, человек, которого она теперь наиболее почитала за своего и который нашел место в ее сердце.
У Веры, насколько можно было предполагать, не было близких людей среди эмиграции, да и вообще родственников она почти не имела, так что, когда пришлось решать, куда именно она направляется, возникло затруднение. Довольно нелогично был избран Париж, а опорными точками должны были послужить тамошние друзья Марбурга.
Таинственна область предчувствий, но оттуда пришло к Вере наиболее правильное решение – именно в Париже ее неуверенные руки быстро наткнулись на путеводную нить и из этого города протянулась ее стезя жизни, как созревающей женщины, как человека самостоятельно действующего.
Часть вторая
VIII ПРИЗЫВ
Мое сближение с Мариусом следует отнести к последним годам прошлого столетия; мы были молоды и жадно впитывали в себя то, что под именем оккультного посвящения могли получить в одном из тогдашних центров эзо-теризма во Франции.
То был период расцвета «Ordre Kabbalistique de la Rose + Croix»[19], еще не исказившего своих заданий связью с прозаическим масонством; то было время плодотворной работы по восстановлению многих памятников эзотерической традиции и время многих смелых попыток проверки легендарных экспериментов и постановки новых в иерофан-тическом стиле Элифаса Леви[20].
Течение жизни отбрасывало нас друг от друга неоднократно, но связь между нами не порывалась. Мариус навсегда остался горячим адептом оккультизма, мой же интерес переместился значительно в сторону и мы не виделись уже довольно давно.
Я находился в одной из молодых республик северной Европы; отдыхал в деревне, в достаточной глуши и в обстановке столь удаленной от всего, что меня ожидало.
Дождливое в начале лето наконец установилось. Плющ, до того прозябавший, быстро наверстывал потерянное и покрыл уже всю решетку по бокам выходившей в сад веранды. Я полулежал в качалке, задумчивый, но беспечальный. Нежно благоухали пышные розово-белые пионы, желтые лилии присоединяли свой экзотический, магнолиеподобный аромат, а из глубины сада доносился земляничный запах запоздавшего в цветении жасмина; протяжно и ласково посвистывала невдалеке иволга, умолкла; на смену ей, с еще нескошенного клеверного поля, уже приступал к вечернему потрескиванию дергач.
Резкая нота ворвалась вдруг в гармонию угасавшего погожего дня – ожесточенно залаял мой добрый приятель, пес «Пайлотт»; загромыхала его цепь и я поднялся, чтобы взглянуть, в чем дело. То был нарочный с ближайшей почтовой станции, вручивший мне телеграмму.
Я вознегодовал на такое нарушение моего спокойствия, резким движением вскрыл бланк и прочел:
Ждем Марсель не позднее пятого.
Гюйенн 3.
А, так вот оно что; это было серьезно.
Только Гюйенн и только Мариус могли прислать мне подобную телеграмму. Во второй раз в жизни наш юношеский договор, скрепленный торжественной клятвой, напоминал о себе; стоявшая в конце телеграммы цифра «3» свидетельствовала об этом.
Итак, они вызывали меня! Они не изменились – искатели эзотерических ключей; их пытливость направлялась по прежнему руслу.
Я отпустил нарочного и впал в раздумье. Что могли они предпринять? Мариус, учитель уже многих, и Гюйенн – знаменитый врач, тайный из боязни повредить своей репутации, но закоренелый оккультист, – пустяками не занимались!
Конечно, я немедленно двинусь; но, признаться, желания не было никакого. Этот вызов клином врезывался в мою тогдашнюю программу жизни, главными пунктами которой были спокойствие и уединение. Затем, я экономил, подготовляясь к задуманному путешествию на Цейлон и по Индии и мои мысли еще сегодня были там.
Цветет жасмин,
На севере, в моем саду.
Жасминные венки плывут по Гангу,
Как дань мечтам о божестве.
И Индия уже видна в листве —
Идет ее народ, идут жрецы по рангу.
У желтой лилии,
На севере, в моем саду,
Я срезал горсть цветов благоуханных…
И вот на повороте северного сада
Магнолий стройных выросла ограда,
Давно любимых и желанных.
Но делать нечего; если бы даже не существовало между нами упомянутого договора, основательно отдававшего восторженностью и гиперболами юности, я все же поехал бы – звали мои лучшие и испытанные друзья.
IX БАГАЖ, ПРИОБРЕТЕННЫЙ В ПУТИ
Мне не хотелось миновать Парижа и я сообразно с этим составил свой маршрут.
Не для встреч и увеселений стремился я в мировую столицу, я просто жаждал окунуться в атмосферу любимого города, свидетеля и восприемника моих юношеских порывов и увлечений. Однако, встреча неожиданная и чреватая последствиями была мне суждена на протяжении тех двух дней, которые я мог уделить Парижу.
Был вечер второго дня; я возвращался с продолжительной прогулки по городу, порядочно утомленный, но и полный приливом воспоминаний, в большинстве таких бодрящих, принесших веяние былых, жизнерадостных лет.
Настоящее как будто уступало свое место прошедшему и я приветствовал его – это прошедшее. Вдруг из толпы, запрудившей широкую панель Севастопольского бульвара, выглянуло, приковало своей северной белизной знакомое девичье лицо. Это была Вера Блаватская со своей неотступной фру Линнеман; это была Верочка из прошлого с ее несложной, но трогательной историей, а жизнь уже очертила для нас общий круг действий.
Когда Вера прибыла в Париж и остановилась, вместе с фру Линнеман, в одном из отелей, ею овладело неприятное чувство человека, сделавшего решительный шаг и опасающегося за его последствия.
Зашевелились сомнения в правильности задуманного и вдруг откуда-то выползла жгучая мысль: пусть Джозеф жив, но за эти годы, такие особенные, он мог перемениться… это молчание… Нет, это было бы слишком тяжело! И как тогда выглядели бы ее поиски?!
Все было так неопределенно, а «дяди Пети», такого рассудительного, так уверенно разрешавшего все сомнения, не было, не было…
Горькие слезы не раз оросили бледное личико девушки, одинокой, остановившейся в раздумье на одном из поворотных пунктов своей жизни.
Стояли жаркие дни и окна отеля были открыты настежь; до слуха Веры доносились обрывки разговора в соседнем номере; она невольно заинтересовалась и стала прислушиваться.
– Я уезжаю в Марсель, Зита, в четверг это дело будет пущено в ход, так хочет Мариус; вы должны быть на посту в условленное время.
– Но я не справлюсь со всем этим, я, наконец, боюсь подобных вещей, – послышался протестующий женский голос.
– Иначе не может быть, Зита, и вы дали слово, более того – торжественно обещали, а затем, после моего отъезда, вы не будете в одиночестве. N… (прозвучала моя фамилия) известил уже телеграммой о согласии и выехал в Марсель.
– Хорошо, Гюйенн, но это последнее из безумств Мариуса, в котором я принимаю участие.
Вера встрепенулась – луч света блеснул внезапно на темном горизонте! И сейчас же созрело решение; недаром она была воспитанницей Блаватского.
Мое имя, произнесенное за стеной незнакомым мужчиной, прозвучало для Веры как гарантия твердого обоснования будущей жизни, странная же тема подслушанного обрывка разговора ее нисколько не интересовала и она поспешила отойти от окна.
Несколько смело определила меня Вера в свои покровители; мое знакомство с Блаватским оставалось всегда довольно поверхностным, но я, в данном случае, был единственным, представлявшим собою для девушки прошлое, ясное и уверенное, и я был все же в почете у «дяди Пети» и я был «свой».
Вера не медлила с исполнением задуманного. Дождавшись, когда ее соседка осталась в одиночестве, она сейчас же командировала к ней с соответствующими инструкциями фру Линнеман. Последняя вскоре вернулась и передала приглашение прибыть для переговоров и ближайшего выяснения, в чем, собственно, дело.
Достаточно наивно, но ограждая чувство собственного достоинства, обрисовала Вера свое положение и просила указать, когда и где можно будет свидеться со мною. Должно быть, было много подкупающего в ее рассказе, в самой Вере, что смягчило первоначальную настороженность Зиты. Она пояснила своей собеседнице, что мой приезд ожидается в ближайшие дни, что я известное время пробуду в Марселе и что она позаботится сообщить мой адрес и, в свою очередь, уведомит меня о желании Веры.
Однако такой образ действий Вера отвергла; ей, томившейся в Париже, очень живой по натуре, не сиделось на месте, а в глубине души она опасалась возможности утраты свидания со мною, пока пойдет переписка.
– Было бы лучше всего, если бы вы позволили мне ехать с вами, – заявила простодушно Вера.
– Я не могу воспрепятствовать вам, mademoiselle, следовать за мною в Марсель, но раз таково ваше намерение, то я должна предварить, что, в силу некоторых обстоятельств, вы на протяжении недели не получите возможности самостоятельно добиться свидания с вашим другом; он будет в постоянных разъездах, – схитрила Зита, – и единственно через меня может быть уведомлен о вашем желании.
Затем ей, по-видимому, стало жалко опечаленной Веры и она добавила:
– Условимся лучше так – приезжайте в Марсель через несколько дней, остановитесь, скажем, в отеле «Regina», что на площади Сади-Карно, первоклассный, а я, как только прибудет monsieur N… (Зита назвала мою фамилию), сейчас же направлю его к вам.
На том и порешили.
Вот, что, в моем вольном пересказе, произошло с Верой в Париже.
Я выслушал ее вполне откровенную повесть, я внес освежающую ноту в мир переживаний Веры, обнадежил всячески, но роль «дяди Пети», бессознательно подсовываемая мне, – видит Бог – еще не была для меня подходящей.
Как меняет нас жизнь! И хорошо, когда ее рука дарит, не отнимает. Трудно было в прелестной, вполне сформировавшейся девушке признать Верочку прежних дней, но та особенность облика Веры, которую я приметил некогда, теперь выступила еще резче – бледность лица, необычайная чистота его линий, полуспущенные обычно веки и то общее впечатление одухотворенности, но как бы неразбу-женной, притаившейся.
Какая противоположность между ними – Зитой и Верой! Завораживающее дыхание земного, прелесть летней ночи, очарование сияющего дня, все могущество притягательной силы земли находили нечто созвучное с моей возлюбленной и налагали печать на ее существо. О, милая, как возможно было это – ты и мрачный Мариус?!
Но я забежал вперед. Это извинительно – в этих воспоминаниях, таких свежих, некоторые ноты звучат еще слишком сильно и пережитое властно врывается в рассказ.
– Пока что, Вера, мне ничего неизвестно о той особе, с которой вы условились относительно меня. Но вполне очевидно, что она действовала, сообразуясь с какими-то серьезными обстоятельствами, а потому не будем менять плана. Все дело упростилось благодаря нашей встрече здесь и мы уже не потеряем друг друга из виду.
Я называл Веру по имени: – для меня это нужно, нужно, – просила она.
Вот она жизнь, ее зигзаги и неожиданности, – подумалось мне.
Ночью я уже ехал в Марсель, достаточно на сей раз заинтригованный, расшевеленный.
X MARE NUBIUM
Мистическое, паче того оккультное – говорят многие – это лунное «Mare Nubium» – море облаков[21], море, которого в сущности нет, ибо оно только пустынная равнина, изменчиво освещаемая.
Пусть так…
Однако для иных неистребима потребность выйти из круга уверенной повседневности, бедной по объему и пугливо уходящей в себя. Океан неведомого плещет вокруг!
Океан плещет от века вокруг небольшого острова, заселяемого поколениями людей.
XI НА МЕСТЕ ДЕЙСТВИЯ
В Марселе меня встретил Гюйенн, предупрежденный телеграммой. Он был очень доволен моим прибытием, о чем сейчас же и заявил.
– Мой дорогой, я трижды рад видеть вас: как старого друга, как соучастника в затеянной Мариусом истории и, наконец, как смену на ответственном посту. Я думаю, вы основательно были удивлены, когда я так энергично затребовал вас с севера на юг. Но что оставалось делать – Мариус настаивал на этом.
Было нестерпимо жарко, я был голоден и потому мы поспешили под гостеприимную сень одного из знакомых с давних пор ресторанов, где Гюйенн и посвятил меня во все обстоятельства сумасбродной, но и достойной почтительного удивления попытки, предпринятой Мариусом.
– Гюйенн, вот мы здесь прохлаждаемся, а кто же при Мариусе? Разве той особы, той Зиты, о которой вы так распространяетесь, достаточно; женщина, любовница и подобная роль?! Не слишком ли уж?
Гюйенн залился веселым смехом:
– Зиту, мой друг, нужно видеть и больше ничего, только видеть; ну, и смотреть за собой! Такие дочери Евы нечасто рождаются.
Самоуверенность Гюйенна, непререкаемость его тона начинали злить меня и я дал понять, что мне известно, как неохотно Зита вошла в это дело.
– Ah bigre![22] Откуда у вас подобные сведения?!
– В парижских отелях имеются окна и они бывают открыты, любезный доктор.
Гюйенн встревожился, и я поспешил его успокоить, пояснив, как было дело.
– Однако, все же, не пора ли нам двинуться? – напомнил я.
Гюйенн взглянул на часы, быстро вскочил и нетерпеливо потребовал счет.
– Уже пять, а в семь с минутами уходит мой поезд; мы действительно должны торопиться. Коль скоро вы здесь – я свободен, а в бретонских курортах у меня подобралась отличная партия больных; чудаки верят в мою медицину, а главное, платят очень хорошо. Конечно, информируйте меня и – чуть что – я буду по первому зову.







