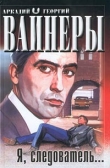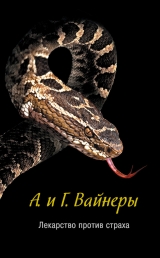
Текст книги "Лекарство против страха"
Автор книги: Георгий Вайнер
Соавторы: Аркадий Вайнер
Жанр:
Прочие детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 24 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Глава 2
РАЗВЕ МИР СТАЛ ХУЖЕ?..
Капитан Поздняков лицом был похож на старого матерого кабана, и я снова подумал о том, что участковый – человек малосимпатичный. Несколько лет назад приятели взяли меня на охоту, и мне болезненно остро запомнилась здоровенная голова подстреленного кабана – вытянутое, обрубленное пятачком рыло, прищуренные красноватые веки с длинными белыми ресницами, под которыми плавали мутные зрачки, расширенные последней страшной болью, все еще угрожающий, но уже бессильный желтый оскал.
– Андрей Филиппыч, у вас враги есть? – спросил я.
– Наверное, – дрогнули белобрысые ресницы. – За десять лет службы на одном участке и друзья и враги появляются: народу, считайте, тысяч двенадцать живет.
– Можем мы с вами наметить круг таких недоброжелателей?
– А как его наметишь, круг этот? Оно ведь только у плохого участкового два недоброжелателя – жена да теща! А мне за все годы со многими ссориться пришлось – и самогонщиков ловил, и хулиганам укорот давал, и тунеядцев выселял, бежавших домой с отсидки за ворот брал, за собак беспризорных штрафовал, к скандалистам на работу жаловался, пьяниц со дворов да из подъездов гонял, родителей плохих в милицию и в исполком таскал. И воры попадались, и в обысках участвовал. Вот и выходит…
Поздняков замолчал, обиженно и горестно двигая широким ноздрястым носом, росшим, казалось, прямо из верхней толстой губы.
– Что выходит? – спросил я.
– Да вот как-то раньше никогда мне это в голову не приходило, а сейчас все время об этом думаю. Живет несколько тысяч хороших людей на моем участке, и, по существу, никто из них и знать меня не знает, потому что нам и сталкиваться не приходится. А случилась сейчас со мной беда и надо бы слово обо мне доброе сказать, так выходит, что, окромя всякой швали, никто и не знает меня. А от швали мне слова хорошего не дождаться.
Я покачал головой:
– Это не страшно. Если хорошие люди вас не знают, значит, нормально службу несете, не даете их плохим в обиду. Ну ладно, оставим это. Объясните мне, пожалуйста, почему вы на стадион взяли с собой пистолет – вы же были не на работе и без формы? Инструкцию знаете?
– Знаю, – сумрачно сказал Поздняков. – Службу закончил – оружие сдай!..
– Ну и что же вы?..
– В том и вина моя единственная… – горько сказал Поздняков. – Вы меня поймите только, я не оправдываюсь, просто объяснить хочу: с войны у меня к оружию привычка, и на службе осталась. Кроме того, я ведь и проживаю на своем участке, так что никакого времени дежурства у меня нет. В ночь-заполночь, что бы ни стряслось, бегут ко мне: давай, Филиппыч, выручай. А дела бывают самые разные: я вон трех вооруженных преступников в неслужебное время задержал…
– Значит, можно предположить, что многие знали о пистолете, который вы носите всегда при себе?
– Конечно! – Участковый удивленно поднял на меня круглые рыжеватые глаза. – Я ведь представитель власти, и все должны знать, что у меня сила.
Я про себя ухмыльнулся: у меня были другие представления о силе власти, но ничего Позднякову говорить не стал.
– Чаю хотите? – спросил Поздняков.
– Спасибо, с удовольствием. – Чаю мне не хотелось, но я подумал, что за чашкой чаю наш разговор станет менее мучительно официальным.
Поздняков встал с дивана, на котором сидел все время неестественно неподвижно, выпрямив длинную сухую спину старого служивого, только на пятом десятке перешедшего из старшин в офицеры и сохранившего от этого почтительную опаску перед всяким молодым начальством. Он шарил ногой под диваном, нащупывая тапочки, не нашел их и, видимо, счел неудобным при мне ползать на коленях по полу: махнул рукой и пошел на кухню в одних носках. На пятке левого носка светилась дырка – небольшая, с двухкопеечную монету. Поздняков на кухне гремел чайником, туго звякнула о дно вода из крана, спички скреблись о коробок, шипели, не зажигаясь, и участковый негромко чертыхался. А я осматривался.
Из личного дела Позднякова я знал, что он женат, имеет дочь двадцати лет, студентку. Жена, Анна Васильевна, на одиннадцать лет моложе Позднякова, старший научный сотрудник Института органического синтеза, кандидат химических наук. Образование Позднякова – семь классов до войны, после войны – школа милиции. И тут было над чем подумать, даже не потому, что я не мог представить хотя бы умозрительно какой-то естественной гармонии в этой не очень обычной семье, а потому, что порядок в комнате Позднякова не был наведен заботливой рукой хозяйки, а отшлифован твердой привычкой к казарменной аккуратности и неистребимой сержантской потребностью в чистоте. И маленькая, с двухкопеечную монету, дырка на носке.
Поздняков принес два стакана в металлических подстаканниках, сахарницу. Чайник он поставил на железную решетку, снял крышку и угнездил сверху заварной чайничек. Немного посидели молча, потом Поздняков спросил:
– Вам покрепче?
Я кивнул, и Поздняков налил мне светлого, почти прозрачного чаю. Мне стало интересно, каким же должен быть у Позднякова слабый чай, и сразу же получил ответ: в свой стакан участковый заварки вообще не налил.
– Берите сахар, – придвинул он мне сахарницу.
– Спасибо, я пью всегда без сахара.
Поздняков ложечкой достал два куска, положил их на блюдце и стал пить кипяток вприкуску. Желтыми длинными клыками он рассекал кусок сахара пополам, одну половинку возвращал на блюдце, а вторую загонял за щеку и не спеша посасывал с горячей водой. При этом щека надувалась, губы вытягивались, рыжевато-белая щетина лица становилась заметнее, и он еще больше напоминал кабана – тощего, сердитого и несчастного.
– Дисциплины люди не любят, оттого и происходят всякие неприятности, – сказал Поздняков задумчиво. – А ведь дисциплину исполнять проще, чем разгильдяйничать, порядки, законы человеческие нарушать. Все зло на свете от разгильдяйства, от расхристанности, оттого, что с детства не приучены некоторые граждане к дисциплине, к обязанностям в поведении – что сами по себе, что на людях.
– А жена ваша так же думает? – спросил я, и Поздняков вздрогнул, будто я неожиданно перегнулся через стол и ударил его под дых. От жары ли, от кипятка вприкуску или от этого вопроса, но лицо Позднякова разом покрылось мелкими частыми капельками пота.
– Нет, наверное, не знаю, нет, скорее всего… – и больше ничего не сказал, а только начавшая завязываться беседа сразу увяла.
Я повременил немного и безразлично спросил, вроде бы между прочим:
– Вы с женой неважно живете?
Но это не получилось между прочим, и Поздняков тоже понял, что этот вопрос не между прочим и отвечать на него надо обстоятельно, потому что старший инспектор с Петровки к нему зашел не чаи распивать, а допрашивать. Как ни называй – беседа, разговор, опрос, выяснение обстоятельств, а смысл остается один – допрос.
– Да не то это слово – «неважно». Если правильно сказать, мы вроде бы и не живем давно…
– Как вас следует понимать?
– Ну как – проживаем мы в одной квартире, а семьи-то и нет. Давно.
– Сколько это – давно?
– Столько уж тянется, что и не сообразить сразу. Лет пять – семь. Здоровкаемся вежливо и прощаемся, вот и вся семья, – и в голосе его не было строевой твердости, а только хинная горечь и усталость.
– Почему же вы развод не оформите?
– Ну, разве тут объяснишь двумя словами?..
– Тогда не двумя словами, а поподробнее, – сказал я и заметил в глазах Позднякова сердитый проблеск досады и подавленной неприязни. И прежде чем он успел что-то сказать, я легонько постучал ладонью по столу: – И вот что: мы с вами уже говорили об этом, когда я только пришел. Хочу повторить: вы напрасно сердитесь на меня, я вам эти вопросы задаю не потому, что мне очень интересны ваши взаимоотношения с женой, а потому, что произошло событие из ряда вон выходящее и все, что имеет к этому мало-мальское отношение, надо выяснить…
– Да уж какое это может иметь отношение? Я ведь и сам малость кумекаю – не первый год в милиции…
– Я и не сомневаюсь в вашем опыте, но ни один врач сам себя лечить не может.
– Это верно, – покачал острой головой Поздняков. – Особенно если больному нет большой веры: действительно больно ему или он прикидывается.
Я побарабанил пальцами по столешнице, посмотрел на Позднякова, медленно сказал:
– Давайте договоримся, Андрей Филиппыч, не возвращаться больше к вопросу о доверии к вам. Вы ведь не барышня в парке, чтобы я вам каждые десять минут повторял насчет своей любви и дружбы. Скажу вам не лукавя: история с вами произошла фантастическая, и я к вам пришел, мечтая больше всего на свете доказать всем вашу невиновность – это и мне очень нужно. Поэтому мне хочется верить всему, что вы рассказываете. Укрепить мою веру или рассеять ее могут только факты. Вот и давайте их искать вместе. А теперь вернемся к вопросу о вашей семье…
– У меня жена хороший человек. Женщина самостоятельная, строгая.
– А из-за чего ссорились?
– Да не ссорились мы вовсе. Она меня постепенно уважать перестала – я так себе это думаю. Стесняться меня стала.
– Чем вы это можете объяснить? – задавал я бестактные, неприятные вопросы и по лицу Позднякова видел, какую боль сейчас ему доставляю, и боль эта была мне так понятна и близка, что я закрыл глаза – не видеть потное, бледное лицо Позднякова, не сбиваться с ритма и направления вопросов.
– Так ведь сейчас она большой человек, можно сказать – ученый, а муж – лапоть, унтер Пришибеев, – тихо сказал он, сказал без всякой злости на жену, а словно взвешивал на ладонях справедливость своих слов. Он даже взглянул мне в глаза, не уверенный, что я его слышу или правильно его понял, горячо добавил: – Вы не подумайте там чего, оно ведь так и есть.
– Давно наметились у вас такие настроения в семье?
– Ей-богу, не знаю. Наверное, давно. Тут ведь как получилось? Когда познакомились, работала она аппаратчицей на химзаводе, двадцать лет тому назад. Уставала она ужасно, но все равно ходила в школу рабочей молодежи. За партой, случалось, засыпала, а школу закончила и поступила в менделеевский институт. Работала и училась все время, пока вдруг не стало ясно: она человек, а я… горшок на палочке.
– А куда вы бутылку дели? – спросил я неожиданно.
Поздняков оторопело взглянул на меня:
– К-какую бутылку?
– Ну из-под пива, на стадионе, – нетерпеливо пояснил я.
– А-а… – Поздняков напряженно думал, пшеничные кустистые брови совсем сомкнулись на переносице, лицо еще больше покрылось потом. – В карман, кажется, засунул, – сказал он наконец, и в тоне его были удивление и неуверенность. – Наверное, в карман, куда еще?.. Но ведь ее в кармане не нашли потом?..
Я оставил его вопрос без ответа, помолчал немного, сказал:
– Постарайтесь припомнить, вы бутылку сами открывали?
– Пожалуй… – Поздняков снова задумался, потом оживился, вскочил. – Пожалуй! Зубами я ее, кажись, открыл. Вот мы посмотрим сейчас, может, пробка в пиджаке завалялась.
Он быстро подошел к вешалке и, снимая с нее поношенный пиджак из серого дешевого букле, бормотал:
– Ведь под лавку я не кину ее, пробку-то? Не кину. Значит, в карман…
– Давайте я вам помогу, – сказал я.
Мы расстелили пиджак на столе, тщательно осмотрели его, вывернули карманы, ощупали швы. В левом кармане сатиновая подкладка совсем посеклась, и нити ткани образовали сеточку. Я засунул в дырку палец и стал шарить в складке на полах пиджака, прощупывая каждый сантиметр между букле и сатином. Уже на правой поле, с другой стороны пиджака, я нащупал шероховатый неровный кружок. Потихоньку двигая его к дырке, вытащил на свет – кусочек плоской пробки, коричневый, с прилипшим к нему ворсом. Прокладка под металлические пластинки, которыми закупоривают пивные бутылки…
– Не торопите меня, Тихонов, это дурной тон, – сказал Халецкий спокойно.
В лаборатории было почти совсем темно, окна плотно зашторены, и только одинокий солнечный луч, ослепительно яркий, разрезал комнату пополам и падал на золотые дужки очков, которые нестерпимо сияли, когда Халецкий по привычке покачивал головой.
Я сказал ему:
– Результаты экспертизы нужны к завтрашнему утру.
– Почему такая спешка? – удивился Халецкий.
– Есть старая поговорка: «Береги честь пуще глаза». А разговор идет об этом самом…
Халецкий покачал головой, и мне показалось, что он усмехнулся.
– Тихонов, вы же учились в университете, помните свод законов вавилонского царя Хаммурапи?
– Да. И что?
– Там сказано, что врач, виновный в потере пациентом глаза, расплачивается своими руками. В спешке можно сделать ошибку, и ваш пациент потеряет не только глаз, но и честь, которую беречь надо еще пуще.
Халецкий развернул белый конверт, извлек пинцетом кусочек пробки, осмотрел его в луче солнца, падавшем из-за штор.
– Что вы намерены делать с ним?
– Микрохимический анализ, используем флуоресценты. Не поможет – посмотрим рентгенодифракцию. Что-нибудь да даст результаты. Наука знает много гитик, – засмеялся он.
– Можно что-нибудь выжать из этой пробочки? – спросил я с надеждой.
– Кто знает, попытаемся.
Лаборатория казалась единственным прохладным местом на земле, и отсюда не хотелось уходить. Халецкий и не торопил. Он повернулся ко мне, и снова солнечный блик рванулся с золотой дужки его очков. Глаз Халецкого не было видно, но я знал, что он внимательно смотрит на меня.
– Ну, Тихонов, а что думаете об этом деле вы?
– Не знаю. – Я пожал плечами.
Халецкий спросил:
– Считаете, что Поздняков говорит правду?
– Не знаю, ничего я не знаю. Вам ведь известно – милиционеры, как и все прочие граждане, не святые, с ними тоже всякое бывает. Хотя не хочется этому верить.
Все-таки инспектор Поздняков ошибался, когда говорил мне, что знает его только шваль и шушера. Нашлось кому и доброе слово сказать. Хвалебных гимнов ему не слагали, но добрые слова были высказаны и в жэках, и жильцами в домах, и в отделении милиции, где он служил.
Я воспользовался советом Чигаренкова, который сказал: «Если бы меня спросили, я бы посоветовал поднять всю документацию Позднякова – посмотреть, кого он мог в последнее время особенно сильно прищучить».
Вот я и читал часами накопившиеся за годы бесчисленные рапорты, докладные, представления, акты и протоколы, составленные Поздняковым. Читал, делал в своем блокноте пометки и размышлял о том чудовищном котле, в котором денно и нощно варятся участковые. Этим я занимался до обеда. Во вторую половину дня ходил по квартирам и очень осторожно расспрашивал об инспекторе. Работа исключительно нудная и совсем малопродуктивная. Но этого требовала одна из версий, а я привык их все доводить до конца – не из служебного рвения, а чтобы не возвращаться назад и не переделывать всю работу заново.
И отдельно я читал жалобы на Позднякова от граждан. Оказывается, на участковых подают довольно много жалоб.
А потом говорил с Поздняковым, и снова читал пожухлые бумажки, и опять расспрашивал граждан…
– Культурный человек, сразу видно: со мной всегда первый здоровается…
– Зверь он лютый, а не человек…
– Мужчина он, конечно, правильный, завсегда тверёзый, строгий…
– Само собой, на деньжаты левые у него нюх, как у гончей…
– Кащей паршивый, он мужа маво, Федюнина Петра, кормильца, на два года оформил…
– А на суде ни слова о том, что Петька Федюнин с ножом на него бросался, – семью, понятно, жалел, детей ведь там трое…
– Не место в милиции такому держиморде – он моему мальчику руку вывихнул…
– Соседский это мальчонка. Было такое дело. Они с приятелем в подъезде женщину раздевать стали. В мальчонке-то два метра росту…
– Человек он необщительный, понять его трудно. Он ведь одинокий, кажется?..
– И если Поздняков не прекратит терроризировать меня своими угрозами, я буду вынужден обратиться в высшие инстанции…
– Дисциплинирован, аккуратен, никакой разболтанности…
– Одно слово – лешак! Дикий человек. С ним как в считалочки у мальцов: папа – мама – жаба – цапа! Я, может, пошутить хотел, а он меня – цап за шкирку и в «канарейку»…
– Вместо того чтобы задержать по закону самовольно убежавшего с поселения тунеядца, участковый Поздняков дал ему возможность безнаказанно улизнуть, несмотря на наше заявление…
– Что же вы, Андрей Филиппыч, не задержали по закону тунеядца? – спросил я Позднякова.
Он растерянно покачал головой:
– По закону, конечно, надо было…
– Но все-таки не задержали?
– Не задержал.
– А что так?
– Ну, закон-то ведь для всех. Он хоть и закон, но не бог все-таки, каждого в отдельности увидеть не может. И строгость его на благо была построена – я так понимаю.
– А в чем благо этого тунеядца? То, которого закон не предусмотрел?
Поздняков задумчиво поморгал белыми ресницами, пожевал толстую верхнюю губу, и я подумал, что любящие люди со временем перестают замечать некрасивость друг друга, она кажется им естественной, почти необходимой. А вот «к. х. н. Желонкина», наверное, всегда видит эти белобрысые ресницы, вытянутые толстой трубкой губы, а желтые длинные клыки ей кажутся еще больше, чем на самом деле. Все это для нее – чужое и потому остро антипатичное.
Поздняков сказал досадливо:
– Не тунеядец он!
– То есть как не тунеядец?
– Убийца – тот, что невозвратимое сотворил, – он и после кары все-таки убийца, как тут ни крути. А если тунеядец сегодня хорошо работает – какой же он тунеядец?
– А этот хорошо работал?
– Хорошо. Ему четыре месяца до окончания срока оставалось. Дружки письмо прислали, что девка его тут замуж выходить надумала – ну, он и сорвался с поселения.
– А вы?
– А я ночью его около дома дождался, в квартиру заходить не стал.
– Не понял: почему в квартиру-то не пошли?
– Соседи мне заявление уже вручили – людишки они вполне поганые, если бы увидели, что я его на дому застукал, тут бы мне его уже обязательно оформлять пришлось…
– А так?
– А так – дал ему леща по шее и на вокзал отвез.
– Не по закону ведь? – осторожно спросил я.
– А еще два года из-за той сикухи по закону – так бы лучше было?
Я неопределенно пожал плечами и спросил:
– Соседи эти, чем они людишки поганые? Долг свой выполнили…
– Не-е, – покачал острой длинной головой Поздняков. – Не тот долг выполняют. Это они мне за парня своего отплачивают, кляузы мелкие разводят…
– Какого еще парня?
– Да вот пишет он на меня все время «телеги», что я ему угрожаю. А чего я ему угрожаю? Хочу, чтобы человеком был, жил по-людски, работал, женился, детей воспитывал.
– Вы мне расскажите поподробнее, что это за парень.
Поздняков поднял на меня блеклые глаза, будто всматривался, потом сказал твердо:
– Если вы насчет той истории, что со мной произошла, то вряд ли он тут может быть причастен. А впрочем… Ну нет, не знаю…
– А вы мне просто так, ради интереса расскажите.
– Да тут и рассказывать особенно нечего. Их фамилия Чебаковы. Отец – завскладом, мать – инвалид третьей группы, в музее смотрительницей работает. Парень родился, когда им уже обоим далеко за сорок было. Сейчас ему двадцать пять, мордоворот на шесть пудов, а для них все Боречка. Две судимости имеет.
– Хулиган?
– Э, кабы! Я ведь почему с ним так бился – тут моя крупная промашка имеется. Он ведь всегда очень спокойный был парень. С хулиганами, с ворами проще – они заметнее. Хамло из них за версту прет, особенно по пьяному делу. Ну, конечно, на учете они все у меня, чуть что – я такого сразу за бока. А этот – тихий, в школу ходит себе, потом в институт. И вдруг его – раз! – и за фарцовку сажают. С иностранцами связался, тряпье скупал и другим стилягам перепродавал. Для меня это как гром с ясного неба. Ну, по малолетству годов определили ему условно, и я ему, естественно, житья не давал – через день ходил домой. К райвоенкому вошел с просьбой, чтобы Бориса Чебакова в армию взяли: армия от всех глупостей лечит, учит жизни с людьми, специальности. Только не брали его в армию, пока судимость не снята.
– Ну, и чем это кончилось?
– Плохо кончилось. Они на меня всей семьей вызверились, будто я хочу Борьку сдать в солдаты, чтобы из него ученого человека не вышло. А я ведь ему доброго хотел. Вот и отправили они его в Ригу, чтобы от меня, изверга, избавить. Он там и загремел по валютному делу…
– Но заявление-то об угрозах совсем недавнее?
– Так он уже отбыл срок, вернулся, отец все инстанции обегал, добился разрешения – прописали его, а Борька снова ни черта не делает.
– А подписку о трудоустройстве вы у него взяли?
– Брал два раза – пригрозил, что возбудим дело о тунеядстве. Пришел в третий, а он мне в нос справку сует: «Можешь теперь, Поздняков, спать спокойно, я самый что ни на есть трудовой человек».
– Кем же он работает? – полюбопытствовал я.
Поздняков оскалил желтые зубы, его мучнистое некрасивое лицо исказилось:
– Сказать стыдно – молодой, здоровый мужик работает этим самым… натурщиком. В художественном училище. Я ему говорю: «Как же тебе, Борька, не совестно срамотой деньги зарабатывать? Да и что это за деньги для взрослого человека – шестьдесят рублей? » А он нахально смеется мне в лицо: «Ты, – говорит, – Поздняков, некультурный, в искусстве ничего не смыслишь, а о заработках моих не тебе печалиться… »
Конечно, в яростном возмущении Позднякова тем, что мужчина может работать натурщиком, было нечто комичное, но я и сам, честно говоря, впервые услышал – в наше-то время! – о такой мужской профессии, просто никогда в голову не приходило.
– Вот она, лень-матушка, разгильдяйство, до чего довести может, – сказал с сердцем Поздняков. – Но парень-то он не злой…
… Рассвет сер и немощен, как мое усталое тело. Холодная тусклая изморось лежит на стекле. Я смотрю в окно и вижу в стеклянном мутном отражении свои седые редкие космы, глубокие складки, шрамами искромсавшие лицо, пот бессилия и страха на челе и никак не хочу, не могу принять неизбежное – согласиться, что я уже старик. Через полтора месяца – 8 ноября 1541 года – мне исполнится сорок восемь лет. Разве это возраст старости? Неужели это намеченный мне предел, за которым вздымаются мрак, пустота, ужас исчезновения?
Какая страшная нелепость: природа даровала долгую жизнь бессмысленным воронам, питающимся падалью, а самому светлому творению своему – человеку – отпустила столь краткий век, пролетающий мгновенно, подобно радостному вздоху.
Тридцать лет назад я был молод и здоров, как гиперборейский бог, и, сидя на скамье феррарского университета, повторял вслед за ученым богословом Мазарди: «И писано у Гиппократа-целителя: старение человеческое происходит от потери природного жара… » Но мне тогда было наплевать, отчего происходит старение человеческое, поскольку я был слишком молод, чтобы относиться серьезно к лекарскому призванию своему, и слишком здоров, чтобы допустить мысль, будто и меня когда-то коснется старость, исторгающая из человека неслышно и неотвратимо природный жар.
Тысячи, многие тысячи больных прошли через мои руки, и я исцелил их – неужели не заслужил я избавления от унизительного и страшного бессилия перед ледяным дыханием мрачного властителя смерти Таната, ненавистного богам и противного людям? Но некому помочь мне – силы неба отвернулись от меня, а люди темны и запуганы. Чудится мне тленный запах черных крыльев Таната, слышу плеск весел Харона – грозно кричит через Ахеронт перевозчик душ умерших, неумолимый привратник Тартара.
Но сегодня я не поддамся тебе, презренный Танат – разрушитель покоя, вестник ярости, слуга насилия, советник всяких зол! Рано пришел ты за моей душой – природный жар покидает лишь слабое тело, а дух мой неукротим и жаден, как в юности, и я верую свято, что в воспоминаниях минувшего почерпну силы физические, дабы хоть на время сковать тебя, как сделал великий герой Сизиф, коль скоро не даровано нам величайшего блага – долгого мудрого века…
Бессильны сейчас все мои знания, вся накопленная мной врачебная мудрость мира, которую я собирал по крупицам долгие годы, как собирает по грошам огромное богатство меняла-ростовщик. Мне досталась судьба ростовщика знаний и милосердия – я раздавал добро и помощь в рост, получая со временем проценты нового знания и благодарность. И сейчас, когда я так богат знанием, страшит меня не сама смерть, а судьба моего наследия, которое завистливые враги разграбят в глупой алчности, растопчут в пыли забвения, подвергнут отчуждению в казну равнодушия.
Или сотни моих трудов научных уже разошлись по миру глашатаями нового медицинского канона?
Нет, мир еще не готов принять мое учение, я родился слишком рано; а может быть, слишком рано умираю. Наверное, со временем широко зазеленеют ростки того, что родится с моей смертью. Я не охаиваю свое время, не скорблю о прошлом и не уверен, что будущее исправит все наши пороки и ошибки. Но люди, старея, перестают замечать добрые новости и перемены – мир на глазах становится для них хуже. Я с этим не согласен, полагая, что человек вырастает из своего времени, как ребенок из своей колыбели.
Разве мир стал хуже? Просто мы стали больше, умнее, мы много узнали, хотим узнать еще больше и сердимся, когда это сразу не получается или когда новые знания превращают нашу старую веру в бесплотный туман вымысла. Равномерно раскачивается маятник нашего времени – колыбель людской памяти, и обращает нас из сегодня во вчера, в позавчера, в прошлое, в историю, и грохочет молотом судьбы, не давая заглянуть ни на одно мгновенье в щель завтрашнего дня.
… Ушел стрех, растворилась боль, покинуло холодное бессилие – уносит меня в прошлое маятник памяти, неслышно качает меня колыбель моего века – кровавого, пугающего и прекрасного. Как молод, силен и весел я!
Тысячи дорог, которые я прошагал пешком, проехал верхом и в повозке, в солнцепек, град и дождь, вдруг смотались в маленький клубок, и кончик волшебной нити прибит к порогу деревянного домика в Эйнзидельне, крошечном городишке кантона Швиц в свободной Швейцарской конфедерации, где родился я так давно.
Разматывайся, клубок, распутывайтесь, петли дальних дорог, ведите меня снова к знаниям, к нищете и славе, к богатству и позору, к любви и ненависти, к щедрости и зависти, к ученикам и врагам, к друзьям и предателям, к радостям исцеления и горю утрат. Пронеси меня на себе еще раз, дорога жизни, чтобы все повторилось снова, и тогда пусть иссякнет клубок моих странствий здесь, у двери пустой серой комнаты, где тепло, тихо и пусто и окна залиты осенним дождем…