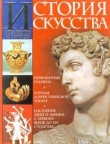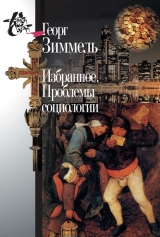
Текст книги "Избранное. Проблемы социологии"
Автор книги: Георг Зиммель
Соавторы: Светлана Левит
Жанр:
Обществознание
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 34 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
В хозяйственной области обнаруживается другая комбинация между социальным уровнем в обоих его значениях и дифференциацией. Обильное предложение одинаковых услуг при ограниченном спросе создает конкуренцию, которая в гораздо большей степени, чем принято считать, уже непосредственно является дифференциацией. Ведь хотя предлагается совершенно один и тот же товар, но каждый должен все-таки стараться отличить себя от других, по крайней мере, по способу предложения, потому что иначе потребитель оказался бы в положении Буриданова осла. Каждый должен стараться отличить себя от всех других оформлением товара, или, по крайней мере, его размещением, тем, что расхваливает свои услуги или, по крайней мере, тем, с какой миной он это делает. Чем однороднее предложения по своему содержанию, тем более значительны различия, которые придаются этому предложению со стороны индивидуальной; этому содействует еще и то, что непосредственная конкуренция вызывает взаимную антагонистическую настроенность, отдаляющую личности друг от друга также и в отношении мышления и чувств. То общее, что есть в личностях и что состоит в одинаковости занятий и сбыте одному и тому же кругу, вызывает тем большую дифференциацию других сторон личностей. Но эта одинаковость ведет опять-таки к созданию социального уровня в другом смысле, поскольку профессия или сфера деловой активности как целое обладают известными интересами, для соблюдения которых все участники должны объединиться – или в картели, на время ограничивающие или устраняющие конкуренцию, или в союзы, которые преследуют цели, лежащие вне конкуренции, как то: представительство, защиту прав, решение вопросов чести, отношение к другим замкнутым в себе кругам и т. д., – и которые нередко приводят к образованию самого настоящего сословного сознания. Значительная высота социального уровня в смысле равенства делает возможной такую же высоту социального уровня и в последнем смысле, наглядным примером чему является цех. В противоположность этому дифференциация, созданная соревнованием и более сложными отношениями, является более высокой ступенью, причем та же самая дифференциация, в свою очередь, создает – с новой точки зрения – общее достояние. Ибо, с одной стороны, индивид, в высокой степени специализировавшийся, для достижения указанных выше целей гораздо более нуждается в других, чем тот, кто больше репрезентирует собой всю отрасль целиком; с другой стороны, лишь благодаря более тонкой дифференциации возникают именно те потребности и резко очерчиваются именно те стороны человеческого существа, которые создают основу для коллективных образований. Итак, если конкуренты, стремящиеся удовлетворить одну и ту же потребность различными средствами (например, в производстве нательного белья конкурируют лен, хлопок и шерсть), соединяются, чтобы объявить конкурс на соискание премии за лучший способ удовлетворения этой потребности, то каждый из них, правда, надеется, что решение будет благоприятно именно для него, тем не менее здесь состоялся совместный акт, в котором стороны исходили из общего отправного пункта и который не имел бы повода без предшествующей дифференциации, и этот акт может теперь сделаться исходной точкой для дальнейших социализаций. Я еще упомяну в другой связи, что именно многообразие и дифференциация сфер занятости создали понятие рабочего вообще и рабочий класс как сознающее себя целое. Тождественность функций обнаруживается с особенной ясностью тогда, когда они наполнены самым разнородным содержанием; только тогда функция освобождается от той психологической ассоциации с ее содержанием, которая устанавливается при большем однообразии в нем, и только тогда она может проявить социализирующую мощь.
Если дифференциация индивидов приводит здесь к увеличению социального уровня, то благодаря одному указанному выше моменту будет иметь место и обратное действие. Чем больше продуктов духовной деятельности накоплено и доступно всем, тем скорее начнут деятельно проявляться более слабые дарования, нуждающиеся в поощрении и примере. Бесчисленное множество способностей, могущих достигнуть более индивидуального развития и состояния, остается в скрытом виде, если нет налицо достаточно широкого, доступного каждому социального уровня, разнообразные содержания которого извлекают из каждого все, что только в нем есть, если даже оно недостаточно сильно, чтобы развиваться вполне оригинально и без такого побуждения. Поэтому мы видим всюду, как за эпохой гениев следует эпоха талантов в греко-римской философии, в искусстве Возрождения, во втором периоде расцвета немецкой поэзии, в истории музыки нашего столетия. Множество раз повествовалось о том, как у людей, занимавших второстепенное недифференцированное положение, при созерцании какого-нибудь произведения искусства или техники внезапно открывались глаза на свои способности и на свое настоящее призвание и как с тех пор их неодолимо увлекало на путь индивидуального развития. Чем больше уже имеется образцов, тем более вероятности, что каждая хоть сколько-нибудь выдающаяся способность будет развиваться и, следовательно, займет в жизни дифференцированное положение. С этой точки зрения социальный уровень в смысле коллективного достояния уменьшает социальный уровень в смысле равенства достояния индивидов.
Такая неравномерность в отношениях между этими социальными уровнями (в первом и во втором смысле) может господствовать, видимо, лишь до тех пор, пока каждый из них не достиг наивысшей из возможных для него степеней и пока у индивида и общности, помимо повышения этих уровней, существуют еще и другие цели, модифицирующие их развитие, причем, конечно, не всегда оба они затрагиваются такими модификациями одинаково. Между тем абсолютный максимум одного уровня совпадает с абсолютным максимумом другого. Во-первых, вернейшим средством, чтобы создать, а главное, поддержать в пределах известной группы максимум индивидуального равенства, является возможно большее увеличение ее коллективного достояния; если каждый в отдельности отдает совокупности по возможности одинаковую часть своего внутреннего и внешнего достояния, а достояние совокупности зато достаточно велико, чтобы предоставить ему максимум форм и содержаний, то это во всяком случае является лучшей гарантией, что каждый по существу будет обладать одним и тем же и будет таким же, как и все остальные. Наоборот, если между индивидами существует максимальное равенство и вообще имеет место социализация, то и общественное достояние достигнет максимума по отношению к индивидуальному, потому что принцип экономии сил заставляет как можно больше действовать для общности (исключения из этого правила мы рассмотрим в последней главе) и получать от нее как можно больше поддержки, тогда как различий между индивидами, обычно ограничивающих эту тенденцию, как предполагается, уже нет. Поэтому социализм нацелен на равномерную максимизацию обоих уровней; равенство между индивидами может создаться только при отсутствии конкуренции, а это, в свою очередь, возможно только при государственной централизации всего хозяйства.
Между тем мне представляется психологически сомнительным, что требование выравнять уровни действительно столь уж абсолютно противоречит стремлению к дифференциации, как это кажется. В природе мы видим всюду стремление живых существ подняться выше, занять положение более выгодное, чем то, которое они занимают в данный момент; у людей это доходит до сильнейшего осознанного желания иметь больше и наслаждаться большим, чем это удается в каждый данный момент, и дифференциация есть не что иное, как средство для достижения этой цели или последствие этого явления. Никто не удовлетворяется тем положением, которое он занимает среди подобных ему, но каждый хочет завоевать себе другое, более благоприятное в каком-нибудь отношении, а так как силы и удача бывают различны, то кому-то удается подняться над большинством других более или менее высоко. И вот, если угнетенное большинство продолжает ощущать стремление к более высокому жизненному укладу, то это можно выразить лучше всего так, что оно желает иметь то же, быть тем же, как и те десять тысяч, кто принадлежит к высшему классу. Равенство с теми, кто стоит выше, – вот какое содержание напрашивается прежде всего и каким наполняется стремление к самовозвышению. Это обнаруживается в любом более тесном кругу, будь то класс учеников, купеческое сословие или чиновничья иерархия. Этим объясняется тот факт, что гнев пролетария обрушивается большей частью не на высшие сословия, а на буржуазию; ибо он видит, что она стоит непосредственно над ним, она означает для него ту ступень на лестнице счастья, на которую ему предстоит ступить прежде всего и на которой поэтому концентрируются в данный момент его сознание и его стремление к возвышению. Низший желает быть прежде всего равен высшему; но если он ему равен, то – опыт показывает это тысячу раз – состояние, которым исчерпывались прежде все его стремления, является только исходным пунктом для дальнейшего, только первым этапом на бесконечном пути к самому благоприятному положению. Всюду, где пытались осуществить уравнивание, обнаруживалось на этой новой почве стремление индивида обойти других во всех возможных отношениях; например, часто случается, что основу тирании образует социальное нивелирование. Во Франции, где еще со времен великой революции влияние идеи равенства было очень сильно и где июльская революция вновь освежила эти традиции, вскоре после нее обнаружилось, наряду с бесстыдными излишествами отдельных лиц, общее пристрастие к орденам, неудержимое стремление отличиться от широких масс бантиком в петлице. Может быть, нет более удачного доказательства для нашего предположения о психологическом происхождении идеи равенства, чем заявление одной угольщицы в 1848 г., обращенное к знатной даме: «Да, сударыня, теперь все будут равны: я буду ходить в шелку, а вы будете носить уголь». Историческая достоверность этого заявления безразлична перед его внутренней психологической верностью.
Если происхождение социализма таково, то это означало бы, конечно, самую резкую противоположность большинству его теоретических обоснований. Для последних равенство людей есть самодовлеющий идеал, сам являющийся своим оправданием и сам по себе удовлетворяющий, этическое causa sui[20]20
Причина самого себя (лат.).
[Закрыть], состояние, ценность которого ясна непосредственно. Но если это состояние является только переходным моментом, только ближайшей целью – возможностью достигнуть изобилия для масс, – то оно теряет категорический и идеальный характер, который приняло только потому, что большая часть людей считает тот пункт на своем пути, которого она должна достигнуть прежде всего, и до тех пор, пока он не достигнут, своей конечной целью. Низшего заставляет стремиться к осуществлению равенства тот же самый интерес, который побуждает высшего поддерживать неравенство; но если это требование равенства благодаря своему продолжительному существованию утратило характер относительности и стало самостоятельным, то оно может стать и идеалом тех лиц, у которых субъективно оно не возникало таким образом. Утверждение логического права за требованием равенства – как будто из сущностного равенства людей можно было бы аналитически вывести и то, что они должны быть равны и в отношении своих прав, обязанностей и благ всякого рода – имеет лишь самую поверхностную, призрачную обоснованность. Во-первых, при помощи одной логики никогда нельзя вывести из действительных отношений чистое долженствование или из реальности – идеал, ибо для этого всегда нужна еще воля, которая никогда не вытекает из чисто логического теоретического мышления. Во-вторых, нет в частности никакого логического правила, по которому из субстанциального равенства нескольких существ вытекало бы их функциональное равенство. В-третьих, и сама одинаковость людей как таковых очень условна. И это совершенный произвол – из-за того, в чем они одинаковы, забывать их многочисленные различия или стремиться связывать с простым понятием человека, в котором мы объединяем столь разнородные явления, такого рода реальные последствия – это пережиток того реализма понятий в понимании природы, который полагал сущность отдельного явления не в его специфическом содержании, а лишь в том общем понятии, к которому оно принадлежало. Все представления о той самоочевидной правомерности, которая присуща требованию равенства, есть только пример того, что человеческий дух склонен рассматривать результаты исторических процессов, если только они просуществовали достаточно долго, как нечто логически необходимое. Но если мы будем искать психическое влечение, которому соответствует требование равенства, исходящее от низших классов, то обнаружим его только в том, что является истоком всяческого неравенства, а именно, во влечении ко все большему счастью. А так как оно уходит в бесконечность, то нет никаких гарантий, что создание наибольшего социального уровня в смысле равенства не станет лишь переходным моментом развивающейся дальше дифференциации. Поэтому социализм должен стремиться одновременно к созданию наибольшего социального уровня в смысле коллективного достояния, потому что благодаря этому у индивидов все больше и больше исчезает повод и предмет для индивидуального отличия и дифференциации.
Между тем все еще остается вопрос, не будут ли незначительные различия между людьми в том, что они суть и чем владеют{28}28
В оригинале использована емкая формула, которая, однако, плохо вписывается в контекст русской фразы: «Unterschiede des Seins und Habens» – «различия в бытии и обладании».
[Закрыть] (эти различия не может устранить даже самая высокая социализация), вызывать те же психологические, а следовательно, и внешние последствия, какие вызывают в настоящее время различия гораздо большие. В самом деле, ввиду того, что не абсолютная величина впечатления или объекта заставляет нас реагировать на него, но отличие его от других впечатлений, увеличившаяся способность ощущать различия может связывать с уменьшившимися различиями не уменьшившиеся последствия. Этот процесс происходит повсюду. Глаз настолько приспосабливается к незначительному количеству света, что ощущает, наконец, различия в цветах так же, как прежде чувствовал их только при гораздо более сильном освещении; незначительные различия в положении и наслаждении жизнью, встречающиеся внутри одного и того же социального круга, вызывают, с одной стороны, зависть и соперничество, а с другой – высокомерие, словом, создают все последствия дифференциации в той же степени, что и различия между двумя очень отдаленными друг от друга слоями, и т. д. Нередко даже можно наблюдать, что наше отличие от других лиц ощущается тем сильнее, чем больше у нас с ними общего в остальных отношениях. Поэтому, с одной стороны, те последствия дифференциации, которые социализм считает вредными и подлежащими устранению, совсем не устраняются им; с другой стороны, социализм отнюдь не так уж опасен культурным ценностям дифференциации, как это было бы желательно его врагам; приспосабливание нашей различительной способности может сообщить как раз меньшим личностным различиям при социализированном строе ту же силу и в хорошем, и в дурном отношении, какой обладают различия нашего времени.
Социальный круг как случайное соединение разнородных элементов; прогрессивное движение к установлению ассоциативных отношений между однородными элементами разнородных кругов.
Возможность для одного человека быть членом различных групп; вытекающая отсюда определенность личности. Новая дифференциация внутри вновь образовавшихся кругов, конкуренция, принадлежность к противоположным группам. Индивидуальная свобода в выборе коллективистской принадлежности.
Ассоциация на основании объективной, а не внешней, локальной и механистической сопринадлежности; абстрактный характер объединяющих точек зрения. Создание из индивидуальных кругов более высокого порядка; отделение координированных кругов друг от друга.
Случайная целесообразность объединения согласно схематическим нормам
Различие между развитым и более грубым мышлением обнаруживается в различии тех мотивов, которые определяют ассоциации представлений. Случайного сосуществования в пространстве и времени бывает сначала достаточно, чтобы психологически связать представления; соединение свойств, образующее конкретный предмет, выступает сначала как единое целое, и каждое из них находится в тесной ассоциативной связи с другими, только в окружении которых оно и стало нам известным. Как самостоятельное содержание представления оно осознается лишь тогда, когда появляется еще в нескольких разнородных сочетаниях; одинаковое во всех этих сочетаниях ярко высвечивается и одновременно соединяется между собой, все более освобождаясь от сплетения с тем, что является объективно{29}29
Как «объективно», «объективный» здесь и далее, как правило, переводится немецкое «sachlich». «Sache» – это «вещь», «предмет», «дело». Поэтому Ильин и Вокач не очень ошибались, переводя «sachlich» как «в сущности». Однако это понятие постепенно становится очень важным для Зиммеля, оно входит в его знаменитую оппозицию «личная и объективная (т. е. предметная, вещная) культура», развитую сначала в одноименной статье, а затем в «Философии денег». Иными словами, «объективный» здесь надо понимать не в строгом философском смысле, т. е. соотносительно с корректным употреблением понятия субъекта, сколько немного более приземленно – как то, что относится к самой вещи, к делу, к содержанию, а не к переживанию и оценке.
[Закрыть] иным и что связано с ним вследствие случайного сосуществования в одном предмете. Таким образом, ассоциация отрывается от возбуждения, вызываемого тем, что может быть актуально воспринято, и восходит к тому возбуждению, которое основывается на содержании представлений и на котором строится образование понятий более высокого порядка, вычленяя тождественное даже из самых разнородных смешений, встречающихся в действительности.
Развитие, через которое проходят здесь представления, кое в чем аналогично взаимоотношениям индивидов. Сначала отдельный человек обнаруживает, что его окружение, будучи относительно безразлично к его индивидуальности, приковывает его к своей судьбе и навязывает ему тесное сосуществование с теми, рядом с кем он поставлен случайностью рождения; и это «сначала» относится к первоначальным ступеням как филогенетического, так и онтогенетического развития. Ход этого развития нацелен на установление ассоциативных отношений между гомогенными составными частями, принадлежащими к гетерогенным кругам. Так, семья охватывает некоторое число разнородных индивидуальностей, тесно охваченных этой связью. Но по мере развития каждый ее член завязывает связи с личностями, находящимися вне этого первоначального круга ассоциации, отношения с которыми основываются совсем на другом: на объективно одинаковых способностях, склонностях, деятельности и т. д.; ассоциация, основанная на внешнем сосуществовании, все более уступает место ассоциации, основанной на отношениях содержательного порядка. Подобно тому, как более общее понятие связывает то, что обще большому числу очень разнородных комплексов созерцаний, точно так же более высокие практические точки зрения сводят воедино одинаковых индивидов из совершенно чуждых и не связанных друг с другом групп; создаются новые круги соприкосновения, которые под самыми разными углами пересекают прежние круги, сравнительно более естественные, больше основанные на чувственных отношениях{30}30
Это рассуждение, в котором по существу обосновывается дихотомия типов социальной связи, полезно сравнить с другими дихотомиями, введенными в то же самое время в трудах Тённиса и Дюркгейма: «сообщество/общество» и «механическая/ органическая солидарность».
[Закрыть].
Один из самых простых примеров мы уже приводили, а именно, что первоначальная взаимосвязь семейного круга видоизменяется тем, что индивидуальность уводит отдельного человека в другие круги{31}31
У Зиммеля это выражено недостаточно внятно, а понимать следует, видимо, так, что отдельного человека вводит во внесемейные круги его индивидуальность, непохожесть на других членов семьи.
[Закрыть]; один из высших примеров – это «республика ученых», наполовину идеальная, наполовину реальная связь, объединяющая всех, кто вообще причастен к такой в высшей степени общей цели, как познание, а в остальном – что касается национальности, личных и специальных интересов, социального положения и т. д. – принадлежит к самым различным группам. Еще сильнее и характернее, чем в наше время, способность духовных и культурных интересов извлекать однородное путем дифференциации из самых разнородных кругов и соединять его в новую общность обнаружилась в эпоху Возрождения. Гуманистический интерес сломил средневековую обособленность кругов и сословий и сделал людей, отправлявшихся от самых различных точек зрения и нередко остававшихся верными самым разнообразным профессиональным призваниям, активными или же пассивными участниками идей и познания, чрезвычайно многообразно перекрещивавших прежние формы и членения жизни. Господствовало представление, что все значительное взаимосвязано; об этом свидетельствуют появляющиеся в XIV в. сборники биографий, изображающие в одной книге жизнь выдающихся людей как таковых, – все равно, будь то богословы или художники, государственные мужи или филологи. Только при таких обстоятельствах становится возможным, чтобы могущественный король Неаполя Роберт вступил в дружбу с поэтом Петраркой и подарил ему свою пурпуровую мантию; только при таких обстоятельствах чисто духовное значение могло быть обособлено от всего остального, что еще ценилось, и в результате этого венецианский сенат, выдавая Джордано Бруно курии, мог написать: Бруно – один из злейших еретиков, он совершил самые ужасные вещи, вел распутную и прямо дьявольскую жизнь, – но в остальных отношениях он один из самых замечательных умов, которые только можно себе представить, он человек необычайной учености и величия духа. Склонность гуманистов к странствованиям и авантюрам и даже их характер, отчасти изменчивый и непостоянный, соответствовали этой независимости духовного начала, составлявшего их жизненный центр, от всех других требований, обращенных к человеку; такая независимость должна была сделать их равнодушными именно по отношению к этим требованиям. Отдельный гуманист, вращаясь среди пестрого разнообразия жизненных отношений, воспроизводил судьбу гуманизма, который в одни и те же рамки духовного интереса заключал бедного схоласта и монаха, а равно и могущественного полководца, и блистательную герцогиню.
Число различных кругов, к которым принадлежит отдельный человек, является, таким образом, одним из показателей высоты культуры. Если современный человек принадлежит прежде всего к семейству своих родителей, потом к семье, основанной им самим, а вместе с тем и к семье своей жены; если, далее, он принадлежит своему профессиональному кругу, что уже само по себе часто включает его в несколько кругов с различными интересами (так, например, во всякой профессии, где есть начальники и подчиненные, каждый находится в кругу своего особого вида деятельности, должности, бюро и т. д. в рамках этой профессии, которая всегда охватывает высших и низших; далее, он является членом того круга, который образуется всеми, кто равен ему по положению, но чей вид деятельности и т. д. – иной); если он осознает себя гражданином своего государства, сознает свою принадлежность к определенному социальному сословию, если он, кроме того, – офицер запаса, состоит членом нескольких союзов и общается с людьми самых различных кругов, – то это является уже очень большим разнообразием групп, из которых некоторые, правда, координированы{32}32
Т. е. связаны между собой как однопорядковые.
[Закрыть], однако другие можно было бы упорядочить таким образом, что одна из них выступит как изначальная связь, от которой индивид, благодаря своим особым качествам, отличающим его от других членов первого круга, обращается к кругу более отдаленному. При этом связь с первым кругом может сохраниться, подобно тому как одна сторона какого-нибудь сложного представления, даже если психологически она давно уже вступила в чисто содержательные ассоциации, не обязательно должна утерять ассоциации, соединяющие ее с тем комплексом, с которым она в какой-то момент находится в пространственной и временной связи.
Отсюда следует многое. Те группы, к которым принадлежит индивид, образуют как бы систему координат, так что каждая новая группа, присоединяющаяся к этой системе, определяет его со все большей точностью и однозначностью. Если речь идет о принадлежности только к одной из этих групп, то это еще оставляет индивидуальности широкий простор; но чем больше их становится, тем менее вероятности, что найдутся другие лица, демонстрирующие собой ту же комбинацию групп, что все эти многочисленные круги пересекутся еще раз в одном пункте. Подобно тому, как конкретный предмет теряет для нашего познания свою индивидуальность, если на основании одного из его качеств его подводят под общее понятие, и снова приобретает ее по мере того, как артикулируются другие понятия, под которые его подводят другие свойства, так что каждая вещь, говоря платоновским языком, участвует во стольких идеях, сколько у нее качеств, и тем самым приобретает свою индивидуальную определенность, – точно так же личность относится к тем кругам, к которым она принадлежит. Нечто совершенно аналогичное можно наблюдать и в области теоретико-психологической: то, что мы в нашей картине мира называем объективным, что, как представляется, противостоит субъективности отдельного впечатления как нечто вещное, есть на самом деле только наслоившееся и повторенное субъективное, – подобно тому, как причинность, объективное результирование, по мнению Юма, состоит лишь в часто повторяющихся, временных чувственных следованиях, и подобно тому, как субстанциальный предмет, противостоящий нам, есть только синтез чувственных впечатлений. Таким образом, мы образуем из этих элементов, ставших объективными, то, что мы называем субъективностью κατ' εξοχήν[21]21
По преимуществу (греч.).
[Закрыть], – личность, индивидуальным образом комбинирующую элементы культуры. После того как синтез субъективного создал объективное, теперь уже синтез объективного производит новое и высшее субъективное, подобно тому как личность отдает себя социальному кругу и теряется в нем, чтобы затем снова восстановить свою самобытность посредством индивидуального скрещения социальных кругов. Впрочем, ее целесообразная определенность становится до известной степени противоположной ее каузальной определенности: ведь и по происхождению своему она представляет собой только пункт, в котором перекрещивается бесчисленное множество социальных нитей, только результат наследования от самых различных кругов и периодов приспособления; она становится индивидуальностью только благодаря особенности тех количеств и комбинаций, в которых сочетаются в ней родовые элементы. И вот, если она, со всем разнообразием своих стремлений и интересов, вновь присоединяется к социальным образованиям, то это является как бы излучением и возвратом полученного ею в аналогичной, но только сознательной и усиленной форме.
Определенность ее будет тем большей, чем в большей степени определяющие ее круги окажутся однопорядковыми, а не концентрическими. Это значит, что постепенно сужающиеся круги, такие, например, как нация, социальное положение, профессия, особая категория в рамках данной профессии, не дадут участвующему в них лицу столь индивидуального положения (потому что наиболее тесный круг уже сам по себе означает принадлежность к более широким), какое он получит, если помимо своей профессиональной позиции будет, скажем, принадлежать еще к какому-нибудь научному обществу, состоять членом наблюдательного совета в каком-нибудь акционерном обществе и занимать почетную должность в городе; чем менее принадлежность к одному кругу сама по себе указывает на принадлежность к другому, тем определеннее личность характеризуется тем, что находится в точке пересечения обоих. Я хочу здесь только обозначить, как неизмеримо возрастает возможность индивидуализации также и благодаря тому, что одно и то же лицо может занимать в различных кругах, к которым оно принадлежит одновременно, совершенно различные по относительной высоте позиции. Ибо стоит только образоваться (на основании некоторой общей точки зрения) какому-либо новому объединению, как оно сразу же создает внутри себя неравенство, дифференциацию между руководителями и руководимыми; если какой-нибудь единый интерес, вроде указанного нами гуманистического интереса, служил для высших и низших лиц общей связью, парализовавшей их различие в других отношениях, то внутри этой совокупности и по свойственным ей категориям образовались новые различия между высшими и низшими, совершенно не соответствовавшие различиям между высшими и низшими в пределах других кругов, к которым они принадлежали. Поскольку одно и то же лицо может занимать в различных группах положение, высота которого определяется в каждой из них совершенно независимо, то могут образовываться такие, например, необыкновенные комбинации: в странах, где установлена всеобщая воинская обязанность, человеку, духовно и социально стоящему на высшей ступени, приходится подчиняться унтер-офицеру, а у гильдии парижских нищих есть выборный «король», который является первоначально таким же нищим, как и все, и, насколько я знаю, оставаясь по-прежнему нищим, бывает обставлен поистине королевскими почестями и привилегиями – это, может быть, самое замечательное и индивидуализирующее соединение, с одной стороны, низкого, с другой стороны, высокого социального положения. Далее, здесь нужно обратить внимание на те осложнения, которые образуются внутри группы в результате конкуренции; с одной стороны, купец вместе с другими купцами принадлежит к известному кругу, имеющему много общих интересов: законодательство по вопросам экономической политики, социальный престиж купеческого сословия, его представительство, объединение против публики для поддержания определенных цен и многое другое, – все это касается всего торгового мира как такового и делает его единством в глазах третьих лиц. Однако, с другой стороны, каждый купец противостоит в качестве конкурента столь многим другим купцам, а вступление его в этот профессиональный круг означает для него одновременно объединение и обособление, ставит его в равное с другими и обособленное от других положение; он отстаивает свой интерес в самой ожесточенной конкуренции с теми, с кем ему часто приходится объединяться самым тесным образом ради одинаковых интересов. Хотя эта внутренняя противоположность обнаруживается резче всего в купеческом мире, однако она встречается повсюду вплоть до эфемерной социализации общества, собравшегося на каком-нибудь вечере. И если мы только примем во внимание, насколько важно для личности то, в какой степени она примыкает к своим социальным группам или находится в отношении противоположности с ними, то перед нами откроется неизмеримое множество возможностей индивидуализирующих комбинаций, ибо отдельный человек принадлежит ко многим различным кругам, в которых отношение между конкуренцией и объединением бывает очень различно; а так как каждому человеку до известной степени свойственна коллективистская потребность, то в результате смешения коллективизма и изоляции, предоставляемого каждым кругом, образуется новая рациональная точка зрения для сопоставления кругов, к которым примыкает отдельный человек: там, где внутри известного круга господствует сильная конкуренция, члены его будут охотно подыскивать себе другие круги, в которых конкуренция возможно меньше; так, среди купеческого сословия многие отдают решительное предпочтение любительским объединениям, тогда как сословное сознание аристократа, в достаточной степени исключающее конкуренцию внутри своего круга, делает для него такие восполнения почти совершенно излишними и пробуждает в нем склонность скорее к таким общественным формам, внутри которых развивается более сильная конкуренция, например, ко всему, что основано на спортивных интересах. Наконец, в-третьих, я упомяну здесь еще о часто взаимно не согласующихся скрещениях, которые образуются, поскольку интересы индивида или группы взаимно противоположны и потому заставляют их принадлежать одновременно к совершенно противоположным партиям. Такое поведение представляется индивидам наиболее естественным тогда, когда при разносторонне развитой культуре господствует интенсивная партийная жизнь; именно тогда обычно бывает так, что политические партии делят между собой различные позиции даже в отношении тех вопросов, которые не имеют с политикой ничего общего, так что одна определенная тенденция в литературе, искусстве, религиозности и т. д. ассоциируется с одной партией, а противоположная ей – с другой; линия, отделяющая партии одну от другой, проводится в конце концов через всю совокупность жизненных интересов. Ясно, что тогда, например, отдельный человек, который не хочет решительно во всем идти за партией, по своим эстетическим или религиозным убеждениям окажется в такой группе, которая слита воедино с его политическими противниками. Он будет стоять в пункте пересечения двух групп, которые обычно сознают себя противоположными друг другу. Целые массы народа вынуждены были занимать такое двойственное положение в эпоху жестокого подавления ирландских католиков Англией. Пусть сегодня протестанты Англии и Ирландии чувствовали себя связанными воедино в борьбе против общего религиозного врага, независимо от национальности, однако назавтра протестанты и католики Ирландии были связаны воедино, невзирая на религиозные разногласия, в борьбе против угнетателя общей родины.