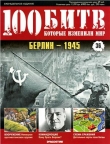Текст книги "Последний штрафбат Гитлера. Гибель богов"
Автор книги: Генрих Эрлих
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 18 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Эсэсовцы быстро смекнули, что происходит, возможно, они уже сталкивались с этим раньше. Они быстро сгруппировались и преградили им путь, выставив вперед автоматы. Оберштурмбаннфюрер Клиппенбах даже выстрелил несколько раз в воздух из пистолета. Он надеялся их этим остановить. Он не на тех напал.
Клиппенбах и сам это понимал, он поэтому не рискнул стрелять в надвигающуюся толпу, ведь это были штрафники, смертники, их смертями нескольких товарищей не остановишь, только еще пуще распалишь. И будут идти на их изрыгающие огонь автоматы, как шли на русские, они доберутся до них, а потом порвут в клочки. Это было написано у них на лицах, особенно на лице невысокого фельдфебеля, что шел впереди. Клиппенбах опустил руку с пистолетом, отступил на шаг назад. Его команда тоже попятилась.
Они молча теснили эсэсовцев к развалинам крематория и душегубок. У тех не было другого пути отхода. Едва заслышав выстрелы Клиппенбаха, обозники высыпали на дорогу у ворот лагеря и тут же, сориентировавшись в ситуации, заняли круговую оборону. Вот и обозники на что-то сгодились! Впрочем, там был лейтенант Вайсмайер, его зацепило во время вчерашнего боя в деревне, он-то всех и построил. Это был настоящий боевой офицер.
С дальнего конца лагеря приближалось еще одно подкрепление, во главе саперов и артиллеристов шагал сам подполковник Фрике. Он тоже быстро разобрался в ситуации и… не спешил. Останавливался возле каждого барака и призывал к себе всех солдат и унтер-офицеров, которые не последовали за Юргеном. Фрике предоставлял бузотерам возможность самим разобраться с эсэсовцами. Он находил это даже полезным в плане развития инициативности, обретения чувства локтя и отработки командных действий. А он их прикроет перед начальством потом, если потребуется. Ему будет легче сделать это, если он не будет присутствовать при разборке.
Эсэсовцы отошли уже к самому крематорию. На площадке остался один Штейнхауэр, его рука лежала на рукоятке дистанционного взрывателя.
– Это к складу с газом, – сказал он Юргену. – Вот взорву сейчас все к чертовой матери. Все на хрен погибнем.
– Не взорвешь, – сказал ему Юрген, – ты еще пожить хочешь, ты еще не дошел до точки.
– Тоже верно, – сказал Штейнхауэр, оторвал руку от рукоятки, поднялся. – Мы еще встретимся с тобой, Юрген Вольф, – сказал он с угрозой, – повоюем.
– Может быть, и встретимся, – ответил Юрген, – может быть, и повоюем, может быть, даже и не против, а вместе, все может быть.
– Может, – усмехнулся Штейнхауэр, повернулся к Юргену спиной и направился к своим.
Эсэсовцы обогнули руины крематория и направились к боковым воротам, через которые в лагерь доставляли разные грузы. Они не преследовали отступающего деморализованного противника, ведь это была не боевая операция.
– Неподчинение приказу, – тихо сказал Юргену подполковник Фрике, незаметно подошедший и вставший рядом. В голосе Фрике не было осуждения, простая констатация факта.
– Там, в бараке, я увидел одного человека, он был очень похож на моего отца, – сказал Юрген. Он не оправдывался, он пытался объяснить. – У меня отца посадили, много лет назад, я с тех пор ничего о нем не слышал.
– Это не имеет никакого значения, – сказал Фрике.
– Да, это не имело никакого значения, – согласился Юрген, – я просто не хотел выполнять этот приказ. Я не убийца.
– Да, мы не убийцы, сынок, – сказал Фрике, – мы – солдаты.
Они покидали лагерь. Они не вспоминали о заключенных, они ничего не могли для них сделать. Они и так предоставили им шанс – шанс дождаться прихода русских. Им же нужно было спешить на запад, чтобы соединиться с основными силами и, закрепившись на подготовленных позициях, не пустить русских дальше. Это был их шанс. Никто бы не рискнул взвешивать шансы.
– Как вы полагаете, герр подполковник, какие последствия будет иметь… э-э-э… инцидент? – спросил обер-лейтенант Вортенберг, когда они шли к воротам лагеря.
– Полагаю, что никаких, – ответил Фрике, – о нас даже не упомянут в рапорте. Ведь это не мы не выполнили приказ, это они, – он ткнул пальцем в сторону, куда ушли эсэсовцы, – не выполнили приказ. Любые ссылки на недисциплинированность солдат испытательного батальона будут восприняты как попытка уйти от ответственности, переложив ее на чужие плечи, и лишь усугубят их вину.
Юрген подошел к обозу. У повозки, вцепившись двумя руками в бортик и согнувшись пополам, стояла Эльза. Ее рвало.
– Ну что ты, девочка, – ласково сказал Юрген, – все же закончилось. Все хорошо.
Хорошего было мало. И ничто не закончилось. Призраки концлагеря долго преследовали их. Они высовывали руки из-под снега, они ложились на дорогу и хватали их за ноги, они сидели, привалившись к деревьям, и смотрели на них остекленевшими глазами, они безмолвно кричали навечно разверзнутыми ртами, они показывали им свои искалеченные конечности, свежие раны на груди, размозженные выстрелами затылки. Их были сотни, если не тысячи, этих призраков в лагерных робах. Заключенных, способных идти и держать в руках кирку, гнали этой дорогой за несколько дней до них. Всех падавших от измождения охранники пристреливали на месте. Это был настоящий марш смерти.
Они свернули в сторону. Им, еще живым, было не по пути с мертвецами.
Das war Deutschland
Это была Германия. Как только они увидели на ничем не примечательной липе табличку с номером, так сразу и поняли: они на Родине! Все сразу встало на положенные места: дороги выпрямились и затвердели, деревья вдоль дорог выстроились в ровные шеренги, через каждый километр из-под осевшего снега выглядывала скамейка, словно приглашая присесть и отдохнуть усталых путников, то есть их, если где и виднелась упавшая ветка, то она, казалось, кричала: я только что упала, не расстреливайте лесника!
В таком лесу хорошо за девушками бегать или партизан-диверсантов ловить, а вот самому убегать несподручно. А они, в сущности, этим и занимались.
Та задержка из-за концлагеря дорого им обошлась – русские опять сели им «на хвост». А тут еще погода окончательно испортилась.
На фронте хорошей погоды не бывает, непролазная грязь без остатка заполняет интервал между испепеляющей жарой и трескучим морозом. Ветер непременно пронизывающий, за исключением случаев, когда с тебя пот градом катит или вокруг такой дым и тротиловый чад, что дышать невозможно. С неба непременно что-нибудь сыплется: дождь, снег или, как позавчера, бомбы.
Ясная погода с ярким солнцем и легким морозцем – хуже не бывает! Воздух чист, видимость до самого горизонта, лес прозрачен и просматривается до самой земли, все ползущее и идущее как на ладони, хочешь – из пулеметов на бреющем полете расстреливай, хочешь – бомбы мечи. Такой вот им денек выдался. Спасло то, что русские летчики маленькими группами брезговали, тем более с повозками, им длинную колонну подавай, лучше с танками. Ну и то, конечно, что подполковник Фрике вновь приказал им разделиться и идти повзводно. После третьего налета русских «илов» они выяснили методом проб и ошибок, что именно взвод является пределом брезгливости летчиков. Так и пошли.
В тот день переход получился средненьким. За десять дней они прошли от Вислы четыреста километров, выходило в среднем по сорок километров в день. Столько они и прошли. Надо было больше, ведь не было ни арьергардного боя, ни других непредвиденных остановок, да ноги не шли, как свинцом налились. И дело было не в том, что они все десять дней не снимали сапог, что их ноги были стерты, а у новобранцев и вовсе разбиты в кровь.
Просто им было тяжело идти по родной земле, зная, что за ними по пятам идет безжалостный враг. Не таким им виделось в мечтах возвращение на Родину. Пусть лишь немногие мечтали вернуться победителями. Но все мечтали вернуться свободными людьми. Свобода многогранна. Идти, расправив плечи и не оглядываясь настороженно по сторонам, вдыхать полной грудью чистый свежий воздух, не втягивать голову в плечи и не падать на землю при любом подозрительном звуке – это тоже свобода. Они знали, что могут вернуться на Родину, лишь пройдя испытание, обретя свободу. Но и в этом случае почувствовать себя свободными они могли, лишь вернувшись на Родину, в родные деревни и города. Родина и свобода слились в их сознании воедино, это были две стороны одной медали, которой, даст Бог, их когда-нибудь наградят. И вот они на Родине, и они – несвободны. Более того, несут на своих плечах несвободу всем людям, живущим на этой прекрасной земле, в их родных деревнях и городах. На душе было тяжело. И ноша была тяжелая. Они едва переставляли ноги.
Впереди показалась деревня, забрехали собаки. Лейтенант Ферстер, кинув быстрый взгляд на Юргена, сказал неуверенно и раздумчиво, как будто сам с собой разговаривал:
– Надо бы разведчиков послать.
– Целлер! Фридрих! Разведать обстановку, – скомандовал Юрген.
Это была надежная пара, они хорошо взаимодействовали друг с другом. Через четверть часа Целлер с Фридрихом призывно помахали им от крайнего дома.
– Черт-те что! – сказал Целлер, когда Юрген подошел к нему. – Никогда такого не видел.
Юрген был готов ко всяким ужасам, вроде показанных в давешней хронике, ведь русские вполне могли уже побывать в этой деревне. Он шел по широкой, мощенной камнем деревенской улице, смотрел на добротные двухэтажные кирпичные дома, на палисадники с ровными, прорытыми в снегу дорожками, на крепкие дворовые постройки, из которых раздавалось то хрюканье свиньи, то мычание коровы, то квохтанье кур. Все было как в нормальной немецкой деревне. Людей не было.
– Все ушли, до одного, – сказал Целлер и показал на узкие полоски, тянувшиеся из каждой калитки и сливавшиеся на улице в одну проторенную колею. Такие следы оставляют санки или детские коляски. – Все бросили и – ушли, – повторил Целлер.
– Ужас, – сказал Юрген.
– Вот и я говорю, – кивнул, соглашаясь, Целлер.
– Все бросили, – подтвердил через полчаса Клинк, профессионально обыскавший пару домов, – золото, колечки-сережки, деньги – это, конечно, взяли, бельишко на смену, мелочи разные, а все остальное оставили. Даже пиво со шнапсом! – радостно возвестил он и, выпростав руки из-за спины, поставил на стол две бутылки.
Шедший за Клинком Отто Гартнер тем же жестом выложил на стол свиной окорок и круг колбасы.
– А хлеба нет? – спросил Тиллери.
– Хлеба нет, – ответил Отто.
– Жаль, – откликнулись все дружно.
– Есть квашеная капуста, – сказал Отто.
– Достала эта капуста! – взорвался Граматке. – Во всех деревнях – одна только капуста!
– Разговорчики! – строго прикрикнул Юрген и добавил, много мягче: – Зепп, разливай!
Он сидел в кресле, блаженно шевелил сопревшими пальцами ног, смотрел, как Клинк ставит на стол рюмки и фужеры из стеклянной горки, как Отто строгает ножом свиной окорок и раскладывает его на большом блюде, как Фридрих упал плашмя, широко раскинув руки, на широкую хозяйскую кровать и утонул в мягкой перине, как Брейтгаупт натянул на руку свой носок и сосредоточенно смотрит на пальцы, торчащие из продранных дыр, как Эльза суетится возле водонагревателя, подкладывая в разгорающуюся топку чурочки из стоящей рядом аккуратной стопки. На ее бледном лице проступает румянец. Или это отблеск огня? Вот ведь бедовая девчонка! Так достала подполковника Фрике своими просьбами, что тот наконец приказал Юргену взять Эльзу в его отделение на время марша. Только на время марша, был вынужден согласиться Юрген. Ему только баб в отделении не хватало! Мало ему Эббингхауза с Цойфером и Граматке в придачу! В глубине души он волновался за Эльзу, мало ли что, вдруг бой, в санитарном отделении вроде как безопаснее. Но на марше все равны, так даже спокойнее, когда все время на глазах.
– Готово! – сказал Клинк. – Налетай!
Две бутылки на отделение – это только горло слегка смочить. Даже Эльза с некоторым удивлением посмотрела на дно рюмки – и это все?
– Там еще есть, – сказал Клинк, – я схожу? – Он выжидающе посмотрел на Юргена.
Тот кивком дал согласие.
– И пива! – возгласил Целлер.
– Там такой бочонок, что я один не унесу, – сказал Клинк.
– Цойфер! Граматке! – коротко распорядился Юрген.
– Есть, герр фельдфебель! – ответил Граматке четко и радостно, как положено нормальному солдату, и в кои веки ничего больше не добавил.
«Привыкает помаленьку к армейской службе», – подумал Юрген.
Брейтгаупт вдруг решительно натянул сапоги на ноги, поднялся, сказал: «Корова на дворе, харч на столе», [11]11
«Eine Kuh deckt viel Armut zu» (нем.) – вот что сказал Брейтгаупт.
[Закрыть]– взял чистое ведро, смочил теплой водой полотенце и направился к входной двери. За ним поднялся Блачек, до него первого – бывает же такое! – дошло, что имел в виду Брейтгаупт.
– Ганс прав, – сказал он, – коровы который день недоены, сил нет слушать. Пойду подою. – Он даже не подумал спросить разрешение у командира, для него это было таким естественным делом, на которое и разрешение-то спрашивать смешно.
Юрген прислушался. Коровы действительно мычали. Но вполне терпимо. Он слышал звуки и похуже.
– Коровы мычат, мы берем у них молоко, чтобы облегчить их страдания, – задумчиво сказал Целлер, – в хлеву хрюкает свинья, она хочет есть, можем ли мы прекратить ее страдания одним коротким ударом штыка?
– Свиные ребрышки были моим фирменным блюдом, – оживился Эббингхауз. Он рвался чем-нибудь услужить своим товарищам, ведь они освободили его, дважды раненного, на марше от всей поклажи, даже личной, и позволили проехать несколько километров на повозке, хотя им непрестанно приходилось упираться, подталкивая эту повозку вместе с ним, толстяком Эббингхаузом.
– Но не будет ли это расценено как мародерство? – продолжил Целлер и посмотрел на командира.
Это был трудный вопрос. Тут было необходимо заключение эксперта. Но Ульмер, их эксперт по мародерству, был в госпитале после ранения в Варшаве. Это было тем более обидно, что фельдфебель Ульмер попал в штрафбат как раз за кражу свиньи, по крайней мере, его за это судили. Он с солдатами его отделения наткнулся на разбитый русским снарядом грузовик, который перевозил замороженные свиные туши. Они отступали и не ели больше суток, они дочиста обглодали одну тушу, не задумываясь, что это имущество Вермахта. Имущество Вермахта… Цойфер тоже воровал имущество Вермахта. Но можно ли считать его экспертом по мародерству? Нет, заключил Юрген. Ему самому придется принимать решение.
– Нет, – сказал он, – мы не грабим мирное население, мы лишаем наступающего противника запасов продовольствия. Тактика выжженной земли.
– Тактика убитых свиней, – подхватил Фридрих.
– Ну, я пойду, – сказал Целлер, поднимаясь. Он примкнул штык к автомату.
– Эббингхауз, Тиллери, – коротко приказал Юрген.
Вскоре донесся истошный визг, оборвавшийся на высокой ноте. Это были звуки, ласкающие слух каждого настоящего солдата, Юрген с наслаждением вслушивался в них. Появились первые добытчики, Клинк прижимал к животу четыре бутылки шнапса, Цойфер с Граматке, тяжело отдуваясь, вкатили бочонок пива. Брейтгаупт с Блачеком принесли по ведру пенящегося молока, тут же его разлили по большим кружкам, поднесли каждому из присутствовавших.
– Когда мне первый раз предложили в польской деревне парное молоко, я не смог его пить, – сказал Фридрих, принимая кружку – Как же много воды утекло с тех пор!
– Молока, Счастливчик, молока! – сказал Юрген. Он с наслаждением выпил полкружки, стер рукой осевшие белые усы, чуть скривился, ощутив ладонью многодневную щетину.
– А я вот все смотрел, смотрел, – начал Блачек, – все так знакомо, мне кажется, что я был здесь, точно был! Сосед мой невесту взял из этой деревни… Надо же, за двадцать километров, ближе не нашел. Мы перед свадьбой за ней ездили.
Тут распахнулась дверь. На пороге возник Тиллери. Вместо куска свиной туши он волок какого-то мужичонку в потертом пальто.
– За хлевом прятался, – доложил Тиллери, – делает вид, что не понимает по-немецки.
– Мародер или шпион, – вынес быстрый вердикт Юрген, – все одно – расстрелять!
Мужичонка задрожал, он, похоже, все же понимал по-немецки. Собственно, Юрген своей фразой только это и хотел выяснить. Для начала.
– Из местных, может быть, – неожиданно влез Блачек, – тут есть в округе деревеньки, где такая рвань живет, поляки. Мезериц? Где Мезериц? – обратился он к мужичонке.
Тот смотрел на него с ненавистью.
– Не знамо, – разомкнул он наконец крепко сжатые губы, – Мендзыжеч – там, – он махнул рукой в сторону.
– Вот сука! – замахнулся кулаком Блачек. – Вы слышали, герр фельдфебель, как эти вшивые поляки называют мой родной Мезериц! – воскликнул он, оборачиваясь к Юргену.
– Какое варварское наречие! – сказал Фридрих. – Язык сломаешь. То ли дело – Мезериц.
– Вот-вот, – сказал Блачек.
– Как рука, Блачек? Не сильно болит? – заботливо спросил Юрген.
– Побаливает, – ответил Блачек, – но ничего, она не рабочая.
– Хорошо. Вот ты рабочей дай ему в зубы за Мезериц и выкинь на улицу, – приказал Юрген, – пусть катится ко всем чертям. – Он был великодушен, он позволил себе немного расслабиться после долгого марша, ему не хотелось портить этот уютный вечер.
Они сидели за столом, пили шнапс, запивали его молоком и пивом, закусывали окороком и колбасой. Ждали обещанных свиных ребрышек, над которыми колдовал Эббингхауз, все эти фирменные блюда требовали для приготовления ужасно много времени. А пока они слушали болтовню внезапно разговорившегося Блачека, он выплескивал на них неисчерпаемый запас деревенских рассказов. Он начал с конца, с его призыва в армию и двинулся в глубь времен. Так он добрался до собственного рождения.
– Родился я в пятницу, поэтому мой отец назвал меня Фрайтагом, [12]12
Freitag (нем.) – пятница.
[Закрыть]через i, он был не очень-то изобретателен, мой старик, – рассказывал он.
– В этом он лишь следовал примеру героя романа английского писателя Даниэля Дефо, – встрял Граматке, его просто распирало от желания лишний раз продемонстрировать свою ученость. – Героя звали Робинзон Крузо, он был моряком и после кораблекрушения попал на необитаемый остров, там он встретил туземца…
«Туземец на необитаемом острове – такое только англичанин мог придумать, – подумал Юрген, – и читают же люди всякую чушь, только время зря переводят!» Сам он книг не читал, разве что в начальных классах, из-под палки. У него была другая школа, школа жизни. В жизни все было не так, как в романах. Юрген в этом нисколько не сомневался.
– Он назвал его Пятницей, потому что нашел в пятницу, – продолжал между тем Граматке, – ваш отец, Блачек, был неоригинален.
– Пятница у нас есть, – сказал Фридрих, – а кто же тогда Робинзон Крузо?
– Юрген Вольф, – ответил Граматке, – он один останется, когда нас всех положит.
Он так шутил, этот Йозеф Граматке. Юрген посмотрел на его скалящуюся физиономию. Ладно, бог с ним, пусть живет, он сегодня добрый.
– Что бы вы без меня делали, – проворчал он, поднимаясь. – Целлер за старшего, – распорядился он и вышел из дома. Надо было согласовать с Ферстером график караулов и вообще проверить, приказал ли растяпа-лейтенант выставить посты.
Вернулся он где-то через час. У угла дома стояла, согнувшись, Эльза, ее опять рвало.
– Шнапс, молоко или смесь? – спросил Юрген, когда Эльза наконец разогнулась.
– Нет, – шмыгая носом, сказала Эльза, – залетела, с Варшавы месячных нет, три месяца…
– Ну, ты даешь! Нашла время! – раздосадованно сказал Юрген. Никаких других чувств, кроме досады, он в тот момент не испытывал.
Эльза виновато опустила голову. Да, ее промашка. Но знал бы он, как трудно все соблюсти в этих антисанитарных условиях!
– Что ж так затянула? – спросил Юрген, уже помягче.
Эльза еще ниже понурила голову. Да, затянула, так ведь – в первый раз! Она даже не знает, как, и совета спросить не у кого, ни подружек, ни матери. Не у их же батальонного доктора, тот только и знает, что пули из ран извлекать да руки-ноги отрезать. Эх, если бы не в первый раз, то она тогда бы избавилась. Возможно, добавила Эльза и испуганно встрепенулась, а ну как милый мысли ее прочитает.
– Ты меня теперь разлюбишь, – заныла Эльза, – я некрасивая стану.
«Началось», – тоскливо подумал Юрген.
– Не разлюблю.
– Бросишь.
– Не брошу.
– Забудешь.
– Не забуду.
– Отошлешь.
– Отошлю, – твердо сказал Юрген, – нечего тебе на фронте делать. Как дойдем до своих, так сразу рапорт и подам. Все! – сказал он, прекращая дискуссию.
– А как уеду, так и забудешь, а как забудешь, так и разлюбишь, а как разлюбишь, так и бросишь, – пластинка пошла на второй круг. – А-а-а! – Слезы брызнули во все стороны.
Насилу успокоил. Вернулись в дом. Юрген сел за стол. Брейтгаупт, старый товарищ, поднял на него вопрошающий взгляд, потом чуть скосил глаза в сторону Эльзы.
– Залетела, – коротко сказал Юрген, у них не принято было скрывать свои проблемы от товарищей.
Брейтгаупт понимающе кивнул головой. Он давно это подозревал, но помалкивал по своему обыкновению. И, учитывая экстраординарность ситуации, выдал сразу две народные мудрости:
– Любовь не картошка, не выкинешь в окошко. – И немного погодя: – Любишь кататься, люби и саночки возить. [13]13
«Gegen die Liebe ist kein Kraut gewachsen», «Wer will fahren, zieh' auch den Karren» (нем.) – это сказал Брейтгаупт.
[Закрыть]
Брейтгаупт был прав. Он всегда был прав, с ним невозможно было не согласиться. Пришел черед Юргена кивать головой, обреченно.
* * *
На следующий день, к вечеру, они достигли наконец позиций, где стояли свежие резервные части. И сразу попали в крепкие объятия. Жандармов. Те не были рады их видеть. Посыпались обычные вопросы: почему вы не сражались? почему вы отступали? почему у вас так мало раненых? Можно было подумать, что они предпочли бы увидеть перед собой не вполне боеспособное подразделение, а горстку ползущих изможденных солдат, оставляющих за собой кровавые следы на снегу. Да они были бы просто счастливы, если бы вообще не увидели их, если бы они все полегли на бесконечной польской равнине!
Так накрутив себя, Юрген отодвинул в сторону лейтенанта Ферстера, начавшего что-то бекать-мекать в свое оправдание, и коротко послал жандармов к черту, то есть к вышестоящему начальству.
– Мы исполняли приказы, – сказал он, – мы лишь солдаты.
Юрген не подставлял подполковника Фрике, он знал, что тот найдет что сказать жандармам, это была обычная тактика. Фрике, несомненно, переведет стрелки на его вышестоящее начальство, которое не отдало внятного приказа. Проблемы высокого начальства Юргена не трогали.
– Да, ваш командир уже представил рапорт, – сказали вмиг смирившиеся жандармы, – проходите.
Подполковник Фрике был уже здесь, это радовало. С другой стороны, огорчало, ведь они задержались. «Все эти чертовы деревенские перины!» – корил себя Юрген. Он любил быть во всем первым. Он нашел командиров у второй траншеи. Фрике разговаривал с Вортенбергом.
– Фельдфебель Юрген Вольф! – радостно приветствовал его Фрике. – Отлично! Добрались без потерь? Отлично! – бодро отреагировал он на ответ Юргена. – Сейчас для вас освободят помещения для размещения. Придется немного подождать.
– Как и ужина, – добавил Вортенберг.
Они вернулись к прерванному приходом Юргена разговору.
– Если не ошибаюсь, это уже шестая подготовленная линия обороны. Как водится, непроходимая и несокрушимая, – сказал Фрике. Он считал Вортенберга и Вольфа своими, среди своих он не выбирал выражений.
– Первая линия – западный берег Вислы, – принялся загибать пальцы Вортенберг, – вторая проходила с севера на юг через Лицманнштадт (Лодзь, автоматически перевел Юрген, ему это название было привычнее), третья – по линии Торн-Конин и далее на юг по западному берегу Варты, четвертая опиралась на Позен (Познань, перевел Юрген), пятая шла по старой государственной границе. Да, шестая, герр подполковник! – с какой-то даже радостью доложил Вортенберг. Он радовался своей молодой памяти.
– С первой на шестую, – задумчиво сказал Фрике, – что-то я не заметил промежуточных четырех.
– Русские тоже не заметили. Они и первую не заметили, – в голосе Вортенберга еще звенели остатки радости.
– Обер-лейтенант Вортенберг! – укоризненно воскликнул Фрике.
– Извините, герр подполковник, – потупился Вортенберг и тут же поспешил исправить оплошность: – У нас есть еще седьмая линия обороны, самая мощная! На западном берегу Одера!
«Оно, конечно, хорошо, когда есть столько линий обороны, – подумал Юрген, – с другой стороны, при мало-мальски сильном напоре противника появляется искушение отойти на заранее подготовленные…»
Он не успел додумать свою мысль. Им приказали построиться и повели в большую столовую, как оказалось, на лекцию, – их решили накормить пропагандой вместо ужина. Если местное начальство надеялось поднять этим их моральный дух, то оно сильно ошибалось: для крепости морального духа нет ничего важнее горячего ужина. Но лекция была все же лучше строевой подготовки, которой обычно заполняли такие паузы. Этим частенько грешил даже подполковник Фрике, – Бог ему судья!
– Солдаты славного 570-го батальона! – бодро приветствовала их какая-то тыловая крыса с погонами майора. – Ваше прибытие на позиции переполняет нас радостью. Мы знаем, как отважно вы сражаетесь, и рассчитываем на вас. Те же чувства испытывают и ваши товарищи по оружию, которые бьются сейчас в Восточной Пруссии, у берегов суровой Балтики, в Померании. Ваше прибытие вселяет во всех нас новые силы!
Он говорил так, как будто они прибыли из глубокого тыла, отдохнувшие и посвежевшие, а не притопали сюда, едва волоча ноги после двенадцатидневного отступления. Он вообще говорил как-то излишне гладко, похоже, он не в первый раз произносил эту свою речь.
– Перед нами стоит сложнейшая задача защиты германской и европейской свободы от большевиков, – продолжал витийствовать майор. – Они хотят отнять ее у нас и ради этого готовы использовать самые крайние средства. Сегодня, как никогда раньше, мы должны действовать как один человек. С вашей помощью нам удастся выстоять против азиатской орды. Считайте себя первопроходцами европейской революции. Гордитесь, что именно вас избрали для этой тяжелой задачи. Передаю вам приветствия фюрера и Верховного командования. Наш любимый фюрер сказал: «Знаю, что пока жив хоть один германский солдат, ни одному большевику не удастся ступить на землю Германии». Фюрер никогда не ошибается. Хайль Гитлер!
Тут он сильно промахнулся. Эту речь могли заглотить какие-нибудь желторотые новобранцы, только-только прибывшие на передовую, но не они, старые вояки, видевшие брошенные немецкие деревни. Фюрер ошибся. Фюрер мог ошибаться. Для многих это было обескураживающим открытием. Воцарилось глубокое молчание.
– Фюрер не говорил этого! – громко сказал Фрике. – Уточните цитату, майор! – пригвоздил он рванувшегося было что-то доказывать майора. – Фюрер говорил о неизбежности нашей победы. Фюрер прав: мы победим, несмотря ни на что!
– Да! – дружно закричали солдаты.
– Хайль Гитлер! – крикнул Фрике.
– Хайль Гитлер! – ответили солдаты.
Вышло не так дружно, как в первый раз, но Фрике остался доволен. А майор и вовсе запылал энтузиазмом. Он принялся сыпать цитатами из Геббельса. Тот и раньше был словообилен, но в последнее время поток его речей превратился в водопад. Ведь ему приходилось говорить за двоих, за себя и за фюрера, который после июльского покушения редко появлялся на публике и почти не произносил речей. Кроме того, фюрер назначил его, в дополнение к постам министра просвещения и пропаганды и гауляйтера Берлина, еще и уполномоченным по ведению тотальной войны, так что Геббельс теперь постоянно высказывался и по военным вопросам.
Слушать все это на голодный желудок не было сил, и Юрген отключился. В ушах прозвучала поразительная фраза: «Нет таких военных законов, которые позволяли бы солдату безнаказанно совершать гнусные преступления, ссылаясь на приказ командира, особенно если эти приказы находятся в вопиющем противоречии с нормами человеческой морали и международными правилами ведения войны». Юрген встрепенулся, потряс головой, ткнул локтем в бок сидевшего рядом Целлера.
– Слушай, Франц, – сказал он, – мне сейчас во сне явился то ли ангел, то ли сам Господь Бог. Он сказал, что в концлагере мы все правильно сделали и что мы за неисполнение приказа не подсудны никакому суду, – ни человеческому, ни Божьему.
– Сделали мы все, конечно, правильно, – сказал Целлер, – ты сделал. Вот только то, что ты слышал, сказал доктор Геббельс. Так что потянут нас на цугундер, как миленьких, если заходят. И законы найдутся!
– Какая обида! Первый раз ангел во сне явился, и вот на тебе – вместо него, оказывается, был черт колченогий, – сказал Юрген. – А к чему он это говорил?
– Об английских и американских летчиках, которые бомбят наши города.
– Сволочи! – искренне сказал Юрген.
– Сволочи, – согласился Целлер, – сволочи и изверги, а для начальников их даже слова не подберешь.
– Для начальников не слова нужны, – сказал Юрген, – я бы лично всех больших начальников, всех, – надавил он, – вот из этого автомата…
– Да тише ты! – шикнул Целлер. – Ишь раскипятился.
– А! – Юрген пренебрежительно махнул рукой. – Дальше штрафбата не сошлют, – повторил он их любимую присказку.
– Фюрер и Родина ожидают от вас величайшего героизма, – вещал между тем майор. – Мы должны именно здесь остановить русских. Колебаться и пренебрегать обязанностями не будет позволено никому. Три офицера в любой момент могут образовать военный трибунал и вынести любое наказание.
Нет, этот майор положительно не знал или не понимал, перед кем он выступает. Нашел кого «тройками» пугать! Солдаты весело заржали, и громче всех смеялись Юрген с Целлером, им майор просто в масть попал.
Майор несколько опешил, но быстро взял себя в руки и принялся стращать их разными зверствами русских войск. Все это они не раз уже слышали, новым был лишь рассказ о женщинах-комиссарах, кастрировавших немецких раненых солдат. Новость вызвала жаркое обсуждение. Раньше их пугали немедленным расстрелом при сдаче в плен, теперь – кастрацией. Что страшнее? Все отделение Юргена решило подавляющим большинством голосов, что пусть уж лучше расстреливают, даже Эльза подняла вверх свою ручку. Один лишь Эббингхауз воздержался, продемонстрировав лишний раз свою гнилую сущность.
Не преуспев в щелканье кнутом, майор обратился к пряникам.
– Специально для вас прибыли транспорты с усиленным питанием и дополнительными пайками, – возвестил он.
– Если мне сейчас немедленно не выдадут усиленного горячего питания, я размету эту тошниловку на досточки, – не менее громко сказал Юрген.
Майора как ветром сдуло с помоста, он наконец понял, кто сидел перед ним. Через пять минут им дали горячий ужин. Происшедшее было, конечно, случайным совпадением, но Юрген ходил в героях в который уже раз.
Утром им раздали специальные пайки: бритвенные лезвия и крем для бритья, мыло и одеколон, писчую бумагу и карандаши, спички и брючные пуговицы. Все это дополнили сигаретами, по пятьсот штук на брата, бутылкой вина, бутылкой шнапса на двоих и консервированными сосисками. Новички радовались как дети и занимались сложными обменными операциями. «Старики» сокрушенно качали головами: не к добру все это, к очередному драпу. Интенданты всегда старались избавиться от запасов перед отступлением. Легче убегать, имея при себе лишь ведомости с подписями солдат, чем следить за погрузкой и транспортировкой в тыл подотчетных материальных ценностей.