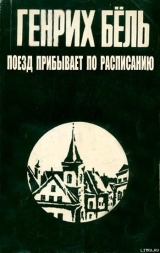
Текст книги "Поезд прибывает по расписанию"
Автор книги: Генрих Бёлль
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 8 страниц)
Она хотела встретиться с ним глазами, но его взгляд опять блуждал по грязным стенам, о которые расшибали бутылки и вытирали липкие пальцы.
– Играла на рояле… Ты меня слушаешь?
– Да, – простонал он, – но как быть с ними, с теми двумя? Не могу же я бросить их. Это немыслимо.
– Перестань!
– А что будет с шофером? Как ты намерена поступить с шофером?
Они стояли друг против друга, и в их взглядах появилась враждебность. Потом Олина все же улыбнулась ему.
– С сегодняшнего дня, – сказала она тихо, – с этого утра я больше не пошлю на смерть ни одного невинного. Поверь мне. Конечно, нам вдвоем было бы куда легче. Мы просто попросили бы остановить машину и бежали бы… бежали куда глаза глядят! На свободу… Но с теми все будет намного сложнее…
– Пусть. Тогда оставь меня вообще. Нет, нет, – он поднял руку, не давая ей сказать ни слова. – Я хочу, чтобы ты знала: спорить тут не о чем. Или – или. Пойми меня, – сказал он, глядя в упор в ее серьезные глаза, – ты ведь тоже некоторых любила… Значит, должна понять меня. Да?
Медленно и тяжело голова Олины опустилась на грудь; Андреас с трудом понял, что это означало согласие.
– Хорошо, – сказала Олина, – попробую что-нибудь сделать.
Она стояла, держась за ручку двери, и ждала его, а он в последний раз окинул взором эту грязную и тесную гостиную. Потом он вышел за ней в плохо освещенный коридор. Гостиная была еще верхом роскоши по сравнению с коридором в этот ранний час. Коридор публичного дома в четыре часа утра! Что за воздух был в нем: едкий и холодный, сырой и спертый. А двери комнат были совершенно одинаковые, как в казарме, одинаково обшарпанные. Все казалось таким убогим, убогим и жалким.
– Иди! – сказала Олина.
Она толкнула одну из дверей, и они вошли в ее комнату, нищую комнату, где было только самое необходимое для ее ремесла: кровать, маленький стол, два стула, таз для умывания на хлипком треножнике. Рядом с ним на полу кувшин с водой, а у стены небольшой шкаф. Только самое необходимое, словно в казарме…
Андреас сидел на кровати, смотрел, как Олина мыла руки, вынимала из шкафа сапожки, сбрасывала красные туфельки, надевала сапожки, и все казалось ему до странности нереальным. Ах да, на стене еще висело зеркало, и Олина, стоя перед ним, наводила красоту. Стерла с лица следы слез, напудрилась, ибо что может быть ужаснее заплаканной проститутки! И еще ей пришлось накрасить губы, подвести брови, почистить ногти. Все это она проделывала очень быстро, как солдат, поднятый по боевой тревоге.
– Ты должен мне верить, – сказала она рассеянно, словно речь шла о чем-то совсем обыденном. – Я спасу тебя, понимаешь? Это будет трудно, потому что ты хочешь взять с собой товарищей. Но я все равно попробую. Можно многое…
Не дай мне бог сойти с ума, молился Андреас, не дай мне бог сойти с ума от этой отчаянной попытки осознать происходящее. Все кажется мне нереальным: и эта комната в публичном доме – жалкая и тусклая при утреннем освещении, – и эти ужасные запахи, и лицо этой девушки в зеркале, девушки, которая тихо напевает, тихо мурлычет что-то, в то время как рука ее привычно проводит помадой по губам. Все нереально: и мое усталое сердце, которое больше ничего не ждет, и мой вялый разум, у которого не осталось никаких желаний – даже желания курить, пить или есть, ни моя усталая душа, которая обо всем забыла и стремится только к одному: спать, спать…
А может, я уже мертв? Кто это в силах понять здесь, в этой комнате?… С этими простынями?… Садясь на ее кровать, я отодвинул их от себя привычным движением человека, который садится в одежде на постель… Зачем? Ведь эти простыни при всем желании нельзя назвать чистыми, а грязными их тоже не назовешь. Загадочные, вселяющие ужас простыни… Ни чистые и ни грязные… И эта девушка у зеркала, которая подводит брови, черные, тонкие брови на бледном лице…
– «Рыбачить мы будем и зверя стрелять, как в доброе старое время…» Помнишь эти строки? – улыбаясь, спросила Олина. – Немецкие стихи. Арчибальд Дуглас. В них рассказывается о человеке, которого изгнали из родной страны. Помнишь? А мы, мы, хотя и живем в родной стране, все равно изгнанники. Изгнанники у себя на родине, никто этого не поймет… Год рождения тысяча девятьсот двадцатый… «Рыбачить мы будем и зверя стрелять, как в доброе старое время…» – вот послушай!
Она и в самом деле начала напевать эту балладу, и Андреас почувствовал, что чаша его жизни переполнилась – серое холодное утро в польском публичном доме, и эта баллада, положенная на музыку Лёве [2] [2] Лёве, Карп (1796 – 1869) – немецкий композитор-романтик. Писал музыку на известные баллады.
[Закрыть], которую она тихо напевает…
– Олина! – снова послышался знакомый бесстрастный голос за дверью.
– Да?
– Счет. Давай сюда счет. И одевайся, машина уже пришла…
Вот она, реальность, – листок бумаги, который Олина брезгливо держит в руке, листок, где записано решительно все, начиная со спичек, которые он взял вчера в шесть часов вечера и которые все еще лежат у него в кармане. Как стремительно летит время, неуловимое время, и ничего, ничего я не успел за это время сделать, и ничего уже не успею, успею только сойти по лестнице за этой свеженакрашенной куколкой навстречу своей судьбе…
– Польские потаскушки, – сказал Вилли, – первосортный товар. А какие страсти, понимаешь?
– Да.
Холл был тоже обставлен весьма скудно: несколько колченогих стульев, скамейки, рваный ковер, тонкий, как бумага. Вилли курил и был опять страшно небрит; он шарил в своих пожитках – искал сигареты.
– Твои забавы, милый мой, мне здорово влетели… Ты оказался дороже всех нас. Правда, и я от тебя не намного отстал. Зато наш белокурый юный друг почти ничего не стоил. Ха-ха. – Вилли толкнул в бок полусонного белобрысого. – Сто сорок шесть марок. За все про все. – Он громко захохотал. – Кажется, наш юный друг и впрямь продрыхал всю ночь рядышком с девицей, продрыхал самым натуральным образом. У меня еще оставалось двести марок, и я сунул их под дверь его крошке. Чаевые. За то, что она таким дешевым манером осчастливила его. У тебя случайно не найдется сигареты?
– Найдется
– Спасибо.
Как долго, как непереносимо долго Олина сидит в комнате у пожилой, какие длинные переговоры ведет в четыре утра! В это время все люди спят. Даже в комнатах у девиц тишина, а внизу, в большом зале, совсем темно. И за той дверью, откуда вчера донеслась музыка, тоже темно: я вижу эту темную гостиную, чую ее запахи. А на улице уже слышен ровный шум мощного мотора. Но Олина по-прежнему сидит за этой окрашенной в красноватый цвет дверью… Вот она – реальность, несомненная реальность…
– Ты, стало быть, считаешь, что эта шикарная колымага, на которой разъезжают генералы и проститутки, повезет и нас?
– Да.
– Гм. «Майбах» – по мотору слышно. Богатая машина. Благородная. Не возражаешь, если я выйду и потолкую с шофером. Ручаюсь, что этот субчик из жандармерии.
Вилли вскинул на плечо свой мешок, распахнул дверь; у самого порога их подстерегала ночь: в ее сплошной, мутной, густо-серой пелене фары машины, стоявшей у сада, высветили два тусклых пятна. Ночь была холодная и неотвратимо реальная, как и все военные ночи.
В ней таились угроза и коварство. Эти зловещие ночи душили всех – солдат в вонючих окопах… людей в бомбоубежищах, десятки и сотни городов, сжавшихся в комок от страха…
К утру, к четырем часам утра, военные ночи, зловещие, непередаваемо жуткие ночи набирают силу. И вот одна из них караулит за дверью… Ночь эта пронизана ужасом, безнадежна и бесприютна, в ней не найдешь ни единого теплого закоулка, где можно было бы спрятаться… Такие ночи наслали на людей наигранно-бодрые голоса…
Неужели она и впрямь считает, что для меня есть спасение? Андреас усмехнулся. Неужели она думает, что мне удастся проскочить сквозь частую сеть? Милая девочка, решила, что я могу убежать. Она тешит себя надеждой, что разыщет дороги, которые минуют Стрый. Стрый… Слово это засело во мне с самого рождения. Хранилось где-то глубоко-глубоко, неузнанное и неразбуженное. Оно сидело во мне с детства. И быть может, однажды, на уроке географии, когда мы проходили «отроги Карпат» и я невзначай увидел на карте светло-коричневое пятно и прочел слова: «Галиция», «Львов», «Стрый», меня вдруг бросило в холодный пот. Но потом это, конечно, забылось. Жизнь уже не раз забрасывала в меня роковой крючок, не раз призывала к смерти, но никогда крючок не застревал. Только крохотное, коротенькое слово «Стрый», которое дремало где-то у меня внутри, подцепило его накрепко…
Стрый… Эти несколько букв, это короткое, ужасное и кровавое слово поднялось из глубин моего существа на поверхность и стало расти, подобно мрачной туче, и вот уже туча закрыла все небо. А Олина, бедняжка, мечтает, что разыщет дороги, которые минуют Стрый… И при всем том меня не прельщает глухая деревушка в Карпатах, где она будет играть на рояле пастора. Меня не прельщает эта мнимая надежность… Не прельщает обещанное спасение. Я верю в иные обещания и предсказания… Верю, что надежность обретешь только за темными, безнадежными далями, которые преодолеешь в назначенный час…
Но вот дверь наконец отворилась, и Андреаса поразила мертвенная бледность, разлившаяся по лицу Оли-ны… Девушка накинула меховую шубку, надела кокетливую шапочку, из-под которой падали на плечи ее красивые золотые волосы, но на руке у нее уже не было часов, ведь он получил обратно свои сапоги. Счет был оплачен. И пожилая теперь улыбалась, сложив руки на тощем животе. Андреас и белобрысый взяли свои мешки, Андреас уже открыл входную дверь, и тут пожилая, усмехнувшись, произнесла одно-единственное слово:
– Стрый…
Олина его не расслышала, она была уже за дверью.
– И мне тоже вынесен приговор, – сказала она вполголоса, когда они сели рядом в машину, – и мне тоже. И я изменила родине – всю ночь пробыла с тобой, вместо того, чтобы выведывать у генерала его тайны. – Она взяла его за руку и улыбнулась ему. – Но не забывай, что я тебе сказала: куда бы я ни повела тебя, там и будет жизнь. Не забудешь?
– Да, – ответил Андреас.
Вся эта ночь проносилась у него в памяти будто нить, сбегавшая со шпульки; нить бежала ровно, только в одном месте мешал узелок, и этот узелок не давал Андреасу покоя…
…Старуха сказала: «Стрый». Откуда она знает про Стрый?… Не мог же он ей проговориться, а уж Олина тем более не стала бы произносить вслух это слово…
Вот, стало быть, как выглядит его последний час – ровно шумит машина, благородный «майбах», неяркий свет фар освещает безыменное шоссе. Мелькают деревья, порою дома, весь мир тонет в серых сумерках. А впереди маячат два затылка и плечи с унтер-офицерскими погонами, два почти одинаковых затылка, крепкие немецкие затылки, и с шоферского сиденья медленно ползет назад струйка табачного дыма… Слева от него белобрысый – он клюет носом, как мальчишка, набегавшийся за день, справа сидит Олина, и Андреас все время чувствует мягкое прикосновение ее шубки… Нить воспоминаний об этой счастливой ночи бежит ровно. Бег ее все убыстряется и убыстряется, и вдруг остановка, опять этот диковинный узелок… Почему старуха сказала: «Стрый»?
Андреас наклонился вперед: хочет взглянуть на слабо освещенный циферблат часов на приборной доске. Часы показывают шесть, ровно шесть. И сердце у него падает в ледяную пустоту. Боже мой, боже мой, на что я убил свое время: ничего я ке успел, ничего не успел за целую жизнь; я должен был молиться, молиться за всех; Пауль у себя в церкви всходит сейчас по ступенькам к алтарю и начинает читать молитву: «Introibo»…,
И Андреас тоже приоткрыл рот и уже приготовился произнести: «Introibo», но в это мгновение огромная невидимая рука накрыла медленно вползавшую на гору машину, раздался ужасающе тихий стон, и в наступившей тишине прозвучал суховатый голос Вилли, который спрашивал шофера:
– Куда тебя несет, приятель?
– В Стрый, – произнес кто-то неживой.
И тут наконец два яростных ножа с неистовым скрежетом вспороли автомобиль: один нож вонзился в металлическую плоть машины спереди, другой – сзади, машина встала на дыбы, закружилась, люди в ней завопили…
Потом опять наступила тишина, прерываемая лишь деловитым потрескиванием огня.
Боже мой, думал Андреас, неужели все погибли?… Где мои ноги, руки?… Неужели от меня остался только мозг?… Где они все?… Я лежу на пустынном шоссе, и на грудь мне давит неимоверная тяжесть, весь мир обрушился на меня, а слове молитв я все позабыл…
Неужели я плачу? – подумал он потом, чувствуя на своих щеках что-то влажное. Нет, то были не слезы… В тусклых сумерках, которые еще не золотил ни один солнечный луч, он вдруг различил у себя над головой свисающую с искромсанного железа руку Олины и понял, что на лицо ему каплет ее кровь, И тогда он и вправду заплакал, но уже не узнал этого…







