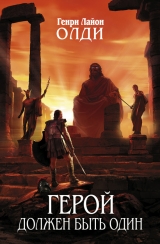
Текст книги "Герой должен быть один"
Автор книги: Генри Лайон Олди
Жанр:
Классическое фэнтези
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 39 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
Уже почти дойдя до самой пещеры – Гермий прекрасно помнил, где она, потому что именно у Хироновой пещеры Семья клялась Стиксом не нарушать границу Пелиона без дозволения кентавра, – Лукавый вдруг резко свернул в сторону и устремился между соснами туда, где еле слышно смеялся бегущий по дну оврага ручей.
Позже.
К пещере он подойдет позже, когда вернет себе прежний облик, а таким, растерянным и смятенным, он не хочет предстать перед Хироном. Негоже богу пребывать в растрепанных чувствах, да и вообще… стыдно. Стыдно, и все тут! Сколько душ в Аид отвел, и ничего, а сейчас своя душа не на месте…
Вот ведь что странно – едва Гермий признался сам себе, что ему стыдно, и не столько перед Хироном стыдно, сколько перед мальчишками, перед восьмилетними смертными шалопаями, как ему сразу стало легче. И сосны перестали укоризненно качать ветками, и кусты перестали тыкать в него сучками, и сухая хвоя под ногами зашуршала гораздо благожелательнее, и мордочка симпатичной дриады высунулась из дупла, подмигнула Гермию и, застеснявшись, исчезла с легким смехом.
«Правильно, – подлил масла в огонь Лукавый, – посмешище я и есть! Вон Аполлон с Артемидой у болтливой Ниобы не то дюжину детей перестреляли, не то вообще два десятка (кто их считал, покойников-то?!), а потом сияли, как солнце в зените, и все хвастались, что ни одной стрелы зря не потратили! Тантал или там Прокна, жена Терея, – эти не то что чужих – своих детей не пожалели, зарезали, как скотину, а после еще и еду из них сготовили… Ну нет же, нет такой богини – Совесть! Ата-Обман есть, Лисса-Безумие, Дика-Правда, наконец, – а Совести нету! Ну почему у всех ее нет, а у меня есть?! Что ж я за бог такой невезучий?! Ведь сказать кому: Лукавого совесть замучила – засмеют! Воровал – не мучила, врал – как с гуся вода, друг на дружку натравливал – и глазом не моргал… пойду к Арею, в ножки поклонюсь: научи, братец, убивать!.. Этот научит… вояка! Все хвастается, что Гера его прямо в шлеме родила! Видать, головку-то шлемом и прищемило…»
Спустившись к ручью, Гермий не сразу заметил, что от приступов самобичевания он как-то машинально перешел к мысленному бичеванию своего вечного недруга Арея; не сразу заметил он и то, что у ручья уже кто-то сидит, свесив в воду раздвоенные копыта и задумчиво почесывая кончик острого и волосатого уха.
– Привет, Лукавый! – правое копыто взбаламутило тихую до того воду. – Какими судьбами?
– Привет, – отозвался Гермий, садясь рядом.
Старый сатир Силен, наставник и вечный спутник кудрявого Диониса, покосился на расстроенного бога и неопределенно хмыкнул.
Лукавый поморщился – от Силена явственно несло перегаром.
– Вот когда я учил юного Диониса нелегкому искусству винопийства… – Не договорив, Силен замолчал; потом, не глядя, протянул руку и выволок из груды сушняка объемистый бурдюк.
Бурдюк зловеще булькнул.
– Дай сюда, – неожиданно для самого себя приказал Гермий. – Давай, давай, не жмись…
– Не жмись, козлоногий, – наставительно поправил его Силен, смешно шевеля ушами. – Когда у вас, богов, неприятности, вы должны быть грубы и неприветливы.
Бурдюка, однако, не дал – потряхивал им, вслушивался в бульканье, скалился щербатой пастью.
– Какие у богов неприятности? – пожал плечами Гермий. – А вот у тебя, козлоногий, они сейчас начнутся. Из-за жадности. И никакой Дионис тебе не поможет. Понял?
– Понял, – равнодушно кивнул сатир. – Как не понять… Пей, вымогатель! Авось, повеселеешь – на тебя такого смотреть и то противно! Подняли шум на весь Пелион – Хирон копытами топочет, этот летун кадуцеем машет, орешник трещит, камни чуть не сами собой из земли выворачиваются… Как не выпить после трудов праведных?
Гермий, успевший к тому времени отобрать у Силена бурдюк и жадно припасть к нему, подавился и закашлялся, багровея лицом.
– Водички на запивку дать? – с участием поинтересовался сатир. – А то как бы не стошнило…
– Подсматривал, да? – вырвалось у Гермия, которому только свидетелей не хватало для полного счастья.
– Нет, в горячке примерещилось! Пелион испокон веку место тихое, я сюда душой отдыхать прихожу («С похмелья!» – ядовито ввернул Гермий, но сатир пропустил это мимо мохнатых ушей), а тут чуть гору с корнем не вывернули! Глухой не услышит, слепой не увидит… а дурак не поймет – раз Хирон к Тартару взывает, значит, кому-то хвост подпалили! И уж наверное не Хирону. Дай-ка сюда бурдючок, что-то у меня в горле пересохло…
Пересохшее горло Силен смачивал долго и усердно, причмокивая и удовлетворенно сопя, а Гермий смотрел на старого сатира и ощущал, как затухает внутри головня раздражения, подергиваясь серым пеплом, как вино из Силенова бурдюка туманит голову, но это хорошо, потому что такая голова соображает гораздо лучше, а даже если это Гермию только кажется, то не важно и вообще – наплевать… и еще очень своевременно будет разуться и опустить босые ноги в холодный ручей.
– Хорошо сидим, – Силен с сожалением встряхнул заметно полегчавший бурдюк и великодушно протянул его Лукавому.
– Хорошо…
Сочетание воды, остужающей ноги, и вина, согревающего сердца, наполняло Гермия терпимостью; и даже морщинистая физиономия Силена с вывороченными губами и хитрыми, близко посаженными глазками выглядела в этот миг вполне… вполне.
Разве что напоминала о прошлом, которое Гермий не любил тревожить.
– Ты мимо Дриопы не проходил? – как бы невзначай спросил Гермий у Силена. – Как там она, все цветет?
Сатир отрицательно помотал кудлатой головой. То ли не проходил, то ли не цветет… весна прошла, с чего тут зацветешь?
…Ах, как божественно, как безбожно хороша была черноглазая Дриопа, дочь племени дриопов, лесная нимфа по матери! Как глуп был смертный муж ее Андремон, не оценивший врученного ему сокровища! Глуп и жесток был Андремон, злобно бил он несчастную Дриопу, портя синяками прекрасное лицо нимфы! Не стерпел Гермий, плененный хрупкой прелестью несчастной, – плохо кончил зверь Андремон, подвернувшись под удар невидимого жезла-кадуцея, и смеялась на похоронах мужа невинная нимфа, уже беременная от Гермия.
От него, неутомимого любовника, великого бога, лучшего в мире, единственного и неповторимого… неистощима была Дриопа как в любви, так и в славословиях!
Только увидев новорожденного сына своего, которого черноглазая Дриопа равнодушно бросила в лесу, даже не удосужившись обмыть младенца и завернуть его в покрывало, – только тогда понял Лукавый, за что покойный Андремон бил жену, как Зевс восставших титанов. Понял и спустился в Аид, нашел там тень Андремонову и щедро поил ее кровью жертвенной коровы, возвращая мертвому память, а потом долго беседовали убитый и убийца, Андремон и Гермий-Лукавый, Гермий-Простак, Гермий-Рогач…
Сын любвеобильной Дриопы от мужа Андремона, юный Амфис, удался не в мать и не в отца (странно, что это не заинтересовало Лукавого раньше!), но сын белогрудой нимфы от него, Гермия… Это уже ни в какой кувшин не лезло!
Младенец возился и хныкал, а Лукавый тупо смотрел на сына – рогатого, козлоногого, покрытого темной и густой шерстью, остроухого, смуглого…
Не год, не два прятались потом от Лукавого дикие сатиры, пока остыл да успокоился Гермий, а вместо нимфы Дриопы встало в лесу дерево, раз в год цветущее белоснежным цветом, но плодов не приносящее, – говорят, покарали дерзкую Дриопу боги за то, что обрывала она лепестки священного лотоса… вот только неизвестно, кто именно карал и вообще – при чем тут лотос?!
Ни при чем.
А младенца Гермий отнес Семье показать. И стоял как оплеванный, смех слушал, шуточки терпел, зубы сцепил, на Арея не бросился, когда тот предложил назвать новорожденного Паном, то есть (как подчеркнул сам Арей) «всехним».
– Всеобщим, – с ухмылкой поправил Аполлон, не любивший солдатских замашек Арея. – Тем, кто всем нравится… как мамочка его.
И это снес Гермий (правда, у Арея потом любимый шлем пропал, искали – не нашли, а когда нашли, то полон был шлем до краев… «шлем изобилия», как бросил Мом[29]29
Мом – бог насмешки и злословия, чьи мудрые советы были пагубны для того, кто им следовал; прозвище Мома – «правдивый ложью».
[Закрыть] -насмешник); промолчал Лукавый, дождался, пока Зевс-отец кивнет благосклонно – дескать, пускай живет себе внучок, Семья не возражает, – дождался и отнес Пана к Дионису на воспитание.
Так и прижился маленький Пан в свите Диониса. Освоился, вырос, бегал среди сатиров и буйно-пьяных менад; пастухам да охотникам покровительствовал, как и сам Гермий, каждый лес своим считал… козлоногий, козлорогий, лохматый весельчак и лентяй, зовущий Гермия «папой», а Вакха-Диониса – «дядей».
Одно странно: нахмурится невзначай Пан, глянет исподлобья, а то и засвистит-заулюлюкает… будь ты человек, будь ты бог или чудовище, бежать тебе прочь, слепо нестись, не разбирая дороги, не понимая, что погнало тебя, как слепни лошадь…
Паника, одним словом.
А так ничего – хороший бог вырос, правильный, разве что лицом не вышел, так с лица воды не пить; и не все нимфы переборчивы.
Некоторым что чудо, что чудовище – все едино.
…Отбросив бурдюк, к этому времени давно опустевший, Гермий резко встал и, шатаясь, побрел по дну оврага. Он помнил, что должен что-то сказать Хирону, только не помнил, что именно, и надеялся выяснить это прямо на месте.
Про Силена он уже забыл.
Старый сатир, болтая в воде копытами, долго глядел ему вслед.
– С огнем играешь, Лукавый! – еле слышно пробормотал Силен. – С тем огнем, что в тебе горит… а он пострашней Диевых молний жжет. Понамешалось в тебе земного, божественного, преисподнего; на Олимпе чужой, в Аиде не свой, на Пелионе – гость, в Фивах – соглядатай! Вот и вспыхивает внутри то одно, то другое!.. А вот детей убивать ты никогда не мог. Зевс мог, Аполлон, Афина, даже кроткая Афродита могла, один ты не научился. Значит, и не научишься никогда. Ну что ж, так Пану и передам – не зря Пан тебя отцом зовет, не зря чуть Дионису глотку не перервал, когда тот про Гермия дурное слово бросил! Правильно, Пан, таких отцов поискать…
Сатир откинулся на спину и закрыл глаза.
12– Д-да, бог! Ну и что?! Эх, жизнь наша – полная чаша… полная чаша – налетай, папаша!..
Хирон, до того спокойно лежавший в своей пещере, приподнялся и с интересом глянул в сторону входа.
Раздался треск кустов, нечленораздельное бормотание, какие-то странные звуки, похожие на шлепки, – и в пещеру ввалился Гермий. Он передвигался на четвереньках, мотая головой, из всклокоченной шевелюры Лукавого сыпались травинки и прелая хвоя, осоловевшие глаза съехались к переносице; драная хламида с капюшоном куда-то пропала, но ее с успехом мог заменить оставшийся на Гермии хитон – некогда щегольской, а теперь такой же драный и грязный, как и утерянная хламида.
Знаменитые сандалии Лукавого летели следом за босым хозяином, возмущенно трепеща крылышками.
Пещера мгновенно наполнилась ароматом винного погреба.
– Д-да, бог! Вот т-такой! Прошу любить и ж-жаловать! Или не любить и не ж-ж-ж… и не ж-ж-ж…
Гермий неожиданно перестал жужжать и икнул.
– Тихо ты! Не видишь – дети спят! Разбудишь, – Хирон попытался было утихомирить Лукавого, но тот пропустил слова кентавра мимо ушей. К счастью, близнецы, свернувшиеся калачиками на травяном ложе в дальнем углу пещеры, и не думали просыпаться от пьяных воплей Гермия.
– Детки! – запричитал Лукавый, целеустремленно переставляя руки и ноги в направлении братьев. – Родные мои! Простите меня, подлеца! Детство у меня… беспризорным рос, в пещере!.. Папа на Олимпе, мама на небе, дедушки – один в Тартаре, второй небо держит!.. Ни ласки, ни подарков в день рожденья! Воровал я, обманывал… вот и вырос такой б… ик!.. Такой б… ик! Такой б-богом! Простите меня, мальчики! Не хотел, правда, не хотел! И сейчас не хочу-у-у!..
В этот момент целый водопад ледяной родниковой воды обрушился на покаянную голову Лукавого. Это мудрый кентавр, видя, что словами тут не поможешь, опрокинул на Гермия огромную деревянную чашу с водой, до того мирно стоявшую у входа.
Гермий взвыл раненой Химерой, с фырканьем встряхнулся, отчего во все стороны полетели брызги; затем некоторое время постоял на четвереньках – и вдруг потребовал неожиданно бодрым голосом:
– Еще!
Второй чаши у Хирона под рукой не оказалось, зато нашлась здоровенная бадья (вполне достаточная, чтобы кентавр мог в ней искупаться), которую Хирон с некоторым усилием накренил и вылил часть ее содержимого на многострадального Гермия.
Лукавый еще раз встряхнулся, одобрительно хрюкнул и довольно-таки резво подполз к стене, где и принял более подобающее богу положение, усевшись на земляной пол и привалясь спиной к прохладным замшелым камням.
Почти сразу перед его глазами возникла мощная рука Хирона с долбленой миской, до краев наполненной какой-то зеленоватой жижей.
Миска двоилась и оттого казалась вдвойне непривлекательной.
– Опять вино?! – ужаснулся Гермий, с трудом подавляя тошноту. – Вы что тут все, сговорились?!
– Не вино, не бойся! Выпей, легче станет. По себе знаю – Силен у меня частый гость…
Последние слова явно убедили Лукавого. Непослушными пальцами вцепился он в миску, едва не расплескав, поднес к губам и стал торопливо глотать терпкий травяной настой, роняя капли на свой и без того уже безнадежно испорченный хитон. Горечь заполняла рот, в голове по-прежнему шумело, но окружающие предметы приобрели резкость, и даже удалось слегка изменить позу, не треснувшись при этом о стенку затылком.
– Хороший ты лекарь, Хирон, – криво улыбнулся Гермий. – Еще немного – и я буду совсем трезв. А зря… зря. Так хорошо быть пьяным, ничего не помнить, ни о чем не знать, ничем не мучиться… Забыться. И забыть… Наверное, я плохой бог, – добавил он непонятно к чему, но кентавр лишь согласно кивнул, ложась напротив и разглядывая Лукавого – такого несчастного, в насквозь промокшем хитоне, плотно облепившем тело.
– Да, ты плохой бог. И я плохой бог. Потому что когда в Семье начали всерьез выяснять отношения, я ушел в сторону. Наверное, это был не лучший выход, но для меня он был единственным.
Хирон некоторое время молчал, слегка подергивая хвостом.
– Ты сейчас тоже на распутье, Гермий. Хотя бы потому, что понял, какую опасность представляют эти дети. Для Семьи. Для нас. Для всех. Надежда для тех и для других – это очень, очень опасно.
– Понял, – хрипло выговорил Гермий, не то спрашивая, не то утверждая.
– И ты хотел убить их. Не сейчас – раньше. Я помню, ты уже говорил мне об этом почти три года назад.
– Хотел. Но не их – его. Алкида. А Ификл… мог бы заменить брата. Герой должен быть один. Так лучше и для Семьи, и для людей, и для него самого.
Голос Гермия дрогнул, и сказанное прозвучало неубедительно.
Хирон задумчиво наматывал на палец прядь волос из своей бороды.
– Ты говоришь и не веришь, Гермий. Они действительно опасны. Особенно – Алкид. Тут я с тобой согласен. Убей его, Гермий. Убей мальчика.
– И это говоришь мне ты? – опешил Лукавый.
– Это говорю тебе я. Да, с первого раза у тебя не получилось. И я не дам совершиться этому у себя на Пелионе. Но кто мешает тебе повторить попытку? Ты же бог! Почему бы, к примеру, метательному диску СЛУЧАЙНО не угодить Алкиду в голову? Или почему бы не произойти несчастному случаю, когда братья будут упражняться с оружием? Или кони понесут. Не мне тебя учить, Лукавый. Если хочешь – посоветуйся с Герой.
– А Олимп?! – совсем растерялся Гермий. – А гиганты?! Папа, наконец… он так надеется на Мусорщика-Одиночку!
– Ну и что? – Хирон жестко глянул в глаза Лукавому, и Гермий отвел взгляд. – Ты знал об этом и сегодня. Это остановило тебя? Отвечай!
– Нет. Но… если я убью Алкида, а Ификл все-таки заменит его, став Истребителем Чудовищ, – то первым чудовищем, которое он постарается убить, стану я. А это значит, что потом придет черед других членов Семьи… и Тартар в результате получит долгожданного союзника. Это не выход, Хирон!
Хирон, как-то странно прищурившись, слушал Лукавого, время от времени косясь на спящих детей.
– Это мудро, Гермий. Ты взрослеешь – не ухмыляйся, я имею в виду не число прожитых лет. Но только ли поэтому ты не хочешь убивать Алкида… или обоих? Попробуй снова опьянеть и, трезвый, понять себя пьяного. Попробуй, Гермий! Почему ты хочешь, чтобы они жили?!
Гермий долго не отвечал, и взгляд Лукавого в эти минуты был расплывчатым и сосредоточенным одновременно, словно он и впрямь пытался всмотреться в глубины своего существа, в личный внутренний Тартар, в чьи медные стены сейчас, словно руки гекатонхейров, били слова Хирона.
– Я действительно плохой бог, – медленно проговорил наконец Гермий, глядя в лицо Хирону и на сей раз не отводя глаз. – Просто… просто я слишком привязался к этим мальчишкам! Частица меня уже вложена в них – и мне жалко эту частицу, Хирон, потому что это тоже «я». Да, я понимаю, что они все равно умрут – не сейчас, так через сорок, пятьдесят, семьдесят лет! Для них это – жизнь. Для нас – мгновение. И все равно я не могу их убить просто потому, что не могу! Семья Семьей, но (хотя по мне лучше Семья, чем Павшие!) я не стану убивать этих двоих даже ради Семьи! И пусть я плохой бог… я такой, какой я есть, и другим уже не буду.
– Вот теперь ты сказал, а я услышал правду, – удовлетворенно кивнул кентавр. – Ты и вправду стоял на распутье, Гермий: сверкающий Олимп, темные глубины Аида – и серединный мир, не знающий небесного всемогущества и подземного спокойствия, мир ежедневного, ежеминутного выбора; мир живущих в нем, таких, как я, Дионис, Пан, Амфитрион, Кастор, Алкмена, вот эти дети, старый Силен… все мы, сделавшие свой выбор, равны – как бы мы ни назывались и на скольких ногах бы мы ни ходили, на двух или четырех! Сказав: «Я привязался к ним!» – ты выбрал, Гермий, и я очень надеюсь, что ты не ошибся. Теперь ты вправе приходить ко мне на Пелион, не дожидаясь приглашения или разрешения, хоть с детьми, хоть без, просто так, как приходят в дом друга. Пелион – не место для Семейных игр, но для друзей он всегда открыт.
Гермий слушал кентавра, улыбаясь растерянно и чуть-чуть смущенно.
– И еще, – после паузы добавил Хирон. – Дети детьми, но… хорошо было бы, если бы ты поближе познакомился с их отцом.
– С которым? – Гермий кивнул на близнецов, заворочавшихся во сне. – С которым отцом-то?
Хирон не принял шутки – если, конечно, Лукавый шутил.
– С ИХ отцом, – подчеркнуто повторил он. – Я полагаю, что так ты сможешь лучше понять детей; и не только детей. Потому что прадед этих близняшек Персей стал героем не тогда, когда ты по приказу Зевса подарил ему меч и повел к Грайям-Старухам. Просто он увидел вот таких каменных мальчишек на улицах Серифа и Аргоса – и понял, что Медуза больше не должна жить.
Гермий неожиданно протянул руку и легко коснулся конского крупа Хирона.
– Скажи, Кронид, – спросил Лукавый, – ты действительно считаешь, что сегодня я что-то выбрал? Хорошо бы, если так…
Он встал, подошел к наполовину опустевшей бадье и принялся брызгать водой себе в лицо.
Сандалии Гермия, до того прятавшиеся за бадьей, выпорхнули из укрытия и опустились у ног хозяина.
13– Брата хочу! – повизгивал Гермий, явно становясь прежним – легкомысленным обманщиком, обманчиво-легкомысленным богом, непредсказуемым, шумным выдумщиком. – Брата-близнеца! Чтоб удерживал меня от неразумных поступков! Как Ификл Алкида во время приступов!
– Почему же он сегодня не удержал брата? – спросил Хирон, явно не рассчитывая на ответ.
Но ответ прозвучал.
– Потому что гад Пустышка убить нас хотел! – раздался из дальнего угла пещеры заспанный детский голос. – Вот почему! Вот! Уходи отсюда, Пустышка! Мало тебе тогда камнем досталось?! Еще хочешь? Получай!..
И раскрасневшийся Ификл запустил в своего врага подвернувшимся под руку яблоком.
Яблоко мальчишка швырнул довольно метко, однако сочный золотистый плод по непонятной причине завис в воздухе, на локоть не долетев до головы склонившегося над бадьей Пустышки.
Гермий лениво обернулся, протянул руку, взял яблоко прямо из воздуха и с хрустом откусил чуть ли не половину.
– Как это? – озадаченно спросил Ификл, на миг позабыв про свою обиду.
– А вот так! – ухмыльнулся Лукавый и схрумал остаток яблока.
– Ну вот… сидит тут и яблоки жрет, – толкнул брата в бок тоже проснувшийся Алкид. – Вроде так и надо. Ты зачем нас убить хотел, обжора?!
– Да, зачем? – присоединился Ификл, протирая глаза.
– А зачем ты первый на меня напал? – в тон близнецам ответил Гермий, для ясности ткнув пальцем в Алкида.
– Я?! – искренне изумился Алкид. – Чего ты врешь? Ты сам – первый…
– Нет, ты вправду на него напал, – не поддержал брата честный Ификл. – Приступ у тебя был. Ты ему головой в живот как дал! Пустышку аж скрутило…
– Не помню, – угрюмо буркнул Алкид. – А жаль!
– Ну ладно, Алкид первый, – Ификл нетерпеливо махнул рукой. – Так ведь и ты его тоже здорово кинул! А убивать-то за что?! Вот меня – меня ты за что убить хотел?
– Тебя? – в свою очередь удивился Гермий, садясь на край бадьи. – Тебя я и пальцем бы не тронул! Алкида – да… ну, погорячился – уж очень больно было! Разозлился я…
– Да, ты хотел убить Алкида, – Ификл, смешной и взъерошенный, о чем-то напряженно думал, но мысль ускользала, и слова давались мальчику с трудом. – Конечно, Алкид… а потом ты начал убивать Алкида – и меня! То есть…
Он совсем запутался, замолчал – и вдруг лицо его просветлело. Видимо, Ификлу наконец удалось поймать нужную мысль и облечь ее в более или менее связные слова.
– То есть мне было все равно, кого из нас ты будешь убивать! – выпалил он. – Хоть Алкида, хоть меня – все равно МЕНЯ! И я очень захотел убить тебя первым… Ну, за двоих захотел – за себя и за Алкида!
Ификл просиял, вспомнив, как он один захотел за двоих убить негодяя Пустышку.
– А здорово я тебя тогда камнем треснул! – уже более миролюбиво закончил он.
Хирон незаметно для Гермия показал Ификлу оттопыренный большой палец – дескать, еще как здорово!
– Жалко, я не видел, – хлюпнул носом Алкид, тоже постепенно успокаиваясь.
– Зато ты такую дубину выломал! – поспешил утешить его Гермий. – Если б ты меня ею огрел, я б сразу в Аид провалился!
– Какую дубину? – живо заинтересовался Алкид.
– А вон такую примерно, – Гермий высунулся из пещеры, огляделся и, подозвав Алкида, указал ему на росший неподалеку орешник. – Видишь крайний ствол?
Алкид с сомнением посмотрел на орешник, потом на Пустышку – явно подозревая, что тот попросту врет – и снова перевел взгляд на указанный ствол.
– Сломал, – подтвердил Ификл. – Я сам видел.
– Не помню, – в очередной раз пробормотал Алкид, выбрался из пещеры и попытался сломать орех, упершись в него коленом и изо всех сил дергая ствол обеими руками.
Разумеется, дерево и не думало ломаться.
– Врете, – уверенно заявил Алкид. – Все врете: и Пустышка, и ты, Ификл, и этот… лошадядя.
Тут он с удивлением огляделся по сторонам и без всякого перехода добавил:
– Где это мы? Ой, я раньше спросить хотел… и заснул.
– У меня. На Пелионе, – подал голос молчавший до того Хирон.
– На Пелионе? – глаза мальчишки округлились. – А ты чего тогда – мудрый кентавр Хирон?! Мы ж у тебя на спине катались…
– Насчет «мудрого» не знаю, – улыбнулся кентавр, – но зовут меня Хироном.
– А… как мы сюда попали? Это же от Фив…
– Пустышка притащил, – проворчал Ификл.
– Ничего не помню! – искренне огорчился Алкид. – А как он нас сюда тащил? За шиворот, что ли? Мы что, месяц шли?!
– Какой там месяц, – вздохнул Ификл. – За пояс, говорит, держись… три шага сделали – и тут.
– Ну да! Пустышка, как это у тебя получилось? И с яблоком…
– Да вы хоть знаете, кто он такой, ваш приятель? – вмешался Хирон, напуская на себя притворную строгость.
– Знаем! – хором ответили близнецы. – Пустышка! Врун и…
– И предатель, – не удержался Ификл, но в голосе его уже не было прежней злости.
– Правильно. А еще он бог, – негромко, но так, что все разом присмирели и замолчали, бросил кентавр. – Бог Гермес, один из Семьи… э-э… из Олимпийцев. Между прочим, парни, ваш родственник. Как и я. Дальний, правда.
– У нас в роду Пустышек не было! – запальчиво выкрикнул Алкид, еще не успевший до конца осмыслить то, что сообщил Хирон.
– И лошадей тоже, – тихо добавил Ификл.
– А прадед ваш, герои, кто был?
– Персей! – гордо ответили братья в один голос.
– А отцом Персея кто был?
– Зевс-Громовержец, – тоном тише произнесли близнецы. – Кронид.
– Так ведь и я Кронид! И Зевс – мой сводный брат, а заодно отец вот этого… – Хирон указал на приосанившегося Гермия («Вот этого?!» – недоверчиво ахнул Ификл, Алкид же просто показал Пустышке язык). – Так что независимо от того, герои, кого вы считаете своим отцом…
– Наш папа – Амфитрион!
– Хорошо, Амфитрион, я же не спорю, – еле заметно усмехнулся кентавр. – Но в любом случае мы родственники. Хотите вы этого или нет.
Близнецы переглянулись.
– Ну ты – еще ладно, – милостиво разрешил Алкид Хирону считаться их родственником. – А вот этот…
– Нет у нас таких родственников, чтобы маленьких обижали! – базапелляционно закончил за брата Ификл. – Да и вообще – какой из него Гермес?! Грязнуля и прохиндей! И этот… как его? Ну, этот…
Гермий чуть не подпрыгнул, когда Ификл вспомнил наконец нужное слово – которое однажды подслушал у выпившего Автолика и потом повторил при маме, за что был нещадно порот Амфитрионом.
– Лукавый, покажи им, – еле сдержавшись, чтоб не рассмеяться, Хирон впервые назвал Гермия Лукавым.
И уставившиеся во все глаза на Пустышку близнецы увидели.
Они увидели, как сами собой исчезают грязные пятна с некогда нарядного хитона Гермия-Пустышки, как измятая ткань высыхает и разглаживается, быстро приобретая первозданный вид; а дырок теперь не нашел бы в ней и самый дотошный свидетель.
Они увидели, как неизменные, не знающие сносу Таларии[30]30
Таларии – собственное имя крылатых сандалий Гермеса.
[Закрыть] сами обуваются на Пустышкины ноги, трепеща призрачными крылышками, сливающимися в туманные полукружья; увидели, как их приятель-неприятель, смеясь, взлетает на локоть над полом и, вольно взмахнув руками, покидает пещеру. Снаружи Гермий проделал в воздухе несколько замысловатых фигур, и, когда он опустился, в руке Лукавого шипели две змеи, обвивающие невесть откуда взявшийся жезл-кадуцей – всем известный атрибут бога Гермеса, покровителя атлетов, путников, торговцев и воров.
Гермий рассеянно щелкнул змей по носу – и те исчезли вместе с жезлом.
– Достаточно? – осведомился Лукавый, подмигивая кентавру. – Или еще полетать?
– Ну вот, а мы еще жертвы тебе приносили, – непонятно почему обиделся Ификл.
– А он маленьких обижает! – добавил Алкид.
Тут ему в голову пришла какая-то мысль, и глаза мальчишки подозрительно заблестели.
– Вот вернемся домой – я твой жертвенник поломаю! – пообещал он опешившему Гермию. – Или лучше…
– Лучше навоза на него насыплем! – подхватил Ификл. – И подожжем… Пусть ест!
Много чего было бы обещано Гермию сейчас – но близнецов прервал неудержимый, наконец прорвавшийся наружу смех Хирона, чем-то похожий на лошадиное ржание. Кентавр хохотал от души, сотрясаясь всем своим могучим телом и схватившись руками за живот (человеческий, потому что до лошадиного руки не доставали).
Близнецы умолкли на полуслове, с недоумением глядя на хохочущего Хирона, Гермий не выдержал и тоже прыснул; не прошло и минуты, как к нему присоединились братья – и вскоре изумленные нимфы и сатиры Пелиона могли наблюдать всю четверку, буквально корчившуюся от смеха у входа в пещеру Хирона: мудрый кентавр, юноша-бог и двое смертных мальчишек – будущих героев Эллады.








