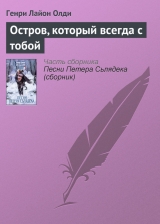
Текст книги "Остров, который всегда с тобой"
Автор книги: Генри Лайон Олди
Жанр:
Классическое фэнтези
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 3 страниц) [доступный отрывок для чтения: 1 страниц]
Генри Лайон Олди
Остров, который всегда с тобой
«Мост между духом и миром, ключ к замку всех знаний, телесное отражение души в мельчайших, багряно-соленых корпускулах, эманация сознания, – вот что, о наивные, течет в ваших жилах! Попробуйте на вкус: мудрец и безумец истекают разным соком. И чем больше крови потеряно зря, тем дальше отдаляется рассудок…»
Антонио далла Скала из Тосканы, «Грааль Обретенный»
Отвори
Створы жил!
Скрип двери.
Мы внутри.
Кто здесь жил?
Говори!
Ниру Бобовай
«Неаполь – рай на пороховой бочке,» – думал Петер, вздыхая.
Для таких выводов были веские причины. В окрестностях города обреталась армия вулканов во главе с генералом Везувием, что делало каждый прожитый день особенно солнечным, а каждую ночь – исключительно страстной. Сьлядек вначале никак не мог привыкнуть к бесшабашности неаполитанцев, хохочущих над мелкими землетрясениями, словно над шалостями любимого ребенка. А потом взял да и привык. Чего тут привыкать? – смейся, паяц! Только чашку придерживай, не то ускачет лягушкой по столу. Далее, здесь все, от герцогини Элеоноры, дочери вице-короля Педро Метастазио, и до мелкого контрабандиста Джузеппе по прозвищу Сизый Нос, пели «Санта-Лючию». Хором, соло, под струнные и духовые, «а капелла»; днем и ночью. Одноименный рыбацкий квартал, давший жизнь знаменитой баркароле, заманивал дурачков-лютнистов ароматом жареной рыбы – и не отпускал живыми, требуя раз за разом: «Venite all'agile barchetta mia… Santa Lucia! Sa-а-аnta Luci-i-i-ia-a!» Ох, трудно петь ртом, набитым сардинками в масле!
Добрые рыбачки, щедрые рыбаки, чумазые рыбачата…
Сейчас Петер Сьлядек гвоздем торчал на набережной, любуясь мрачной громадой Кастель-дель-Ово. Историю «Замка Яйца» он успел вызубрить наизусть. Во время недавних боев, когда Фердинанд Католик и Максимилиан Вояка, поддержав крылатого льва Венеции и миланского змея-людоеда, пинками вышибали из Неаполя французишку Карла Мародера, «Замок Яйца» сильно пострадал, но был отстроен заново. Впрочем, местное население плевать хотело на текущую политику, предпочитая дела давно минувших дней. Своим прошлым неаполитанцы гордились еще больше, чем вулканами, «Санта-Лючией» и презрением к слову «завтра». Всякий лодочник считал себя наследником славы Римской империи; всякая торговка тыкала жирным пальцем в «Замок Яйца» и тараторила без умолку. В седой древности на месте Кастель-дель-Ово стояла вилла патриция-полководца Лукулла, более славного обжорством, нежели военными подвигами. Там, на берегу, под рокот волн, поэт-чародей Вергилий сочинял «Энеиду», готовясь сойти в ад и ждать в гости флорентийца Алигъери. В свободное от подвигов Энея время Вергилий рассуждал о связи судьбы Неаполя с волшебным яйцом. Здешняя легенда гласила: яйцо спрятано в амфору, амфора – в сундук из холодного железа, сундук замурован в фундаменте, а поверх клада, верным стражем, воздвигнут Замок Яйца. Пока, значит, какой-нибудь безмозглый герой замка не снес и яйца не разбил – стоять Неаполю в веках.
Петеру все время казалось, что эту историю он уже где-то слышал. Только там, вроде бы, речь шла про иглу в яйце. Или в зайце. А рядом рос дуб зеленый со златой цепью.
Еще мышка бежала, что ли…
– Con questo ziffiro
Увы, иглу с цепным дубом неаполитанцы гневно отвергали. Зато охотно соглашались на звон цепей и стенания погибших в замке узников. Любимцем местной детворы, особенно мальчиков, был Сарацин-без-Головы: бедняге отрубили голову, швырнув ее в море, и теперь сарацин шлялся по коридорам, разыскивая пропажу. Девочки предпочитали госпожу Тофану, которая в Кастель-дель-Ово продала душу Вельзевулу в обмен на тайну ядов. Ах, сколько пылких красоток ухитрилось благополучно овдоветь при помощи отзывчивой госпожи! Девочки млели и мечтали поскорее выйти замуж. А старики поминали Ромула Августула, последнего римского юношу-императора, убитого все там же, на вилле приснопамятного Лукулла. По их шамканью и ухмылкам выходило, что каждый был очевидцем, если не участником убиения. Лично размахивал кинжалом, вонзал в сердце и так далее.
А еще здесь пили очень много кьянти.
– Здравствуйте, госпожа Франческа!
Дама кивнула, не останавливаясь. Сьлядек долго смотрел ей вслед. Робевший женщин, он был готов тряпкой стелиться под ноги Франческе Каччини, которую поклонники ласково звали: Ла Чеккина. Редкость много большая, нежели чудесное яйцо и безголовый сарацин: женщина-композитор! Сочинительница «Балета цыганок», «Mascherata della Bufola» и оперы «Небеса ликуют». Разумеется, бродяга не имел счастливой возможности числиться в списке гостей герцога Тосканского, дабы любоваться премьерой «Балета цыганок» в Палаццо Питти, танцевать павану и есть сладости из посеребренных ивовых корзинок. Но мелодии Ла Чеккины (в паузах между вечной «Санта-Лючией») ему посчастливилось услышать от здешних музыкантов, помнивших еще Джузеппе Великолепного, отца Франчески и мастера жанра «dramma per musica».
Короче, если есть в мире любовь с первого слуха, то это была она!
– Вы сегодня… чудесно…
Нет, прошла мимо. Ясное дело, ослепительную Франческу не для того Господь наградил красотой и талантом, чтобы она слушала комплименты бродяг. От глухой тоски Петер сел прямо на булыжник, привалясь спиной к парапету, расчехлил «Капризную Госпожу» и заиграл «Мадригал Скотного Двора». Этой пародии, сложной резкими переходами от возвышенной гармонии к мяуканью, вою собак и кудахтанью кур, лютниста обучил Антонио Тосканец, – отнюдь не герцог, как его тезка, а самый настоящий сумасшедший. В юности мастер виолы, после трагической смерти матери Антонио рехнулся на идее человеческой крови, как субстанции, связанной более с рассудком, чем с животворными эманациями тела. Последние годы Тосканец бродил по дорогам Италии, в основном излагая зевакам свои теории, и очень редко – берясь за виолу. Сьлядек познакомился с ним во Флоренции, в таверне под вывеской «Благие намерения». И сбежал от разговорчивого Антонио через день, несмотря на уважение к его таланту: после бесед с Тосканцем снились толпы румяных, одинаковых людей, чьи жилы срослись между собой.
Закончив «Мадригал», бродяга равнодушно собрал брошенные монетки и ушел с набережной. Он не видел, как Ла Чеккина, задержавшись у цветущей пинии, украдкой провожала взглядом нищего лютниста. Впрочем, хорошо, что не видел. Надежда – отрава хуже «аква-тофаны»: ее не надо тайком подливать в вино.
Глупцы сами спешат отхлебнуть.
А в спину неслось, искушая:
– Под ветром гнется,
Шуршит осока,
Над темным морем
Луна высоко.
О ты, что душу
Мне излечила —
Санта-Лючия!
Санта-Лючия!
В Неаполе, надо сказать, Петер Сьлядек проживал в самой настоящей гостинице «Декамерон», близ улицы Увядших Роз. На вывеске заведения какой-то местный Рафаэль да Винчи изобразил ключ к запертому сердцу, напоминавшему ворота цитадели, а ниже содержатель гостиницы, почтенный Джованни Бокаччо-младший, размашисто вывел доброжелательную сентенцию: «Оставь сомненья, всяк сюда входящий!» Неаполитанцы так и говорили приезжим: «Где остановиться? Без сомнений, в „Декамероне“!..» Петер угодил туда случайно: труппе comedia dell'arte, которая днем выступала на площади близ Палаццо Гравина, а вечерами развлекала постояльцев гостиницы в уютном внутреннем дворике, требовался музыкант. Простак-Бригелла, а в жизни – хитрец-капокомико, руководитель труппы, чуть ли не в ноги кинулся: «Выручай, La Virtuozo! Иначе, tre milioni diablo, нам presto finita la comedia!» Его поддержали Скарамуччо и Пульчинелло, милашка-Коломбина прижалась к жертве пылким бедром, и дело было сделано.
Если ты не привык к комплиментам и женским чарам – все, пропал. Купят тебя, братец, и продадут. Поэтому мудрецы привыкают заранее. Ну, хотя бы сперва выясняют у синьора капокомико: отчего сбежал их предыдущий музыкант…
Вместо гонорара Бригелла оплачивал «La Virtuozo» кров и стол, от щедрот добавляя пять-шесть лир в неделю: «на цветы синьоритам». Петер искренне считал, что он для труппы – чистое разорение, и очень стеснялся брать деньги; ушлый капокомико, глядя, как в гостиницу зачастили зрители-неаполитанцы, ранее избегавшие посещать «Декамерон», лишь ухмылялся, поддерживая Сьлядека в его полезном заблуждении. Несмотря на маску Простака, Бригелла чудесно умел отличать мелкие лиры чеканки дюка Николы Трона от серебряных сольдо и золотых скудо, не говоря уж о венецианских цехинах.
– Bambino idioto! – говорил он приятелю-Скарамуччо, лысому верзиле с таким густым басом, что от его монологов лопались бокалы. Разумеется, в минуты подобных откровений Сьлядека поблизости не наблюдалось. – Клянусь Santa Maria Novella, я направлю его страсть к бродяжничеству в нужное русло! Милан, Генуя, Ливорно! Флоренция! Рим! Mamma mia, я уже вижу, как нам рукоплещут толпы!
– Я всегда ценил твой талант руководителя! – утирал слезу Скарамуччо. Здесь верзила ничуточки не кривил душой, поскольку актерский талант Бригеллы он в грош не ставил.
– А какой хорошенький! – вздыхала Коломбина.
– И как поет «Santa-Lucia»! – добавляла стареющая Серветта, незаменимая на вторых ролях и в сводничестве. – Я всегда рыдаю, когда он выводит кантилену! А мне, между прочим, рыдать вредно, у меня грим плывет…
Все вышесказанное было чистой правдой.
– Ах, что ж ты медлишь,
Моя красотка!
Недвижны волны,
Надежна лодка.
Тебе от сердца
Отдам ключи я…
Санта-Лючия!
Санта-Лючия!
Сегодня вечером в «Декамероне» шел «Лорд поневоле, или На четыре кулака».
Злодей Тарталья, демонически ухмыляясь, убеждал простака-Бригеллу, сержанта городской стражи, что бедняга чудом угодил в волшебную страну Фруттинбрасс-Фейри, и отныне Бригелла – великий маг, воитель, лорд и кумир пылких фрутинбрассок. Злодею в обмане доверчивого сержанта помогали Скарамуччо с Пульчинелло – один учил жертву «метать огонь-икру», употребляя внутрь натощак Знойный Артефакт, а другой фехтовал с Бригеллой на метелках и канделябрах, будучи неизменно сражен наповал. Целью сего розыгрыша служило традиционное желание кудрявого Леандра жениться на Коломбине, дочери сержанта, – но хитроумный Тарталья оттягивал заключенье брака, демонстрируя выходки безумца добрым неаполитанцам по пять сольди за выходку.
Короче, здесь было все, что нужно почтенной публике.
Во дворике гостиницы полукругом стояли легкие кресла-плетенки. Часть зрителей – в основном, постояльцы и приглашенные ими дамы – оккупировала балкончики второго и третьего этажей. Еще кое-кто сидел прямо на бордюре фонтана, наслаждаясь прохладой. Сбоку на импровизированной сцене, стараясь не попасть под ноги темпераментным актерам, ютился Петер Сьлядек. Он наигрывал всевозможные гальярды, чаконы и виланеллы, украшая действие, а временами, в паузах, даже исполнял собственные песенки, ранее снискавшие одобрение руководителя труппы. В антракте он перешел к более серьезным вещам, например, к сюитам Винченцо Галилеи из «Флорентийской Камераты». К сожалению, жизнь оказалась неласкова к гению-композитору: его любимый сын вместо музыки, предав фамильное искусство, увлекся астрономией и прочими скучными до зевоты вещами. Бродяга никак не мог понять преступное легкомыслие этого молодого человека. Променять отцовский «Dialogo della musica antica et della moderna» на какие-то фазы Венеры и спутники Юпитера?! Удивляясь человеческому безрассудству, Петер иногда мечтал: ах, доведись мне родиться от чресел вдохновенного Винченцо Галилеи! Я бы никогда! ни за что!.. лютня, лютня и еще раз лютня!..
Увы, мечты оставались мечтами. Ни один из корифеев музыки не спешил разыскать бродягу, крича в исступлении: сын мой, блудный сын, обними своего отца! Разве что дама в полумаске бросила ему розу с балкона.
И на том спасибо.
Темнота вкрадчиво заглатывала Неаполь. Маленький дворик «Декамерона» не был исключением: в сумерках сцена, освещенная висячими лампами и троицей смоляных кувшинов по бокам, выглядела таинственно. Комичные злоключения Бригеллы, над кем потешалась вся труппа, измышляя новые проказы на радость зрителям, выглядели уже не фарсом, а скорее трагедией маленького человека, поверившего в иллюзорное, дармовое величие. Сержант искренне сражал драконов, освобождал принцесс и расколдовывал замки, не слыша хохота за спиной, не замечая насмешек, с равнодушием снося побои и щипки разыгравшейся Серветты. Ночной горшок, вылитый из-за кулис ему на голову, внезапно вызвал у зрителей возгласы сочувствия вместо предполагавшегося веселья. Актер из Бригеллы был никудышный, но сейчас это работало на представление: простая, незамысловатая искренность добавляла щепотку перца в приевшееся блюдо.
Впрочем, Сьлядека скоро утомило наблюдать за изменениями, что внес в спектакль режиссер-вечер. Во втором действии лютнист был занят меньше, получив возможность перевести дух. Скучая, он разглядывал публику. «Лорда поневоле» смотрели почтенные, состоятельные господа: члены городской джунты с семьями; компания брюзгливых скептиков-адвокатов из Болоньи, которые таким образом развлекали стайку куртизанок, помиравших от восторга; сборщики «фруктовой пошлины»; откупщики из Ливорно; мрачный хирург с аптекарем – оба в пунцовых одеждах, свойственных лекарскому сословию; некая веселая вдова под вуалью, в кокетливом траурном плаще, окружена множеством поклонников, судя по их кафтанам на стеганой подкладке – купцов из Брешии и Падуи…
Даму в полумаске видно не было. Лишь из тени балкона сверкал жемчужный венчик с зубцами, украшавший ее прическу. Да еще блестела цепочка блохоловки, выполненной из красиво отделанной шкурки хорька.
– А если спросят:
Мол, где гуляла?
Ответь: "Стояла
Я у штурвала,
Искала к дому
Пути в ночи я…"
Санта-Лючия!
Санта-Лючия!
В первом ряду на складном табурете сидел некий синьор, привлекший внимание Сьлядека. Высокий, неестественно прямой, хищными чертами лица он напомнил бы корсиканца или даже алжирца, не будь это лицо таким бледным. Прямая линия носа почти сливалась со лбом; глаза блестели пронзительно и живо, а под черными, как смоль, усами сверкал белоснежный ряд зубов. Неподалеку от него, ближе к решетке, за которой начиналась гостиничная ресторация, играл песком безумец – юноша лет четырнадцати. Сидя прямо на земле, несчастный набирал целую горсть песка из ведерка, принесенного расторопным слугой, и с животным, чтоб не сказать – растительным удовольствием любовался песчинками, текущими меж пальцев обратно в ведерко. Скорбный рассудком, он был тих и безобиден. Надо сказать, Петер Сьлядек все равно удивился бы: отчего сумасшедший допущен в «Декамерон»? – не встреться лютнист с безумцем и бледным синьором утром, в холле гостиницы.
Благоволивший к Сьлядеку хозяин позже рассказал, что бледный синьор – это сам Андреа Сфорца, известный целитель, с пациентом. Единственный, кто брался лечить помрачение рассудка, даже если пациент вел такой образ существования со дня рождения, синьор Сфорца помимо частых случаев исцеления прославился методом действий, верней, странностями и тайнами последнего.
В частности, он предпочитал крайние стадии помешательства.
– О, отцы инквизиторы давно взяли бы его в оборот! – делал большие глаза Джованни, вытирая о фартук вечно замасленные руки. – Но Святой Трибунал никогда не был популярен в Неаполе! Сам понимаешь, вечные раздоры между нашими государями и римской курией… Вот синьор целитель и пользуется!..
Из дальнейшего рассказа выходило, что, условившись с семьей безумца о плате за лечение и взяв задаток, Андреа Сфорца отправляется странствовать вместе с пациентом. Генуя, Ливорно, Милан, Тоскана… Обычно год или чуть больше. Самый буйный умалишенный в обществе Андреа делается смирным, как ягненок. Правда, оставаясь по-прежнему не в своем уме. Все содержатели гостиниц это знают и не препятствуют, когда синьор Сфорца останавливается с подопечным в их заведениях. Да и платит мудрый целитель, не скупясь. Многие лекари пытались выудить секрет: что делает хитрец Андреа с сумасшедшими?! – но попытки проникнуть в тайну исцеления оказались тщетны. Синьор Сфорца не делал ровным счетом ничего, кроме как ездил из города в город, ведя самый обычный образ жизни.
По истечении срока, ведомого лишь ему одному, он возвращал пациента в семью. С этого момента, впитывая знания, будто губка – воду, всего за два-три года бывший безумец превращался в нормального человека, догоняя в развитии сверстников, а временами и превосходя их.
Андреа же начинал переговоры с новыми клиентами, быстро приходя к согласию.
– Учеников не берет! – брызгал слюной Джованни. – Кое-кто душу бы продал, лишь бы попасть к Сфорца в науку! Нет, говорит, моя тайна умрет вместе со мной…
Лекарское искусство мало интересовало Петера. Он быстро забыл историю целителя и безумца, вспомнив ее лишь сейчас, под финал спектакля. Словно почуяв чужое внимание, бледный синьор взглянул сперва на лютниста, но быстро перевел взгляд на безумца. Висячая лампа, выполненная в форме османской чалмы, хорошо освещала лицо синьора. «Ромео!» – одними губами шепнул Андреа Сфорца. – Спокойней, друг мой!", и безумец сразу начал аккуратней сыпать песок: минутой раньше он трижды промахнулся мимо ведерка.
– Заснул?! Играй!
Нервный шепот Бригеллы вернул лютниста к действительности. Живо вступив с легкомысленным «Passamezzo», Сьлядек дождался, пока труппа спляшет заключительный танец, символизирующий окончательное посрамление глупца-сержанта, а также счастливый брак Леандра и Коломбины, после чего тихонько удалился в свою комнату. Ужин он попросил подать наверх. Сыр, оливки… лепешка, кувшин кислого вина. Щедрость Бригеллы приводила Петера в трепет. Скажи кто про обаятельного капокомико: жмот! скупердяй! – бродяга в жизни бы не поверил.
Блаженны неприхотливые!
А над городом, над мухой-проказницей, упавшей в пьяные чернила вечера, неслось:
– O dolce Napoli,
O soul beato,
Ove sorridere
Volleil creato…
Луна катилась вниз с гребня полуночи, когда он сидел на балкончике, сочиняя новую песню. Клочок бумаги с записью первой строфы, припева и краткой табулатуры был зажат в руке. Ловя за хвост сквозную рифму, ускользавшую от охотника, Петер не заметил, как разжал пальцы. Белая бабочка вспорхнула с его руки; подхвачена ветром, взлетела над витой решеткой ограждения. Кинувшись ловить беглянку, Сьлядек опоздал: бабочка отлетела дальше, словно дразнясь, зависла в воздухе и опустилась на балкон соседней комнаты, увязнув в завитушках тамошней решетки.
Вспомнить?
Записать еще раз?
Увы, быстро стало ясно: память сохранила далеко не все. С тоской бродяга глядел на чертов клочок, раздумывая: взять у слуги палку и дотянуться? Слуга начнет задавать вопросы, потом долго искать палку… К тому же, если неудачно зацепить – высвободится и улетит без возврата. Обратиться к хозяину с просьбой открыть комнату? Искать постояльца, который живет там?! Ни один из вариантов не вызывал радости. А запись дразнилась, трепетала от вздохов ночи, грозя снова уйти в полет. Неизвестно, выпитый ли кувшин вина был тому причиной, или это сказалась общая бесшабашность неаполитанцев, отравив душу ядом отваги, но минуту спустя храбрец Петер Сьлядек уже карабкался через огражденье своего балкончика, намереваясь по узкому карнизу перебраться на соседний.
Возбуждение находило в сердце привычный отклик, делаясь словами и музыкой. Любовник лез на балкон к вожделенной синьорите. Песня продолжалась, делаясь серенадой, мольбой о страсти; ее средоточьем и окружающим миром, ядром и целью был дьявольский, божественный, беглый клочок бумаги. Обладать им – достичь рая. В комнате темно, постоялец наверняка пьет кьянти в кабачках набережной, ни одна живая душа не заметит ловкого бродягу…
Он стоял на чужом балконе. Он сжимал беглянку-бабочку, стараясь не отряхнуть пыльцу слов с нежных крылышек, переводя дух, прежде чем отправиться восвояси, – когда в замке щелкнул ключ.
Дверь в комнату отворилась.
Пожалуй, впервые идея «Да будет свет!» вызвала столько безмолвных проклятий. Скорчась в углу, прижавшись к решетке, которая вдруг стала горячей адской сковороды, Петер не видел ничего, кроме огонька свечи. Огонек плыл в комнату из коридора гостиницы, на миг задержавшись в дверном проеме. Поверх слепящего язычка качнулось бледное марево, обретая черты. Лицо Андреа Сфорца сейчас походило на карнавальную маску-баула: белый лик из фарфора, белый, неестественно длинный нос, белые зубы. Сравнение нарушала лишь черная линия усов. Комната вокруг целителя впитывала жалкий свет, чтобы наполниться тенями. Немо распевая «Санта-Лючию», тени следили за постояльцем едва ли не пристальней, чем Сьлядек с балкона.
Разве что тени не молили Господа о возможности удрать.
Синьор Сфорца остановился у стенного кенкета, но поджигать свечи, специально укрепленные в этом приспособлении, раздумал. Наклонился, открыл крышку дорожного сундучка. Извлек чашу в форме венчика лилии, сделанную из благородного, узорчатого серпентина и оправленную в серебро. Ножку чаши обвивал ужасный аспид, наклонив головку над распахнутым венчиком: словно намеревался излить туда яд. Достав, помимо чаши, нечто продолговатое, завернутое в чистое полотно, Андреа направился к столу и сел в кресло.
– Ромео! – позвал он. – Мой мальчик, я жду!
Юноша-безумец, прежде топтавшийся в коридоре, вошел – нет! вбежал! – в комнату. Укоризненно качнув головой, целитель встал, тщательно запер входную дверь на засов и опять вернулся к столу. Тени делали лицо сумасшедшего Ромео почти разумным, но жуток был сей искусственный разум, не в силах наполнить смыслом поведение юноши. Люди с ясным рассудком не умеют так приплясывать, дрожать в нетерпении, издавать молящие звуки; люди с ясным рассудком делают все это, но иначе, совсем по-другому…
Развернув полотно, Андреа Сфорца взял ланцет.
Прокалил лезвие над огнем свечи.
Безумец стоял без движения. Лишь слабо застонал, будто в экстазе, когда ланцет надрезал жилу на запястье. В чашу, смачивая головку аспида, потекла черная струя. Крови целитель взял немного; почти сразу он поднес руку сумасшедшего к своему рту.
Окаменев, пытаясь срастись с вензелями решетки, Петер Сьлядек умирал от страха. Перед ним был самый настоящий стрега. В Афинах такой колдун звался «стригес»; у валахов – «стригой», но везде его гнусная родословная уходила корнями в древнеримского стрикса, оборачивавшегося совой, чтобы ночами сосать кровь у невинных детей. Упыри подобного рода не знали границ и рубежей, встречаясь всюду под разными именами, но лишь тонкие духом итальянцы додумались до стреги-кровопийцы, делающего свое мерзкое дело элегантно, не без доли изящества. Добавь кошмару привлекательности, и ты получишь армию фанатиков-последователей. Некий Пико делла Мирандола из Болоньи даже написал ученый труд «Стрикс», где описывал дюжину недавних судебных процессов, имевших место в Бреции и Сондрио. К сожалению, обвиняемые пошли на казнь, так и не сознавшись в своем грехе, поэтому Мирандола всячески сетовал на лживость и запирательства колдунов.
Сквозняк качнул пламя свечи.
Рука безумца и лицо колдуна над ней вдруг сделались невероятно отчетливы, и Петер не сумел сдержать крика. Почему-то увиденное оказалось много страшнее предполагаемых клыков, впившихся в плоть. Тем более, что никаких клыков не было и в помине. Андреа Сфорца отнюдь не пил кровь из отворенной жилы.
Он зализывал ранку.
Целитель двигался быстро, как дьявол; или, если угодно, как опытный солдат. Мгновенно оказавшись на балконе, он встал над Петером и долго, в молчаливом раздумье, смотрел на незваного гостя. В молчании крылся приговор. Ланцет синьор Сфорца крутил в пальцах с крайне неприятной ловкостью.
– Ты хорошо играешь на лютне, – сказал целитель. Голос у него был не один, как у обычных людей. Складывалось впечатление, что говорят два человека: певучая, мелодичная речь внезапно прерывалась хриплым, лающим тоном. – А лазутчик из тебя никудышный.
В ответ Петер ткнул вперед кулаком с зажатой бумажкой. Дескать, я… вот… это самое… Нелепое, дурацкое оправдание: милейший синьор стрега, я не хотел подглядывать, как вы вскрываете жилы у сумасброда Ромео! Я случайно, я сейчас уйду…
Взяв у бродяги листок, целитель прочел запись. Ночь, похоже, не являлась для него помехой.
– Ты плохой лазутчик, а я скверный знаток поэзии. Идем в комнату.
Заранее прощаясь со всей кровью, текущей в его тщедушном теле, Сьлядек проследовал за колдуном. Но синьор Сфорца не торопился. Раздернув занавеси над кроватью, он знаком велел «гостю» присесть на краешек ложа. Затем взял со стола чашу. Медленно, в три глотка, выпил содержимое.
Петер зачем-то кивнул и смутился.
– Смотри, – бросил Андреа через плечо. – Подглядывал? Теперь смотри до конца.
Слово «конец» в его устах звучало однозначно.
– Лекари Генуи и Милана продали бы душу сатане за этот секрет. И, замечу, продали бы зря: у них все равно ничего бы не получилось. У завистливых лекарей нет острова, который всегда с тобой…
Слушая эту абракадабру, бродяга глядел, как синьор Сфорца вскрывает свою собственную жилу на левой руке. Цедит кровь в чашу. Зализывает ранку, отчего кровь быстро свертывается и перестает течь. Безумный Ромео стонал рядом, захлебываясь от вожделения. Вскоре Андреа передал чашу подопечному. Безумец не был столь аккуратен, как целитель: он проглотил свежую кровь залпом и даже попытался вылизать чашу изнутри. Буквально сразу Ромео потерял к происходящему интерес, упал на маленькую лежанку возле двери и заснул мертвым сном.
– Знаешь, что я сейчас сделаю? – спросил Андреа Сфорца у бродяги.
– Знаю, – обреченно кивнул Петер. – Сейчас вы расскажете мне какую-то историю.
Теперь настал черед удивляться целителю. Судя по выражению его лица, он ждал любого ответа, кроме этого. Лазутчик никогда бы не ответил таким нелепым образом. Стоя у балконной двери, Андреа глубоко задумался, нимало не боясь, что Петер кинется прочь из комнаты. Видимо, знал: страх – лучшие в мире кандалы. Или не сомневался, что догонит.
В комнате был еще один человек, который в этом не сомневался.
– Ты или храбрец, или дурак. В любом случае…
Петер глубоко вздохнул и приготовился слушать последнюю историю в своей непутевой жизни.
* * *
Гость, заявившийся под вечер в дом дядюшки Карло, ничем особо примечателен не был. Однако дядюшка сразу насторожился, подобрался и стал похож на кошку, учуявшую мышь, или напротив: на воробья, заметившего кошку. Два противоречивых желания – закогтить добычу и удрать в кусты – боролись внутри старого моряка. Победило, как всегда в таких случаях, третье: хозяин щедро набулькал граппы в две жестяные кружки, пригласив гостя за стол. Граппу Карлуччи Сфорца, как и большинство жителей Корсики, делал сам, благо винограда кругом росло – хоть залейся. Опять же, разделяя гордыню земляков, свой напиток дядюшка полагал лучшим если не на всем острове, то уж во всей Алерии – как пить дать.
Вот именно что пить дать!
А кто усомнится, тот дня не проживет!
Гость не усомнился. Но и восторга особого не выказал. Вежливо пригубил угощение и поставил кружку на стол. Жест окончательно убедил хозяина: гость – оборотень. Не настоящий, какой бегает ночами в обличье волка, а тот, кто при свете дня выдает себя за другого человека. Длиннополый кафтан миланского сукна, башмаки из телячьей кожи, какие на побережье носит каждый второй, и массивный, явно дутый перстень на среднем пальце не ввели в заблуждение тертого контрабандиста. Этот синьор привык носить парчу и брокат, пить «Лакрима Кристи», а не крепчайшую граппу, и вообще – на Корсике он, видимо, впервые.
Приплыл с материка. Скорее всего, из Рима, судя по произношению.
Личина не смутила дядюшку. Мало ли народу плывет на Корсику: обтяпать разные делишки? Сплавить левую партию шелка или пряностей, доставить куда надо человечка, желающего избежать назойливого внимания властей… Работа как работа. Вези подальше, сгружай поближе, держи язык за зубами и прячь денежки. Заказ незнакомца тоже выглядел вполне заурядным. Требовалось забрать трех людей с одного из островков Тосканского архипелага. Да, доставить в Неаполь. Нет, самого гостя там не будет. Не все ли равно моряку, кого забирать?
Дядюшка Карло подумал, что все равно. Тирренское море он знал лучше, чем норов покойной супруги. Царство ей небесное, и храни Господь святых в раю от причуд тетушки Бьянки!
– Ваша цена, уважаемый?
Незнакомец едва заметно усмехнулся и назвал сумму. Сумма была приличной. Но далеко не столь огромной, чтобы вызвать подозрения. Это тоже настораживало. Слишком умен пришелец; похоже, он все тщательно просчитал заранее. Такая тщательность могла означать лишь одно: заказ очень важен, но гость старается это скрыть.
Отказываться от заработка было не в привычках дядюшки Карло. Но и напрасного риска он не любил. У дельца имелся душок. Едва ощутимый, но пакостный. Словно ворона нагадила в граппу.
– С какого именно острова надо забрать почтенных синьоров?
Карлуччи Сфорца вдруг сделался необычайно вежлив, что случалось с ним редко.
И всегда – при вполне определенных обстоятельствах.
Едва прозвучало название острова, дядюшка Карло понял: его опасения не напрасны. Дурной славой пользовался островок, и след ее тянулся далеко в глубь времен, словно клочья грязной пены за кормой «Летучего Голландца».
– Это обойдется вам значительно дороже, – старый моряк уставился в свою кружку.
Гость слегка приподнял бровь:
– Почему же, друг мой?
– Потому. Говорят, в пещере под островом живет дракон. А рыбаки ночами слыхали детские крики на его скалах.
– В вашем возрасте нелепо верить сказкам.
– За сказки – отдельно. За возраст – отдельно. Раскошеливайтесь, синьор, иначе не возьмусь.
– Ох, уж эти корсиканские суеверия… Ладно. Сколько вы хотите?
В первую голову дядюшка Карло хотел, чтобы гость убрался из его дома ко всем чертям. С каждой минутой дело все больше смердело гнильцой.
– Дюжину венецианских дукатов.
– Хорошо.
– Сверх названной вами цены!
– Хорошо.
– Дукаты подлинной чеканки?
– Обижаете, друг мой. Только учтите: людей требуется забрать вечером. Из бухты Кала Маэстра. Надеюсь, вы не боитесь ходить в море ночью? Мимо Неаполя не промахнетесь?
«Сатана разъешь тебе печенки!» Моряку понадобилось допить граппу залпом, чтобы не разразиться проклятиями. Цену он назвал совершенно несуразную, будучи уверен в отказе. Гость плюнет и уйдет, унося с собой весь ворох припасенных неприятностей, а он, дядюшка Карло, вздохнет с облегчением и как следует выпьет граппы во славу собственной осторожности…
Теперь слово сказано, нельзя терять лицо.
– Половину вперед!
– Разумеется.
«Что ж, деньги есть деньги, – думал Карлуччи Сфорца через пару часов, взвешивая на ладони тяжелый кошель. – Заберем эту чертову троицу, доставим в Неаполь… Не впервой. Санта Мария де ла Чертоза, молись за нас, грешных!»








