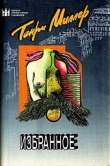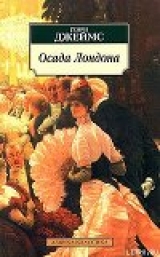
Текст книги "Письма Асперна"
Автор книги: Генри Джеймс
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 9 страниц)
V
Я редко сидел дома по вечерам; работать или читать в комнатах мешали тучи зловредной мошкары, слетавшейся на свет ламны, а при закрытых окнах было нестерпимо душно. Поэтому я проводил вечерние часы либо в гондоле Венеция при луне особенно хороша, – либо на великолепной площади, что служит как бы обширным преддверием причудливому собору св. Марка. Я располагался за столиком перед кафе Флориана, ел мороженое, слушал музыку, болтал со знакомыми; какой бывалый путешественник не знает этого скопища столиков и легких стульев, точно береговой мыс вдающегося в гладь озера Пьяццы. Летним вечером площадь, сияющая огнями, опоясанная бесконечной аркадой, полной отзвуков многоголосого гомона и шагов по мраморным плитам, вся точно огромный зал со звездным небом вместо крыши, где так хорошо не спеша попивать прохладительные напитки и столь же не спеша разбираться в богатых впечатлениях, накопленных за день. А если я не был расположен предаваться этому занятию в одиночку, всегда находился партнер в лице какого-нибудь туриста, на время решившегося расстаться со своим Бедекером, или художника, который уже обжился в Венеции и теперь радовался приходу поры неповторимых эффектов освещения. Знаменитая базилика с ее низкими куполами и выпуклой вязью орнамента, с редкостным чудом ее мозаик и скульптур, казалась призрачной в мягком вечернем сумраке, а с Пьяццетты тянуло морским ветерком, таким легким, словно его рождали колебания невидимой завесы там, где две парных колонны стоят точно косяки ворот, давно уже никем не охраняемых. В такие вечера я иногда с состраданием вспоминал о барышнях Бордеро, томящихся в своих покоях, венецианские масштабы которых не спасают от духоты венецианского июля. Казалось, их жизнь бесконечно удалена от жизни Пьяццы, и, право же, поздно было ожидать, что кто-нибудь или что-нибудь заставит суровую Джулиану изменить своим привычкам. А вот мисс Тина с удовольствием полакомилась бы флориановским мороженым, в этом я был уверен, и даже подумывал иногда, не принести ли ей порцию. По счастью, мое долготерпение в конце концов принесло некоторые плоды, и эта сумасбродная затея осталась неосуществленной.
Как-то в середине июля я вернулся домой раньше обычного – уже не помню, что послужило причиной, – и, вместо того чтобы сразу подняться к себе наверх, вышел в сад. Было очень жарко, настолько, что кажется, и вовсе не уходил бы в помещение; во всяком случае, постель меня не влекла. Плывя в гондоле домой, под тихие всплески весла в темной воде канала, я думал только об одном: хорошо будет сейчас растянуться на садовой скамье в благоуханном вечернем сумраке. Вероятно, таким мечтам немало способствовали запахи канала, и как только сад дохнул на меня своим ароматом, я почувствовал, что не зря стремился сюда. Что за чудесный воздух – такой, должно быть, подхватывал мольбы Ромео, когда он, среди цветов, простирал руки к балкону своей возлюбленной. Я даже глянул на дворцовые окна – не нашлось ли часом охотника последовать веронскому примеру – Верона ведь совсем недалеко; но везде было темно, как всегда, и, как всегда, везде было тихо. Быть может, Джулиане в ее молодые годы случалось летним вечером шептаться с Джеффри Асперном, склонясь к нему из открытого окна; но мисс Тина не была возлюбленной поэта, а я не писал стихов. Последнее, впрочем, не помешало мне испытать порыв горделивого самодовольства, когда я, дойдя до дальнего конца сада, увидел, что в беседке сидит моя младшая padrona. To есть сперва я просто различил контуры человеческой фигуры и, далекий от мысли, что одна из моих хозяек могла проявить подобную смелость, даже заподозрил было, не прокралась ли в сад какая-нибудь соседская служанка на свидание со своим дружком. Я уже хотел удалиться, чтобы не спугнуть ее, но тут фигура выпрямилась во весь рост, и я узнал племянницу мисс Бордеро. Справедливости ради замечу, что ее мне тоже пугать не захотелось – и как я ни мечтал о таком случае, у меня достало бы мужества отступить. А то получилось так, будто я ей подстроил ловушку, вернувшись домой раньше обычного, да еще пройдя сразу в сад. Но она сама заговорила со мной, и тут меня осенило: а может быть, зная, что меня никогда не бывает дома в это время, она каждый вечер спускается подышать в одиночестве свежим воздухом сада. Конечно, мне это и в голову не приходило, и никакой ловушки я не подстраивал. Не разобрав слов, с которыми она ко мне обратилась, я принял их за возглас досады, вызванный моим появлением, но она повторила сказанное, и каково же было мое удивление, когда я услышал: «Господи, как хорошо, что вы пришли!» Это у нее было общее с теткой – говорить то, чего меньше всего ожидает собеседник. Она так стремительно выбежала из беседки, словно собиралась броситься мне на шею.
Оговорюсь немедля, что это испытание меня миновало, – она мне даже не подала руки. Просто ее обрадовал мой приход, и она тут же объяснила причину – вечером ей жутковато вне дома одной. Деревья и кусты выглядят в темноте так странно, и непонятные звуки слышны со всех сторон, будто там урчат и возятся какие-то звери. Она стояла совсем рядом и уснокоенно озиралась кругом, не выказывая никаких признаков интереса к моей особе. Мне стало ясно, что привычка к ночным прогулкам едва ли свойственна ей, и я вновь почувствовал невообразимое простодушие этого существа, так поразившее меня еще при нашей первой встрече.
– Вас послушать, так подумаешь, что вы заблудились в лесной глуши, ободрительно засмеялся я. – Для меня загадка упорство, с которым вы избегаете этого маленького рая, когда вам достаточно сделать три шага – и вы здесь. Знаю, вы намеренно прячетесь, когда я дома; но в мое отсутствие могли бы, кажется, хоть ненадолго выходить в сад. Поистине ваша с тетушкой участь суровей, чем участь затворниц кармелитского монастыря. Непонятно, как вам вообще удается существовать без воздуха, без моциона, без всяких сношений с другими людьми! Из чего же складывается у вас то, что принято называть жизнью?
Она посмотрела на меня с таким видом, словно я обращался к ней на чужом языке, и ее ответ так мало заслуживал этого названия, что подействовал на меня раздражающе. «Мы рано ложимся спать, вы даже не представляете себе, когда». Я хотел было заметить, что тем сильнее мое недоумение, но следующие ее слова оказались несколько более вразумительными: «До вашего приезда мы жили менее замкнуто. Но я все равно никогда не выходила но вечерам».
– Никогда не прогуливались по этим дорожкам, где все цветет и благоухает около самого вашего дома?
– О-о, – сказала мисс Тина, – раньше здесь не было так красиво!
Это можно было толковать в лестном для меня смысле, и я усмотрел тут признак некоторого успеха. В качестве следующего шага неплохо было намекнуть, что у меня есть повод для недовольства; и я спросил, отчего же, если ей нравится эта созданная мной красота, она ни разу не поблагодарила меня хотя бы за цветы, которые я вот уже три недели в таком количестве посылаю ей каждое утро. Я не в обиде и, как она могла заметить, продолжаю их посылать; но меня с детства учили, что на внимание принято отвечать вниманием, и мне было бы приятно порой услышать от нее хоть одно любезное слово.
– Но я вовсе не думала, что эти цветы для меня!
– Они для вас обеих. Почему бы мне делать между вами разницу?
Мисс Тина задумалась, словно в поисках объяснения – почему, в самом деле. Но не нашла его, и вместо объяснения последовал неожиданный вопрос: «Зачем вам хочется познакомиться с нами поближе?»
– Нет, видно, все-таки разницу делать надо, – сказал я. – Ведь это не ваш вопрос, а тетушкин. Вы бы мне его не задали сами от себя.
– Она мне не приказывала задавать вам этот вопрос, – возразила мисс Тина, нимало не смутившись. Робость и прямота сочетались в ней самым удивительным образом.
– Но она часто удивлялась моим действиям и выражала свое удивление вслух. Причем так настойчиво, что мало-помалу внушила и вам эту мысль о моей чрезмерной напористости. А я, между прочим, считаю, что вел себя весьма скромно. И ваша тетушка, должно быть, утратила всякое понятие о человеческих отношениях, если готова забить тревогу из-за того, что разумные, благовоспитанные люди, живя под одной кровлей, время от времени перекинутся словечком между собой. Что может быть более естественным? У нас общая родина, кое-какие общие вкусы, – я, например, как и вы, нежно люблю Венецию.
Очевидно, мисс Тина была способна воспринять смысл только одной фразы собеседника, даже если его речь состояла из нескольких, и, как только я кончил, она торопливо и возбужденно отозвалась: «Но я вовсе не люблю Венецию. Я бы охотно уехала куда-нибудь подальше отсюда».
– Она вас всегда держала взаперти? – спросил я и тем доказал, что умею быть столь же непоследовательным в разговоре.
– Это она мне сегодня велела выйти; она часто велит, – сказала мисс Тина. – А я всегда отказываюсь. Я не люблю оставлять ее одну.
– А что, она очень слаба, ее здоровье ухудшилось? – спросил я, обнаружив неуместное волнение. Я это понял по тому, как взглянула на меня в полутьме мисс Тина. Несколько сконфуженный, я поторопился изменить направление разговора и предложил бодрым голосом: – Давайте усядемся где-нибудь поудобнее, и вы мне расскажете о ней.
Мисс Тина не стала возражать. Мы выбрали скамью в менее уединенном, словно бы даже менее располагающем к доверительности месте, чем беседка: и мы все еще сидели там, когда я услышал звон, возвещавший полночь – чистый и ясный звон венецианских колоколов, который с особой, несравненной торжественностью разносится над лагуной и куда дольше дрожит в воздухе, чем звон любых других колоколов. Мы час с лишком пробыли вместе, и наш разговор, как мне казалось, сильно подвинул меня к цели. Мисс Тина легко приняла новое положение вещей; три месяца она избегала меня, но теперь держалась так, словно за эти три месяца я превратился в испытанного друга. При желании я мог заключить, что если она меня избегала, то делала это далеко не бездумно. Сейчас она точно не замечала времени, ничуть не смущаясь тем, что я так долго удерживаю ее вдали от тетки. Говорила она охотно, отвечала на вопросы и спрашивала сама и ни разу не воспользовалась естественной паузой в разговоре, чтобы заметить, что ей, мол, пора домой. Могло показаться, будто она ждет чего-то – каких-то моих слов – и хочет облегчить мне возможность их произнести. Я это особенно почувствовал, когда она рассказывала, что в последнее время тетка сильно сдала и в ее поведении что-то изменилось. Она заметно ослабела, порой силы вовсе оставляют ее, но в то же время она гораздо больше прежнего стремится бывать одна. Оттого она и ее, мисс Тину, гонит из дому – не хочет даже, чтоб та оставалась в своей комнате, расположенной рядом с тетушкиной спальней; называет ее «скучной» и «нудной» и твердит, что при ней чувствует себя хуже. Часами она сидит в своем кресле не шевелясь, будто спит; ей и раньше случалось подолгу просиживать так, то ли задремав, то ли уйдя в свои думы; но время от времени она, бывало, подаст признаки жизни, что-то скажет, окликнет племянницу, которая по ее требованию безотлучно находилась тут же. А теперь, продолжала моя горемычная собеседница, она зачастую так долго остается неподвижной, что пугаешься, уж не умерла ли она, – и притом почти ничего не ест, не пьет, чем только еще держится. Но вот что замечательно: она все-таки почти каждый день встает с постели; правда, нелегкое это дело – одеть ее, усадить в кресло на колесах, выкатить из спальни. Не хочет отставать от старых привычек – ведь в прошлые годы, когда в доме еще порой бывали гости, она принимала их не иначе, как в большой гостиной.
Я не знал, что и подумать обо всем этом – о непривычной словоохотливости мисс Тины, об услышанном от нее удивительном известии, что чем больше слабеет здоровье старухи, тем решительней она отказывается от всяких забот племянницы. Как-то это плохо вязалось одно с другим, и я даже задавал себе вопрос, нет ли тут подвоха, не ловушка ли это, рассчитанная на то, чтобы заставить меня раскрыть свои карты. Неясно было только, зачем бы это моим любезным хозяйкам (любезными, впрочем, я мог назвать их только из вежливости) – какой им интерес изобличать в чем-то столь выгодного жильца. Но, на всякий случай, я решил соблюдать осторожность и не дать мисс Тине нового повода спросить, «что у меня на уме». Бедняжка, – еще до того как мы с ней пожелали друг другу доброй ночи, я пришел к твердому убеждению, что насчет ее самой в этом смысле можно не беспокоиться. У нее на уме не было ровно ничего.
Она поведала мне больше, чем я мог надеяться. Не понадобилось даже что-либо выпытывать. Как видно, одно сознание, что ее слушают, и слушают сочувственно, располагало мисс Тину к откровенности. Она больше но думала о моих тайных побуждениях и так разговорилась, описывая блестящую жизнь, которую они с теткой вели когда-то, что не могла остановиться. Разумеется, блестящей эта жизнь была в глазах мисс Тины; по ее словам, когда они впервые поселились в Венеции много-много лет назад – я заметил, что она не слишком сильна по части хронологии, – недели не проходило без приема гостей или приятной прогулки по городу. Они познакомились со всеми достопримечательностями, даже ездили на Лидо (она произнесла это так, словно я мог подумать, что туда можно добраться пешком), привезли с собой три корзины с провизией и расположились пикником на траве.
Я спросил, кто составлял их общество, и она сказала: «О, милейшие люди-Cavaliere[12]12
Кавалер (итал.)
[Закрыть] Бомбичи и Contessa[13]13
Графиня (итал.)
[Закрыть] Альтемура, с которой мы были очень дружны, также кое-кто из англичан Чертоны и Гольди и миссис Сток-Сток, самая наша любимая приятельница; ее, бедной, давно уже нет в живых. Как, впрочем, и большинства членов нашего дружеского кружка, – так именно выразилась мисс Тина; осталось лишь несколько – и то еще удивительно, что эти оставшиеся не вовсе забыли нас, ведь уже много лет, как мы перестали кого-либо принимать у себя». Она назвала имена двух или трех старых венецианских дам, одного доктора – он очень хороший специалист и был всегда очень внимателен к ним, хотя только в качество друга, практиковать он давно уже перестал; потом еще ovvacato[14]14
Адвокат (итал.)
[Закрыть] Покинтеста, который прекрасно писал стихи и даже посвятил одно стихотворение тетушке. Все они и сейчас непременно навещают их каждый год, преимущественно в день Саро d'Anno;[15]15
Новый год (итал.)
[Закрыть] в прежнее время они с тетушкой всегда дарили им какие-нибудь пустячки, собственноручной ее, мисс Тины, работы – бумажные абажуры, салфеточки под графины с вином или вязанные из шерсти напульсники для холодной погоды. Последнее время подарков уже почти не было, сама она не знала, что придумать, а тетушка утратила интерес и ничего не подсказывала ей. Но гости все-таки приходили; в Венеции если кто подружится, так это уж навсегда.
Было немало трогательного в этом проникновенном описании былых светских утех; память о пикнике на Лидо не потускнела за долгие годы, и бедная мисс Тина, видно, искренне верила, что прожила бурную юность. Ей и в самом деле довелось соприкоснуться с Венецией, верней, с миром венецианских сплетниц, бережливых домохозяек, врачей и адвокатов – недаром я в этот вечер впервые подметил у нее знакомую мне воркующую, почти ребяческую манеру говорить, свойственную венецианцам. О том, что эта лишенная твердой основы речь стала для нее не чужой, можно было судить по тому, как легко приходили ей на язык местные имена и названия. Правда, она мало что знала о предметах и людях, к которым они относятся, но еще меньше знала о чем-либо другом. Ее тетка со временем замкнулась в себе – потеря интереса к салфеточкам и абажурам была одной из внешних примет, – а в одиночку она не смогла поддерживать светские связи; оттого-то все ее думы и воспоминания и обращены были к стародавним временам. Если бы не целомудренная благопристойность этих воспоминаний, казалось, можно было бы даже различить за ними причудливое рококо Венеции Гольдони и Казановы. Я то и дело себя ловил на том, что воспринимаю и ее как современницу Джеффри Асперна; уж очень мало в ней было сходного с моими современниками. А между тем, думал я, возможно, она даже не слыхала о нем; что удивительного, если Джулиана не пожелала откинуть перед этими невинными очами завесу, скрывавшую алтарь ее былой славы. Но тогда вряд ли она знает о существовании писем; я было порадовался такой вероятности – ведь если так, можно не опасаться ее подозрений – да вдруг вспомнил, что полученное Камнором обескураживающее письмо было написано рукой племянницы. Даже если она писала под диктовку, она не могла не знать, о чем идет речь, хотя в письме и отвергалась всякая мысль о знакомстве с поэтом. Но при всех обстоятельствах я готов был поручиться, что мисс Тина не прочла ни одной строчки его стихов. К тому же, поскольку обеим дамам на протяжении стольких лет удавалось избегать любопытных расспросов и взглядов, мисс Тине скорее всего и в голову не приходило, что кто-то «охотится» за письмами Асперна. Никто за ними не мог охотиться, потому что никто про них не знал. Обращение Камнора было лишь случайной попыткой, предпринятой наудачу и ни к чему не приведшей.
Когда пробило полночь, мисс Тина встала, но еще сделала со мной два или три круга по саду, прежде чем остановиться у дверей дома. «Когда мы опять увидимся?» – спросил я, и она с готовностью ответила, что выйдет завтра вечером. А может быть, и нет, – ей хотелось бы выйти, но она редко поступает так, как ей хочется.
– Вот если бы вы хоть раз поступили, как мне хочется, – непритворно вздохнул я.
– Вам? О нет, я вам не верю! – возразила она, подняв на меня свой простодушный серьезный взгляд.
– Отчего же вы не верите мне?
– Оттого, что я вас не понимаю.
– В таких-то случаях и следует полагаться на доверие. – Больше я ничего не сказал, хотя и не прочь был продолжить разговор; но я видел, что она совсем озадачена, и мне не хотелось обременять свою совесть сознанием, что я дал ей повод подумать, будто веду с ней любовную игру. А как еще можно было истолковать настойчивые просьбы о доверии, обращенные мужчиной к женщине в тиши итальянской летней ночи? Щепетильность моя была не лишена оснований: мисс Тина медлила и медлила, и я чувствовал, что она далеко не убеждена в возможности новой ночной прогулки и потому стремится продлить нынешнюю. Кроме того, ей явно хотелось говорить о том, что касалось нас с нею, словом, она вела себя так, как может себя вести только очень бесхитростная и не очень умная женщина.
– Меня теперь особенно будут радовать ваши цветы, раз я знаю, что они предназначены и для меня.
– Неужели вы могли думать иначе? Назовите мне ваши любимые, я позабочусь, чтобы вы получали их вдвое больше.
– О, я все цветы люблю! – воскликнула она, а потом спросила почти интимным тоном: – Вы еще будете работать, когда вернетесь в свою комнату, читать, писать?
– Нет, я по ночам не работаю. В это время года свет лампы привлекает насекомых.
– Разве вы не знали этого прежде?
– Знал, разумеется.
– А зимой вы работаете по ночам?
– Читаю много, но писать почти не пишу. – Она слушала так, словно подобные мелочи представляли для нее необычайный интерес, и вдруг, глядя на это некрасивое доброе лицо, я почувствовал соблазн, пересиливший все благоразумные соображения. Да, да, она ничего не подозревает, не заподозрит и впредь. А мне, право, больше невмочь ждать – я должен запустить пробный шар. – Читать в постели – вредная привычка, но я, признаюсь, люблю перед сном почитать хорошие стихи. На моем ночном столике всегда лежит томик одного из великих поэтов, чаще всего – Джеффри Асперна.
Я зорко следил за ней, выговаривая это имя, но ничего примечательного не увидел. А что, собственно, я ожидал увидеть? Разве Джеффри Асперн не принадлежит человечеству?
– Да, мы его тоже читаем, вернее, читали, – как ни в чем не бывало, промолвила она.
– Это мой любимейший поэт – я наизусть знаю почти все его стихи.
Мисс Тина секунду колебалась; но жажда общения одержала верх.
– О, стихи, это что! – Чуть заметный свет загорелся в ее глазах. – Вот моя тетушка, моя тетушка… – Она запнулась, и я замер в ожидании. – Тетушка знала его в жизни.
– В жизни? – переспросил я довольно безразличным тоном.
– Да, он у нее бывал, сопровождал ее в театр, на прогулки.
Я округлил глаза.
– Помилуйте, мисс Тина, да он умер сто лет тому назад.
– Ну и что ж, – почти весело сказала она. – А тетушке полтораста.
– Боже праведный! – вскричал я. – Почему же вы мне раньше об этом не сказали? Я был бы так счастлив порасспросить со о нем.
– Она все равно ничего бы вам не рассказала – она этого ire любит.
– Да какое мне дело, любит или не любит. Она должна рассказать мне разве мыслимо упустить такой случай!
– Вам бы надо приехать лет двадцать тому назад. Тогда она еще охотно о нем вспоминала.
– И что же она говорила? – жадно допытывался я.
– Мало ли что, – что он был очень увлечен ею.
– А она? Была ли она им увлечена?
– Она его называла божеством. – Мисс Тина сообщила это ровным, лишенным выражения голосом, точно пустяковую местную сплетню. Но меня глубоко потрясли эти слова, оброненные в тишину июльской ночи; они прозвучали как шелест страниц полуистлевшего от времени любовного послания.
– Подумать только! – прошептал я. И снова обратился к мисс Тине: Скажите, прошу вас, нет ли у нее его портрета? Их, увы, почти не сохранилось до наших дней.
– Портрета? Не знаю, – ответила она с замешательством, которого прежде не чувствовалось. И, отрывисто пожелав мне доброй ночи, вошла в дом.
Я последовал за нею в широкий мощенный каменными плитами нижний коридор, приходившийся под sala бельэтажа. С одного конца он выходил в сад, с другого – на канал, и у входа тускло светила лампочка, которую обычно оставляли для меня, чтобы я мог освещать себе путь, поднимаясь наверх. Рядом с лампочкой стояла на столике свеча, видимо, принесенная мисс Тиной.
– Доброй ночи, доброй ночи! – отвечал я, следуя за ней, и, покуда она зажигала свечу от моей лампы, успел добавить:– Ведь если бы он у нее был, вы бы, наверно, знали?
– Если бы у нее было – что? – спросила она, как-то странно взглянув на меня поверх пламени свечи.
– Портрет божества. Чего бы только я не дал, чтобы его увидеть.
– Не знаю я, что у нее есть, чего нет. Она все запирает. – И мисс Тина пошла к лестнице, ведущей наверх, явно считая, что наговорила слишком много.
Я ее не удерживал, чтобы не напугать, лишь заметил вслед, что вряд ли мисс Бордеро упрятала бы такую вещь под замок. Владей она столь бесценным сокровищем, она бы им гордилась, повесила бы его на почетном месте в гостиной. А стало быть, никакого портрета у нее нет. Мисс Тина промолчала и стала подниматься по лестнице, держа свечу высоко перед собой. Но на третьей или четвертой ступеньке она вдруг остановилась и, круто повернувшись, устремила свой взгляд в полутемное пространство, где я стоял.
– Вы что ж, тоже пишете – пишете, да? – Голос ее срывался, она с трудом выговаривала слова.
– Пишу ли я? О, не будем касаться моих писаний вслед за разговором о том, что написано Асперном.
– Но вы пишете о нем, вы хотите выведать подробности его жизни?
– А вот это уж тетушкин вопрос, вы бы сами до этого не додумались, сказал я, придав легкий оттенок обиды своему тону.
– Что же, тем более вы должны ответить. Так это или не так?
Я считал себя готовым к любым измышлениям, которых от меня могут потребовать обстоятельства, но, когда дошло до дела, я понял свою ошибку. Кроме того, после всего, что уже было сказано, мне почему-то не захотелось лгать. Наконец, пусть это была призрачная, безрассудная надежда, но мне казалось, что, даже если я скажу правду, мисс Тина в конечном счете не лишит меня своего дружеского расположения. И, поколебавшись несколько секунд, я ответил: «Да, я пишу о нем и пытаюсь найти новые материалы. Умоляю, скажите, есть ли у вас что-нибудь?»
– Santo Dio![16]16
Боже правый! (итал.)
[Закрыть] – воскликнула она вместо ответа и, бросившись вверх по лестнице, мгновенно исчезла из виду. Да, в конечном счете, может быть, я и вправе был надеяться на ее поддержку, но сейчас она явно находилась в полном смятении. Достаточно сказать, что она снова начала от меня прятаться, и целых две недели я напрасно ожидал ее по вечерам. Терпение мое истощилось, и я отдал садовнику приказ об отмене «цветочной подати».