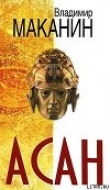Текст книги "Спорыш"
Автор книги: Геннадий Абрамов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 2 страниц)
– Вы его здесь решили припрятать, Алексей Никанорыч?
– Тсс, – Батариков схмурил лоб и палец к губам приложил. – Про скромные наши дела тутошним знать незачем.
– Извините, у меня недержание речи. Хорошо, что предупредили, а то непременно бы разболтал.
– Уж я вижу.
Батариков загнал «козлика» спиной до половины в гараж, и они аккуратно, дабы не привлекать внимания, занесли гроб в угол и на какую-то широкую станину, заранее приготовленную, установили. Писатель, отдышавшись, пригляделся и понял, что гроб теперь покоится на обрабатывающем станке, а поскольку сам последнее время чересчур деревом увлекался – крошил, строгал и даже вагонку сам делал вместо того, чтобы книжки писать, – залюбовался такой сильной машиной.
– Вот это богатство. Ваш?
– А то чей же?
– И четверть выбирает?
– Сверлит, шлифует. Чего душа пожелает. Шестерку берет как нечего делать. Три ножа. Строгает под зеркало.
– Алексей Никанорыч, простите, но я удивлен. У вас здесь сокровище, можно сказать, а вы в деревне вручную корячитесь. Топором да ломом. Отчего так?
– Задумка есть. Может, обменяю, ежели сговорюсь.
– На что?
– Да есть мыслишка. Пока сглазить боюсь. Мне за него осенью прошлой корову хворую предлагали.
– Зачем же вам корова? Да еще хворая?
– Тушенку делать. На тушенку она бы пошла.
– Прогадали бы.
– Ага. Потому и тормознул в последний момент. Вот жду сейчас. Это предложение не в пример подходяще.
– Мой вам совет, Алексей Никанорыч. Не одной тушенкой жив человек. Вы же строитесь. Вам этот станок самому позарез нужен.
– Думаете?
– Уверен. Поставьте его в деревне, к вам очередь выстроится. Не бесплатно, разумеется. Доброе дело сделаете, деньжат подзаработаете. А хотите, в аренду сдайте, тоже неплохо.
– Что еще за аренда?
– Ну, например, когда вы в простое, он вам не нужен, я у вас его на месячишко возьму и за это вам заплачу.
– Уу, придумали чего, – сказал Батариков, осердясь. – Хуже только мои сыновья предлагают.
– Это почему же?
– Вот вы, я слышал, писатель, а все же и у вас иной раз сильный мозговой крен. Неувязки. Как же с вас деньги стану брать?
– Обыкновенно. Чем я хуже того, кто вам больную корову предлагал?
– Полно. Вы ж мой сосед.
Батариков помрачнел, разобиделся – вид у него был такой, будто он в писателе вконец разочаровался. Попросил его вежливо из гаража и «козла» внутрь завез. Ворота затворил, засовом лязгнул.
– Айда глянем, чего там ребята нахимичили.
А у ребят не заладилось. Кольцо вроде бы приварили, но когда попробовали крутануть, сварка и отвалилась. Не держалась на нержавейке, как они и предупреждали. Тогда решили штырь в щель загнать, чтобы жесткая сплотка возникла. Мучались, мучались – бросили. И со штырем не выходит. Оказалось, идея изначально ложной была. Вдобавок, когда кувалдой штырь загоняли, металл маленько расплющили, и вообще этот проклятущий болт ни туда ни сюда. Сгоряча ножовкой палить хотели – спасибо, отдумали вовремя. Славка взопрел. Не сдавался.
– Возьму, вражина, – это он с упрямым болтом разговаривал. – Не может так быть, чтоб я тебя из сволочного гнезда не выбил.
С Костей в который раз посоветовались и решили поддомкрачивать. Снять к чертовой матери со ступицы колесо и пробовать с тыла неприятеля изгонять.
– Может, перекусим? – писатель невпопад предложил. – Мне жена тут полную сумку еды наложила.
– Какой перекусим, – отбрил Славка. – Сперва дело надо.
– А я бы не прочь, – сказал Батариков, изнывавший без занятия. Отошли в сторонку, присели на травку.
– Что за ребята? – писатель между прочим поинтересовался.
– Толковые.
– Вижу. Чем живут?
– Чем попало.
– Свой сервис открыли? Машины чинят?
– Само собой. Тут, вишь, дело какое. Завод ихний трясет, с работой совсем худо. Они бы машины за ради Бога чинили, да их не сыщешь. Мало едут. А парни хорошие. Чего хочешь тебе соберут-разберут. У каждого семьи. Жалко. Я им тут халтурку подыскал. Вот я вам давеча про сестру в Ярославле сказывал.
– Это для которой гроб?
– Ну да. А у меня еще одна здесь, в Нелюдевке, на птицеферме птичницей. Яички вожу. А Славка с Костей их по утрам на рынке толкают. Кривятся, торговать не любят, а куда денешься. Так хоть дуба с голоду не дашь.
– Одобряю, Алексей Никанорыч. В трудную годину помогать мальчикам – это по-божески.
– Полно, по-божески, – сказал Батариков, снова расстроившись из-за того, что писатель недальновидный такой. – Я ж эти яички, считай, брат, ворую.
– Да-а-а?
– А вы как думали?
Батариков смахнул крошки с колен и кивнул в сторону машины.
– А? Что я говорил? Пошло вроде дело.
Тут и писатель увидел, что его «жигуленок» стоит вперевалку уже на другой бок. Стало быть, второе колесо поддомкратили, а с тем, первым, покончили.
Пошли проверить.
И точно.
Этот Славка, бестия, придумал-таки приспособление, чтоб вертлявую головку застопорить. Тремя ключами орудовал. Двумя этак хитро зажмет, а по третьему, газовому, сапогом как саданет. Они и отворачивались.
– Нормальные болты есть? На замену?
Писатель в багажнике отыскал.
– Спасибо, умельцы. Выручили, – радовался писатель. – Сколько я вам теперь за труды должен?
Батариков тотчас нахально вмешался – словно парадом командует он, а молодежь у него в услужении.
– Сейчас сочту. Значит, так. Петух за штуку минус… то. Он мне, братва, нынче сильное облегчение сделал. Сложим, сытожим. Обратную дорогу сюда. А как же? Выходит, без пузыря, как за четыре с полтиной десятка яиц.
– Это, простите, сколько?
– Восемнадцать с мелочью.
– Странная цифра, – писатель недоумевал. – Ну, а вы, мастера, что молчите? Согласны с начальником? Я вас не обижу?
– Не-ее-т, – гуднули Славка с Костей. – Самый раз.
Писатель от души руки парням пожал, расплатился и попросил разрешения, если вдруг снова какая-нибудь поломка в машине, нельзя ли ему к ним в надежные руки, или, как их шеф выражается, под крыло?
– Милости просим, – засмущались оба. – Мы теперь безработные, всегда тут.
– Великое вам спасибо, – писатель за руль сел. – Достатка и мира вашему дому.
– Раскудахтались, – осудил Батариков. – Дело какое, болты сковырнуть. Вот вы, может, и против, а в Любки назад с вами уцеплюсь.
– Конечно, Алексей Никанорыч. Веселее вдвоем, буду рад.
– Свою запер уже. Чего зря старуху гонять?
– Разумно. Пусть лучше ваш «козлик» постережет гроб.
– Именно что. Помилуются ночку, а там видно будет, что утро мудрое нам изготовит.
– Очередной обмен, я полагаю.
– Хорошо бы, – вздохнул Батариков. – Если с выгодой, я б тогда вас, как девку, измял и зацеловал.
3
На рассвете писателя с супругой разбудил храп.
Звук был въедливый. Мало сказать, противный – такой силы и мощи, что сквозь двойной потолок с засыпкой не только что проникал играючи, но и тут, наверху, им уши, как в самолете, закладывал.
«Что за оказия, – одеваясь, расстраивался писатель. – Вся моя междуэтажная изоляция, выходит, ни к черту не годится?»
Спустились в известном волнении вниз. Свист храпной, клекот. Двери настежь. Нахальные сороки хлебные корки клюют. У порога галоша одинокая. Стекла мелко дребезжат.
Так и есть – это Мироныч, ночку погуляв, с устатку в глубоком беспробудном сне прихотливые извилистые трели на диване издавал. Голый, неохватной рыхлой задницей кверху, в одном неправильно надетом ботинке.
– Ну и ну, – дивилась Елена. – Кто ж это в целом свете выдержит? Теперь мне понятно, почему они его из дома под любым предлогом выпроваживают.
– Полагаю, не только поэтому, – писатель сказал. – Но заметь. Насчет непереносимой насосной завертки, гадкие люди, даже не предупредили.
– Я им припомню.
– Давай кувырнем его, что ли? А то на этот необыкновенный концерт вся деревня сбежится, включая свиней и быков.
– Пожалуйста, без меня, – отказалась Елена. – Тяжести таскать мне уже возраст не позволяет. Да и шулята старческие лицезреть по приговору суда не заставишь.
– Вот как?
– К тебе не относится.
Она ушла на веранду завтрак готовить, а писатель Мироныча в одиночку на бок перевалил, дабы звуки приманчивые пресечь. Пледом укрыл.
Едким густым перегаром от него так несло, что с ног сшибало.
На какое-то время установилась забытая тишина. Однако вскоре дипломат забулькал, зачавкал, вроде как заворчал недовольно и самолично вновь на пузо улегся. Видно, так ему было сподручнее окружающим нервы трепать.
– Осел упрямый, – непочтительно писатель сказал. Прикрыл поплотнее дверь и тоже ушел, бросив дипломата на произвол судьбы.
Сколько-то часов спустя, когда солнышко вовсю землю грело, а писатель с женой, заметно событиями удрученные, в саду копошились, вновь явился не запылился бесстыжий Батариков.
– Здрасьте, люди любезные, – издали поздоровался. Он был с мешком какой-то травы за спиной, странно одет, будто в тесное детское, и в одной галоше. Губы его были разбиты в кровь, под глазом назревал солидной величины синяк, и левую руку он держал осторожно под грудью, не иначе как вывихнул. Однако, когда Елена к нему подошла, замурлыкал, как с соблазнительной медсестрой тяжко раненный.
– Красавица наша, Елена премудрая. Свет очей сельских. Звезды вас в подарок прислали. Безоговорочно. Извините, это опять я вам надоесть зашел.
– Вы за галошей?
– А, – растерялся Батариков. – Неужто здесь?
– Вы опустите мешок-то. Неудобно.
– Пустяки, – сказал Батариков, однако мешок с плеч снял.
– Вот ваша пропажа. Я ее вымыла.
– Напрасно, чудесная, еще мыть ее, и так бы сгодилась. А я уж с ней распрощался.
Они помолчали. Батариков галошу, навсегда было потерянную, нацепил и просяще и грустно на Елену уставился. Она, конечно, догадывалась, зачем он явился, а вид делала, что ей невдомек.
Тогда Батариков приступил:
– А друг мой? Живой?
– При смерти. Слышите?
Батариков ладонь к уху приложил, понарошки прислушался.
– Ишь, как вздыхает, болезный, – посочувствовал. – Хворает. Вы, Елена, небось сами не знаете, какого человека к нам на грешную землю сгрузили. Провалиться на этом месте. Человек с заглавной буквы. Друзья мы теперь. Не разлей вода. Полюбил я его, толстого, сразу и бесповоротно.
– С первого взгляда. Я убедилась.
– Ох и умный, чертяга. Пропасть всего знает. Мне с такими, можно сказать, во всю мою жизнь беседовать не приходилось. Тронут. Не поверите, Елена, до глубины души, до самого основания.
– Заметно.
– Нам бы с ним подлечиться трошки. А? Перехватили чуток. Как вы сами думаете?
– В нашем с вами возрасте, Алексей Никанорыч, лечиться надо всерьез.
– Вот и я с вами так же заодно. Шутки кончились.
И опять замолчал, выжидательно глядя.
– Водки нет, Алексей Никанорыч. Анальгину хотите?
– Уу, таблетки. Что вы, милая. Не берет. А на нет и суда нет. Ладно. Что ж. Из-под земли, а достану. Вы меня недопоняли, расчудесная. Он же теперь, считай, друг мне до гроба. Нам бы вместе хворь снять, то есть не поодиночке выкрутиться, а именно что с ним. Вместе летали, вдвоем и на посадку идти.
– Сербию еще к России не присоединили?
– Ага. У него, о чем ни спроси, на все аргументы и факты. Не думал я, не гадал, что такого человека в своей жизни дождусь.
– А жена ваша? – в лоб спросила Елена. – Мне кажется, она возражает, ей ваши полеты не нравятся.
– Полно. Как она смеет.
– А губа? Фингал под глазом? Руку разве не она вам вывихнула?
– Не. Как вам такое подумалось даже. Ни в коем случае. Она у меня смирная. Это я, дорогая моя, по секрету скажу, от неловкости.
Елена, не удержавшись, рассмеялась заливисто, как только она умеет.
– Что вы говорите?
– Пожар тушил.
– Господи, что еще за пожар?
– Ага. Горел я, дорогая моя. Под утро. Да сильно, бес ее задери. Васек, как ушел, я не заметил, а меня, видно, с непривычки сморило. Слышу, дым глаза ест, в нос горелым несет. Тут моя швабра и выскочила. Ничего. Веранду подкоптили маленько, мешок комбикорма, кровать пострадала, еще кое-что истлело. А так быстро загасили. Штаны вот только его. Кофта ваша. Рубаха, трусы безразмерные.
– Что? Погибли?
– Простите, ни к черту совсем. Ошметки одни. Я ведь по дурости давеча и ведра не донес, воды в доме ни капли. Вещичками впопыхах пламя сбивали. На тряпки и то не годятся.
– Выходит, если бы не моя любимая кофта, ваш дом сгорел бы дотла?
– Ага. Извините.
– Хороши, нечего сказать.
– Пока он спит, дорогая Елена, я еще вот что у вас потихоньку узнать хотел. На смену – то есть чего у него? Или нет? А то я у себя пошукаю. Не голым же ему в свою заграницу ехать?
– Пусть катится.
– Не серчайте, моя разлюбезная. С кем не бывает. Я бы сию минуту какую-никакую одежонку ему собрал. Ношеное, зато свое, нашенское, их поганого импорта себе досконально не позволяю. И еще боюсь, не налезут. У него все же размеры не те.
– Да, габариты внушительные.
– Мне бы узнать. Если он голым остался, в крайнем случае, по деревне пойду. Мне в беде не откажут. А откажут, на что ни что обменяю. Вот у Ерофеича комплекция подходящая. С отдачей, скажу. Василий же как-никак дипломат. Что вы. Скандал между народами. Я так рассуждаю, ему бы до места добраться, а он потом вышлет назад. В целости будет.
– Надо же, какой предусмотрительный.
– А как же? Виноват. Что люди скажут. Ночью затащил иностранную шишку важную, опоил до потери разума, а потом пустил по деревне задницей сверкать. Некрасиво. Нехорошо. Не по-нашенски. Испереживаюсь весь.
– Совесть заела?
– А как же? Грызет. Человек-то какой, – сокрушенно закачал головой Батариков. – Сроду таких не встречал. Подружились вдобавок. Ну, все как на грех. Что вы, Елена наша. Душа сильно взволнована, хотя по лицу сейчас, может, и затемнение. Вот подарок ему принес, – кивнул на мешок. – Все утро косил. Да, вишь, руку мне баба зашибла. Одной косил. Запарился с непривычки.
– Если не секрет, что там?
– Да травка его, спорыш. Он мне вчера под звездами признание сделал. Почки у него. Кишками страдает, боли нестерпимые в голове и желудок с язвой. Еще жуть какая-то, всего не припомню. Он ведь на работе своей сидячей и в чужом краю насквозь больной. Моложе меня на год, а еле ходит. Ночью порассказал, когда мы беседовали. Только этой травкой спасается. Водкой боль глушит, а лечится ею. У них там, в Монголии или Гватемале, забыл, в какое его последний раз посольство закинули, эта травка ему первое целебное средство.
– Как же он ее разглядел? При звездах?
– Хой, он ее и в кромешной тьме при спичках отыщет. А у нас от веранды свет тек. Выходили.
– На кладбище?
– Упаси Господь. Рядышком. Ему она только нужна сушеная. В аптеках у них покупает и пьет. Вместо чая, заварку. Там она, сам он признался, большущих денег стоит, я так понял, разоришься на ней, никаких наших зарплат не хватит. А у нас просто так растет, даром, ногами драгоценности топчем. Вот я и решил ему по-дружески подмогнуть. Замучался, правда, одной рукой косить, подбирать, в мешок заталкивать. Пускай он ее туда заберет, высушит и за наше здоровье пьет.
– Целый мешок? Алексей Никанорыч, он его и поднять не сможет.
– Попросит кого, не беда. А мне, ежели вспомнит летчика, пусть оттуда с чужбины письмишко пришлет. За так не отдам.
– Какое письмишко?
– А какое-нибудь. Все равно. Пусть черканет. Сколько стоит, ежели в сухом виде, я тут прикинул, может, в ихние гваделупские аптеки поставлять буду. Через границу. А что? Ежели не врет, что деньги немалые, вот тебе и по-ихнему бизнес. Правильно говорю? Чего мне. Сыновей запрягу, мы тут все овраги обкосим, этой травы кругом прорва, бери, не хочу. Сушку соорудим. Порубим помельче и запакуем. Пусть только эта Лупа платит, а мы уж не подкачаем.
– Озолотитесь, Алексей Никанорыч.
– Да ну, – засмущался Батариков, гордый тем, что так ловко новое дельце обмозговал.
– Не боитесь богачом стать?
– Богатым не бедным. Это проще.
– А мне кажется, – беззлобно подзуживала Елена, – вы опасность недооцениваете. Вот обменяете «козла» своего на «мерседес», за вами охотиться начнут.
– «Ниву» хотя бы, – размечтался Батариков. – Уж сколько лет накопить стараюсь, да ни хрена не выходит.
– Ну, теперь сокровенные ваши желания сбудутся.
Батариков тяжко вздохнул:
– Скорей бы.
Елена почувствовала, что застоялась. Как ни забавно ей было слушать навязчивого соседа, страдающего без опохмелки, однако пора и честь знать.
– У меня сильное подозрение, Алексей Никанорыч, – она ему с хитрецой говорит, – друг ваш закадычный сутки проспит. Так и уедет, не увидитесь.
– Эхма, – испугался Батариков.
– Вполне вероятно.
– И что же мне, горемычному, делать?
– Если вас вид его не смутит, я бы советовала растолкать. Чем черт не шутит, может, вам и удастся. Мы не смогли. Сами ему обо всем расскажете, тем более у вас такое важное деловое предложение.
– Ой, Елена, – обрадовался Батариков, – бесценная наша, как вы душу мою разглядели и сумели понять, поражаюсь даже. Я бы зараз. Он что, до сих пор без порток? Простите за грубое выражение. Он обнаженный?
– Естественно. Как сбежал от вас в чем мать родила, так и лежит, загорает.
Батариков резко в лице изменился. Он вдруг ясно увидел, как дипломат, во мгле ковыляя, по деревне на рассвете шел.
– А не знаете, случаем, – осторожно спросил, – видел его кто из нашенских или, может, все же проскочил?
– Понятия не имею. А вы? Где были вы в столь ответственное время?
– Ну, я. Известно, в отключке. Неужели, если б к тому времени хоть маленько соображал, в непотребном виде его по деревне пустил?
– Нет, так плохо я о вас не думаю.
– Эх, ославят теперь.
– Неизвестно.
– Деревня приглядчивая, милая, от них не схоронишься. Что вы! У них мышь не прошмыгнет, а тут, можно сказать, прямо под окнами на прогулке неизвестный доселе дьявол жопастый. Слон голый.
– И все-таки заранее я бы не переживала, – Елена с немалым трудом от громкого смеха удерживалась. – Идите, Алексей Никанорыч. Идите к другу, он ждет.
– Чуткая вы. Прямо расстаться с вами невмоготу.
– Вижу.
– Мужу вашему, бородатому, вот уж кому подвезло.
– Не ценит.
– Полно. Ни за что не поверю.
Елена, чувствуя, что сам он еще долго с места не сдвинется, взяла Батарикова ласково под локотки и в дом насильно направила.
А сама наконец с облегчением на клумбах цветами занялась, загадав, что вечером, когда спать лягут, непременно писателю всю эту историю передаст, про пожар и сгоревшие исподние вещи и про то, как их пьяный дед непотребно зарю встречал, – а уж писатель потом нашего Батарикова пропесочит. Уж он его выведет с сатирой и юмором, чтоб деревня прочла. Урок ему будет заслуженный. Ведь он мне, срамник этакий, плиту газовую задолжал, почти новую. Брал на время, сгноил и до сей поры ни деньгами не возвращает, ни такую же на замену не отдает. Все сулит на обмен какую-нибудь пакость подсунуть.
Меж тем храп в доме пресекся. Затем в тишине что-то грохнуло. Шмяк. Как тело с высоты упало. И сейчас же голос Батарикова стены пронзил. Вой нечеловеческий: «Аа-аа!» – длинный, гулкий, душу выворачивающий.
Елена бросилась на выручку в дом. Однако писатель, который все это время подросток-терн вырубал, желая для внука полянку сделать, ее задержал:
– Оставь, Лен. Не ходи.
– Да они дом развалят!
– Заново соберем. Не ходи.
– А стон? Крик?
– Ничего. Это наш Василий неповоротливый виноват. Наверняка руку сломанную Алексею Никанорычу придавил.
– И тебе не жалко?
– Не то слово. Но все равно не ходи.
– Нервы у тебя.
– Ага. Из нержавейки с аргончиком.
Покамест они разговаривали, Батариков выть перестал. Елена стояла в ожидании, слушала, не будет ли чего хуже. Из дома теперь доносилась возня. Недовольный голос Мироныча долетал. Что-то опять упало, но теперь по звуку похоже – на оброненный стул. Шаги, топот. Дверь об стенку шмякнулась.
И вот на крыльце объявились. Оба сразу, в обнимку. Тучный дипломат, заметно опухший, в женском халате, сквозь который попередку гладкое круглое пузо просвечивало, а под мышкой у него побитая голова Батарикова торчала – он помятого спросонок Мироныча как бы по-дружески нес. Лица шкодливые, дерзкие. У дипломата волосы, как у черта, всклокочены.
– Остаюсь, – объявил он.
– Ага, – улыбался Батариков. – Во как.
– Где? – недоумевала Елена. – Что значит – остаюсь? О чем ты, дед?
А Батариков вместо него:
– Все одно скоро при коммунистах жить.
– В узком кругу, на политбюро, мы решили, – дипломат сказал, – довольно, хватит. Пора подумать о том, как прожить по-человечески остаток дней. Идеолог Алеша меня убедил.
– Да что стряслось-то? – допытывалась Елена.
– А то, – посмеивался Батариков. – Догадайся, премудрая? Полюбилась нам деревенская жизнь!
– И что? – все еще не понимала Елена. – Нам она тоже по вкусу.
– Прощай, заграница, навеки! – Батариков ликовал. – Да здравствует дружба, не приведи Господь! Съезжает он. Россия все ж таки оказалась дороже!
Елена построжела лицом.
– Не дури, Василий.
– Я к другу.
– Ага, – поддакнул Батариков. – Ко мне на постой. Жить.
– Спятили.
– А пусть, Лен, – писатель издали крикнул. – Пусть попробует, он давно мечтал в глубинке пожить. Не мешай. Узнает, наконец, почем на родине фунт лиха.
– Ничего себе! Вы в своем уме, мужики? – не соглашалась Елена. – Как это пусть? Я же за него, бессовестного, поручилась. Слово дала. Обещала жене его, дочери вернуть в целости и сохранности.
– Не пропадет, – настаивал писатель. – У Алексея Никанорыча как в банке. Верно я говорю?
– Нет, не верно, – сурово ответил Батариков. – У меня понадежнее будет.
– Слышала, Лен?
– Вот я корова.
И ослушники, чуть не упав, ступили на землю с крыльца. Писателю, одобрявшему их поступок, на прощанье дружески помахали. Поклон отвесили природе окружающей. Загрустившей Елене. Посмеялись над неровной борцовской стойкой своей и отправились в обнимку через дорогу. К Батарикову в дом, как на политбюро решили.
Дипломат шагал вперевалку, нетвердо, живот свой приметный гордо нес навстречу жизни неизведанной и здоровью. К слову сказать, среди русских исконно, я другого не встречал обитателя, который бы так не стеснялся быть патриотом открыто, как этот залетный толстяк. Придавив щуплого друга, он с хрипотцой, заметно подсевшим после шумного сна голосом, на всю деревню без стеснения провозглашал:
– Россия моя ненаглядная. Жена и сестра. Здравствуй, Родина милая, наконец. Хватит мыкаться на старости лет черт знает где на чужбине. Воздухом твоим задышу. Клянусь, с этого часа с тобой неразлучен буду вовек. Эх, едрена мать! Покой-то какой! Воля какая! Свобода, брат мой, Алеша! Красота-аа!
А Батариков, кивая и соглашаясь, нес его, согнувшись впогибель, и с запыхом на радостях пел:
– Светит нам родимая звезда, летчики оторваны от дома…
«Дружба Народов», № 12 за 1999 г.