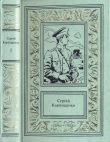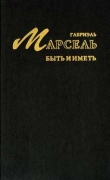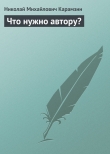Текст книги "Полевой дневник"
Автор книги: Геннадий Денисов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 3 страниц)
5
Ещё вернёшься ты в родные горы,
Ещё заваришь дымный котелок,
В кругу друзей ещё продолжишь споры
О том, что сделал, а чего не смог.
В. Сухоруков
Карабин был 1943-го года выпуска. Видимо, во время Великой Отечественной войны, именно с этого года наша армия начала массово снабжаться автоматическим оружием, а карабины отправлялись в резерв, куда-нибудь на армейские склады. Потом многие годы он пролежал на хранении в смазке, а теперь уже изрядно потрепанный, лежит у меня на коленях. Я сижу на нарах у себя в «балке», на базе полевой геологической партии, в трехстах километрах от ближайшего населенного пункта и рассматриваю свое «новое» штатное оружие. Конечно, я далеко не первый хозяин этого «ствола». Обшарпанный приклад, ствол с многочисленными царапинами, слегка подогнутая «мушка» прицела свидетельствуют о том, что он уже не первый год ходит «в поле». Предыдущий «хозяин» этого кавалерийского карабина, геолог с многолетним стажем, уволился и уехал «на материк» зимой, а я даже не успел расспросить его о достоинствах и недостатках оружия. Но, судя по уважительным рассказам коллег, мужик числился в категории «добытчиков».
В полевой жизни от оружия иногда очень многое зависит. Хотя, в основном, это моральный фактор, мол, вооружен, значит защищен. Увы, на практике чаще бывает наоборот. От неосторожного обращения с оружием одни проблемы. Особенно, это касается мелкого оружия: револьверов, пистолетов. И, особенно, когда оно находится в женских руках. Но, не будем о грустном. Мне-то карабин нужен не только для самообороны. Поэтому, пойду знакомиться с ним, то есть – пристреливать.
На пристрелку оружия в начале сезона по нормам, неизвестно когда и кем выдуманным, положено три патрона. При дальнейшем использовании оружия для защиты жизни (требования техники безопасности) и секретных материалов (требования спецчасти) стрелять не рекомендуется. Во всяком случае, отчитываться потом придется за каждый стреляный патрон. Зато всю зиму женщины, работающие в спецчасти, читают в объяснительных умопомрачительные истории о том, как геологам в поле приходится отбиваться от многочисленных стад медведей и как часто они ищут своих потерявшихся товарищей, стреляя в воздух. И это все ради того, чтобы списать десяток патронов, потраченных за сезон на охоту. Правда, проблема упрощается, если есть хотя бы одна лицензия на отстрел оленя или лося на «котловое питание». Тогда получается, что вся партия, загнавши бедного зверя в угол, расстреливала его часа полтора. Но, несмотря на все эти глупости со списанием, у всякого нормального геолога всегда есть заначка из одного-двух десятков «левых» патронов. Вот и я, обзаведшись в этом году карабином, поспрошал у товарищей, и насобирал пару подсумков патронов калибром 7,62, естественно с отдачей, ну, или «мясом угостишь».
Я зашел на продовольственный склад, вытряхнул остатки чая из фанерного ящика, представляющего собой куб с длиной грани 80 сантиметров, и отнес его на речную косу перед полевой базой. На одной из сторон ящика угольком нарисовал прицельный круг с черным пятаком, размером с чайное блюдце, посредине. Отсчитал от цели триста шагов. Притащил бревно валежника для упора при стрельбе. Положил на бревно, рядом с собой, полевой бинокль, чтобы не бегать после каждого выстрела к ящику, проверяя, куда попал – в круг либо в «молоко». Можно начинать.
Первые три выстрела уже насторожили: пристально рассматривая ящик в бинокль, я не смог найти в нем пробоин. Решив, что дырочки от пули могут быть очень маленькие, пошел изучать мишень вплотную. Увы! Пришлось сокращать расстояние до цели – на десять шагов, потом еще на десять шагов… Первая пуля попала в ящик, когда до него осталось семнадцать шагов! Я был обескуражен. Потом, посидев на бревне, покурив и успокоившись, понял: брать нужно мастерством и умением. С трехсот метров и дурак кого хочешь грохнет, а вот попробуй на семнадцать метров к зверю подобраться! В конце-концов, это же охота, а не расстрел.
6
Ночи у костра, сырость в сапогах,
Летний снегопад – льдинкой на зубах.
Мы уйдем домой – в утренней росе,
Может быть поздней, может быть не все.
Памятью о нас остается здесь
Пепел от костра на речной косе…
В. Ольховик
Место для стоянки мы выбрали посреди широкой безлесной долины в верховьях речки Нолучи. Здесь, после плавной излучины с узкими, серповидными галечными косами, русло делало крутой поворот, и, подмывая борт террасы, вода закручивалась в омуте. Сама терраса – сухая и ровная, поросшая невысокой жесткой травой, была идеальным местом для стоянки. Водитель поставил вездеход так, чтобы удобнее было его разгружать: бортом вровень с бровкой террасы. Ребята шустро выбросили необходимый бутор из кузова и занялись каждый своим делом – кто ставил палатку, кто прилаживал таган. Я взял ведра и пошел к речке, чтобы набрать воды и поставить чай да варево на обед.
Полевой сезон еще только начинается, коллектив нашего отряда в таком составе собрался впервые и, хотя люди еще не «притерлись» друг к другу, пока все идет нормально, дружно да весело, с шутками да прибаутками. Самый молодой – Серега, в этом году окончил школу, родители уговорили начальника взять его в поле, чтобы летом без толку по поселку не болтался и не влип в какое нехорошее дело. Славный парень, работящий, безотказный, легок на подъем, но матершильник. Будем отучать. Самый старший в партии – Эдуард Иванович, доктор геолого-минералогических наук из Питерского института – кладезь мудрости и оптимизма, мастер на все руки, удивительный рассказчик. Кроме десятка монографий да сотен статей по геологии, умудрился издать еще и несколько поэтических сборников. При этом помнит свои стихи и на любом застолье удивительно к месту их декламирует. Но, подвержен…Ладно, об этом не будем, в поле «сухой закон». Есть у нас и москвич – научный сотрудник, кандидат геолого-минералогических наук. Но и москвичом, и «научником» он стал совсем недавно, а до этого Виктор лет двадцать отпахал на Кавказе геологом, так что новичком в нашем деле его никак не назовешь. Еще один геолог, Николай Кириллович – наш, доморощенный, хандыгский. За плечами тоже более двадцати полевых сезонов: Южное Верхоянье, Сеттэ-Дабан, Сунтар, теперь вот на границе Западного и Восточного Верхоянья – картосоставительские работы. Водителя нашего вездехода тоже зовут Витя. Единственный из нас действительно «местный кадр» – эвен по национальности, он родился и вырос в поселке Тополиное – центре оленеводческого хозяйства. После службы в армии Виктор приехал домой и устроился работать вездеходчиком. Ездил по тайге, доставляя в кочующие за стадами оленеводческие бригады продукты, запчасти, топливо. Умелый, шустрый парень приглянулся руководству – пересадили на директорский вездеход. Но, здесь не заладилось – властный директор любил беспрекословное подчинение, а вольная жизнь в тайге приучила Виктора думать и делать не так как кому-то хочется, а как необходимо в данных условиях. Короче, «нашла коса на камень». Зато, у нас в коллективе теперь есть опытный таежник, хорошо знающий технику специалист. Студенты в составе партии появились буквально перед самым вылетом в поле. Оба высокие и худые, они много ели и много спали. Преддипломники из киевского техникума приехали посмотреть Якутию, «хлебнуть романтики». Ну что же, это не плохо. Самое главное, что не лентяи – чего не попросишь сделать, аж бегом.
Прозрачные струи воды играли солнечными лучами, расцвечивая дно ручья замысловатыми узорами. Взбитая на перекате пена белыми кружевами заплеталась на зеркальной поверхности омута. Осторожно, стараясь чтобы копоть с внешней стороны не попала в ведро, я зачерпнул воды и пошел, было, обратно к костру, но… Краем глаза что-то уловил. Имея, мягко говоря, не очень острое зрение, тем не менее, малейшее движение даже довольно далекого объекта я фиксировал мгновенно. Особенно, если этот объект был рогатым! Находился олень метрах в трехстах вверх по ручью и, похоже, спокойно пощипывал травку. Слабый ветерок тянул от оленя вниз и нас он еще не унюхал, а со зрением, видимо, проблем у рогатого не меньше чем у меня. Я присел, спрятавшись за край террасы, и на «полусогнутых» – к стоянке. Мой сдавленный полукрик-полушепот: «Олень!!!» сразу прервал череду обычных занятий. Буквально через две минуты мы приступили к операции по реализации лицензии на котловое питание – добыче мяса. Витя-москвич с карабином наперевес помчался вдоль склона долины отрезать оленю пути отступления на правый борт. Кириллыч с двустволкой пополз вдоль бровки террасы навстречу зверю, а я, где ползком, где на четвереньках, прячась за неровностями рельефа двинулся к противоположному склону. Даже миролюбивый Эдуард Иванович, поддавшись общему ажиотажу, вооружился револьвером типа «Наган» выпуска 1913 года и остался в обороне. Понятное дело, олень не мог не заметить столь масштабных перемещений. Он поднял голову, внимательно осмотрел разворачивающуюся перед ним боевую операцию и рванул прямехонько к нашей стоянке. Времени на размышление не было, я понял, что еще несколько секунд и нам придется стрелять друг в друга, если олень и стрелки окажутся на одной линии. Слава Богу, это поняли все охотники и все три выстрела прозвучали почти одновременно. Дело было сделано и радостные вопли прокатились по долине, распугивая оставшееся в живых зверье.
Разделать тушу, засолить мякоть, спрятать кости от вездесущих мух, растянуть шкуру для просушки – на это ушел весь остаток дня. Ничего не должно пропасть или испортиться, иначе смерть зверя – это грех охотника. Суета закончилась, когда солнце уже катилось по пологим гребням невысоких нолучинских водоразделов. Большой костер, жарко обнимая бока ведер, слизывал выплескивающееся из-под крышек запашистое мясное варево. На тонких тальниковых прутиках прел над чуть розоватыми углями шашлык из сердца, почек, печени. От запахов можно было сойти с ума. Начинался пир живота.
Ели долго и с удовольствием. Рассказывали байки об охоте и рыбалке или просто случаи из полевой жизни, хохотали до коликов в животе. У каждого из геологов за плечами годы и годы полевых воспоминаний. Студенты слушали все с широко раскрытыми глазами и не знали, чему верить, чему нет, но при этом не забывали жевать. Солнце закатилось за водораздел, и приполярные сумерки размыли очертания долины. На бледно-голубом ночном небе робко засветились редкие звезды. В костре постреливали лиственничные ветки, и искры, выпрыгивая из жара костра, пытались долететь до звезд, но таяли и растворялись в дрожащем мареве светлой летней ночи. От переизбытка позитивных чувств, опьяневшие от вкусной и обильной еды мы плясали вокруг костра, обнявшись за плечи, что-то пели на русском, якутском, эвенском, татарском, украинском языках. То был танец дружбы народов. Дружбы, в самом простом человеческом понимании этого слова!
7
Целый день солнце в небе пылает,
Всем нам дарит для жизни тепло…
С. Прачев
Солнце, едва закатившись за вершины водоразделов и подрумянив на закате облака, спешит вновь влезть на свой царский трон в зените. Оно, как и всякий великий владыка, щедро до беспощадности. Уже с утра знойное марево колышется над горами. Все живое – деревья, цветы, трава, зверье, застыв от удовольствия, нежатся в царстве утреннего тепла и света. С жужжанием воздух пронзают пчелы, упорный шмель что-то рассказывает на ушко цветку шиповника. Разноголосье птиц наполняет террасовые перелески. В тени густой лиственницы звенит комариный рой. Волны ручья облизывают теплую гальку кос.
Ближе к полудню жара загоняет живность в тень или в прохладный ручей. Олень полностью погрузился в омут: над поверхностью воды только голова с кустистыми рогами. Притих птичий гомон – в вышине грациозно парит хищник, уверенный в своей силе и власти, ведь выше него – только Солнце. Каменистые склоны пышут жаром. Белый ягель, подставив палящим лучам ломкие, сухие веточки, прикрыл своим телом льдистые недра. Он посмел ограничить власть Солнца, храня холод Земли. А в остальном, лето полноправно властвует над Верхояньем, щедро обогревая мир гор.
8
На солнце днями жаримся,
И мокнем под дождем,
Мы терпим все лишения,
Но верою живем,
Что где-нибудь, когда-нибудь
Чего-нибудь найдем.
В. Шабашев
Семь утра. Солнце, практически не заходящее за горизонт в июле, нещадно плавит Верхоянье. Это чувствуется даже через брезент палатки. Одуревший от жары, я выползаю из спальника и бреду к ручью. Бросаю взгляд на студенческую палатку, там никаких шевелений. Быстро стягиваю с себя спортивные брюки и трусы, и просто падаю в небольшой омут на повороте ручья. У-у-у. Водичка в горном ручейке, не прогревающаяся даже в июле более чем до 14 градусов, выталкивает меня обратно даже быстрее, чем я в нее погрузился. Вот теперь жизненный тонус пришел в норму, можно жить и творить на благо… Кого? Трудно сказать, но это потом, а сейчас… Пинок по растяжке палатки – Серега, подъем, ставь чайник. «Солнце встало выше ели, а бичи еще не ели» – утренний пароль для побудки поваренка. Сережа, такой же одуревший от палаточной жары, как и я – несколько минут назад, выползает из шестиместки и босиком шлепает в кусты.
– Шустрее, шустрее – у нас подходы сегодня по десять км, до полуночи будем шарахаться по твоей воле.
Услышав обычный утренний диалог, из-под полога палатки появляется Сергей Леонидович. Почесав бороду, смотрит в небо:
– Ну, блин, погодка, миллион на миллион, сегодня пахота по полной программе. Согласен? – и смотрит на меня, как будто я могу сказать, что не согласен.
– Давай карту неси, собьемся, а то сегодня опять притащишься в два часа ночи. Ночной съемщик.
Непонятно, говорит он это, осуждая мои длинные маршруты или поощряя. Доставая карту из пикетажной планшетки, пытаюсь возражать:
– Сам же рисуешь маршруты от «моря до моря», следи за карандашом, когда по карте водишь!
Леонидыч невозмутим:
– А ты со Светкой меньше трепись, будешь вовремя приходить.
Светка – это мой маршрутный рабочий-радиометрист, студентка-преддипломница из Московского геологоразведочного техникума. Легка на помине, появляется из палатки. Копна всклокоченных рыжих волос практически закрывает опухшее от комариных укусов, заспанное лицо.
– Сергей Леонидович, а может сегодня того…? – но, видя непреклонное лицо начальника, не договаривает. Берет пакетик со своими гигиеническими «причандалами» и топает к ручью на водные процедуры, по пути подхватывая не мытый с вечера котелок с остатками пригоревшей каши. Чистюля, если бы не она, посуда была бы просто грязная. Тут на поваренка даже грозного Леонидыча не хватает. Быстренько завтракаем. Жара уже не шуточная, даже в тени разлапистых листвяшек мозги начинают «плавиться». С грустью смотрю на крутые осыпные склоны водораздела, над которыми дрожит знойное марево. Ну и денек предстоит, кошмар и ужас, но отступать некуда. Отдыхать будем под дождиком. С трудом отгоняю от себя сладостное воспоминание о шелесте дождевых капель по крыше палатки.
Так: ремешок планшетки на левое плечо, рюкзачные лямки на оба плеча, карабин – на правое. Чехол компаса на ремне на левом боку, нож в ножнах на правом, подсумок с карабинными патронами на…, ну, он все равно туда сползет.
– Свет, пожрать побольше возьми, сегодня шеф сказал, пашем «по полной», слышала?.
Света обречено запихивает в рюкзак продукты, рассыпает по жестяным баночкам из-под кофе чайную заварку, сахар, соль.
– Тушенки сколько брать, две или три?
– Одну, рыбачить на обеде будем, нечего железо по тайге таскать!
Девушка улыбается в первый раз за утро. Значит, обед будет на ручье и можно будет смыть с себя липкий и едкий пот после «прогулки» по раскаленному водоразделу, одному из тысяч, слагающих Адычанское плоскогорье. Ну, плоскогорье-то оно чисто в географическом понятии, а когда заползаешь на него на четвереньках, как-то забываешь, что оно «плоско», чувствуешь только «горье».
– Светка! Ну, чего возишься, радиометр поверила?
В ответ – бодрое:
– Восемнадцать микрорентген в час.
– Ну, молодца, тогда вперед!
9
И опять затопляла мир
в адской пляске кружилась, вертелась
Непроглядная вглубь и ширь
Бесконечная мрачная серость.
А. Горбунов
О капризах погоды в горах сказано-пересказано. Верхоянье не является исключением в этом параде метеонеожиданностей. Особенно непредсказуема погода на стыке летних месяцев. В течение двух-трех дней жара сменяется дождями, переходящими в снег и снова – к пеклу. Иногда этот цикл сжимается по времени до суток, а иногда и до нескольких часов. От «истерик» погоды в маршруте спасают свитер, пара запасных портянок и кусок полиэтиленовой пленки, которые всегда находятся в рюкзаке, вне зависимости от степени облачности и температуры.
Самое неприятное, когда непогодь застает тебя на водоразделе. Как бы не кутался в полиэтилен, ветер все равно раздергает нехитрую защиту, и будешь ты сидеть мокрый, продрогший и злой, проклиная все на свете, пока не спустишься в долину. А если облако хорошо зацепилось за вершины, то еще и спуститься – проблема. Тут надежда только на компас и умение ориентироваться в этом «молоке» по карте, вглядываясь сквозь разрывы тумана в очертания окружающих гор. Внизу же, в долине, даже под дождем, всегда можно устроиться более или менее комфортно. И под самой промокшей лиственницей не составит большого труда найти несколько тонких, сухих веточек, настрогать из них «петушков» и разжечь огонь. Ветки потолще, даже изрядно промокшие, подхватят тонкий язычок пламени и костерок, сначала дымя и потрескивая от влаги, разгорится, радуя тело теплом, а душу – уютом. Теперь можно поудобнее устроиться на рюкзаке, даже и мокром – прогреется от того места, которым сидишь, отвернуть голенища болотных сапог, укрыться пленкой и камералить, камералить, камералить. Через какое-то время строчки в пикетажке начинают сливаться в единую картину виденных за маршрут обнажений коренных пород и… просыпаешься, уткнувшись носом в колени. Капли дождя монотонно шуршат по пленке и «камеральная» обработка материалов продолжается до полной победы над непогодой. Если же непогода затягивается безобразно долго и смысла пережидать ее нет, то сбрасываешь с себя полиэтиленовую защиту, запихиваешь в рюкзак сырые пожитки и «шлепаешь» к стоянке, не обращая внимания на струйки влаги, змеящиеся по шее, спине и т. д.
Но, и пережидание непогоды в долине может иметь свои негативные стороны. Опасность небольших долин заключается в непредсказуемости поведения водотока. Иной раз, ручей долго, до суток, может копить в себе ярость горного потока, а уж потом выплеснуть ее с ревом, стоном и диким воем. Иногда же, вода подымается мгновенно, практически с первыми каплями дождя. В таком случае ожидать прекращения непогоды не стоит, «ноги в руки» и двигай к стоянке, чем быстрее, тем лучше, при этом, не забывая прислушиваться: не грохочет ли позади чего? Самый страшный вариант – это если где-то, вверх по долине, водоток чем-то подпрудило, и он до поры до времени не может вырваться из ловушки. Копит, копит свой смертельный потенциал, а потом как рванет! Грязь, стволы деревьев, камни – все перемешано в несущемся со скоростью курьерского поезда потоке. Тут уж выход только один – убегай куда повыше, на террасу ли, на склон, на дерево залазь, но только очень быстро. Иначе – беда!
Промокший и уставший приходишь на стоянку, а в палатке тепло и сухо. Стаскиваешь с себя мокрую робу, пристраиваешь ее над печуркой среди уже начинающей подсыхать одежды товарищей. Из сапог вытаскиваешь стельки, их за печку, на дрова – завтра разберемся, где чьи. Переодевшись в сухую одежку, за кружкой горячего чая со сгущенкой, можно и новости прошедшего дня обсудить. Старенький VEF-212, лежащий на спальнике начальника партии, в углу палатки, сквозь треск радиопомех расскажет о событиях происходящих в далеком отсюда «цивилизованном» мире. А вот и сигналы точного времени – пора на связь. Антенна – кусок проволоки, по длине кратный длине волны, на которой работает наша радиостанция «Карат» – заброшена на лиственницу, стоящую за палаткой. Вообще-то, антенна предназначена для рации, но почему-то постоянно перекочевывает на радиоприемник, существенно улучшая качество его приема. Поэтому, включив рацию и услышав лишь леденящий душу вой эфира, Сергей Леонидович, тихонько матерясь, скручивает фишку антенны с радиоприемника и прикручивает ее к рации. И сразу же, эфир взрывается воплями «Топазов», «Галенитов», «Альбитов», «Иголок», «Шеелитов» и иных позывных полевых радиостанций. Но нас, похоже, никто не слышит, хотя голос Леонидыча разносится и без радиоусиления верст на пять. Противовес – такой же кусок проволоки «звонковки» как и антенна – должен быть направлен в сторону потребителя, т. е. того, с кем ты пытаешься поговорить. Он натягивается в метре над землей и мешает всем передвигаться по территории стоянки. Поэтому, всегда найдется умник, который отвяжет конец противовеса от куста или дерева и бросит на землю. Это резко ухудшает качество связи, особенно на передачу. Понимая в чем дело, начальник, громко выражая эмоции междометиями, заменяющими маты, выскакивает под дождь – натягивать противовес. Ну вот, теперь двусторонняя связь с внешним миром установлена. Общаясь с соседями, узнаем новости полевого «геологического мира». Погоды нет, облачностью закрыт весь северо-восток страны. Геохимикам нужен борт для переброски на новый участок работ, у Щербакова «крякнул» вездеход, спрашивает, нет ли у кого правого балансира заднего натяжного катка. Все как всегда. Жизнь идет. Похоже, завтра опять погоды не будет. Ну и, слава Богу, отоспимся. Всем до завтра, «Альбит седьмой» связь закончил. А по брезентовой крыше палатки шуршат капли дождя.