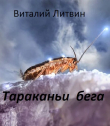Текст книги "Дело д'Артеза"
Автор книги: Ганс Носсак
Жанр:
Прочая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 18 страниц)
– Актерской выучки нет, вот меры и не знает.
Затруднение господина Глачке заключалось, таким образом, в том, что перед ним сидел не какой-то подозрительный субъект, из которого ему, опытному следователю, надлежало выудить побольше сведений, а широкоизвестный образованный человек, в чьей жизни ничего не изменишь и ничего сомнительного не раскопаешь. Дело еще усложнялось в высшей степени туманным прошлым д'Артеза. Для поколения, к которому он принадлежал, это не было чем-то исключительным уже из-за тех исторических событий, какие выпали на его долю; у д'Артеза, однако, все осложнялось тем, что он уже однажды вызывал подозрения, да, сразу после войны, что явствовало из документов. Причем не у немецкой стороны, а у американской тайной полиции в Берлине. Обстоятельство, побудившее ее в конце пятидесятых годов начать расследование и даже произвести обыск у д'Артеза, так и осталось неизвестным. Американские власти не уведомили о своих действиях соответствующие немецкие инстанции, как было принято, поскольку им зачастую требовалась поддержка немецких властей. Судя по этому, можно с уверенностью сказать, что подозрения не были связаны с Восточным Берлином или тому подобными актуальными в ту пору вопросами – в таком случае непременно поставили бы в известность немецкую службу безопасности. Дело, стало быть, касалось единственно американцев, и они держали его в тайне даже от властей дружественных стран. Впрочем, сам д'Артез во время обыска находился не в Берлине, а в Париже, где был занят на съемках для французского телевидения.
Тем не менее еще и теперь, по прошествии стольких лет, сохранялся доклад о результатах тогдашнего обыска, фотокопия его имелась и во франкфуртских инстанциях. Доклад был не слишком пространный и написан по-английски. Господин Глачке досконально его изучил и даже передал для прочтения протоколисту, а затем спросил:
– Что вы об этом думаете? Ничего не бросилось в глаза?
Естественно, что ко всякому, у кого однажды производился обыск, относятся с предубеждением, и если обыск не дал результатов, то скорее склонны объявить подозреваемого продувной бестией, чем поверить в его невиновность. В докладе и правда кое-что бросалось в глаза. Несмотря на канцелярский язык, каким принято составлять подобные документы, ощущалось, что квартира д'Артеза произвела на писавшего сильнейшее впечатление. Казалось, она невольно укрепила его подозрения; то же самое ощутил и господин Глачке, изучив документ.
Квартира д'Артеза находилась на Карлсруэрштрассе. Д'Артез снимал там и снимает по сию пору – две меблированные комнаты. Хозяйка квартиры, госпожа фон Коннсдорф, дама преклонного возраста, глубоко почитала своего долголетнего жильца, он, по-видимому, был для нее воплощением человека старого доброго времени. Не было случая, чтобы он не поинтересовался ее самочувствием и не посидел у нее вечером четверть часика, что стало чуть ли не ритуалом.
– Понять не могу, для чего это папе, – говорила Эдит Наземан протоколисту, – ему же с ней до ужаса скучно. Мне, когда я навещала папу в Берлине, тоже приходилось пить чай у старой дамы. Она тут же извлекала откуда-то альбом в толстенном кожаном переплете и показывала нам старые фотографии какого-то поместья не то в Померании, не то в Западной Пруссии, где она росла. Папа притворялся, будто они его очень занимают, хотя, надо думать, он все эти фотографии тысячу раз видел. Он интересовался даже тканями, из каких сшиты платья девиц, изображенных на карточках, и лентами в их волосах. И старая дама принималась до тонкости-все описывать. Таких материй теперь и не увидишь, дитя мое, растолковывала она мне. Я до смерти боюсь, что у нее в каком-нибудь ящике или ларе еще хранятся заветные лоскутки и что она пошлет свою дряхлую служанку на чердак разыскать эту рухлядь. Мари, судя по произношению, родом из той же деревни, что и хозяйка, но несносная, представьте, брюзга. Если хозяйка спрашивает: "Мари, а помнишь?.." – та резко обрывает ее: "Да что уж там... все осталось у русских". На беду у госпожи Коннсдорф не один альбом, и она не ленится показывать все подряд. Старая дама в былое время интересовалась искусством или людьми искусства, которых принимала у себя: женщины с затейливыми прическами, мужчины в высоких воротничках. Сплошь знаменитости, их имен ни одна душа теперь не помнит. Поэты, художники, артисты, и, разумеется, все фотографии снабжены автографами: "Моей незабвенной и глубокочтимой Эллен". И подпись, разобрать которую невозможно. Мне это всякий раз приходит на память, когда в ресторанном меню я читаю: "Груша Эллен". Папа, держа в руках такую фотографию, делал вид, будто со всеми этими людьми был хорошо знаком. Но как-то Мари, разливая чай и заглянув ему через плечо, когда он рассматривал фотографию полногрудой дамы, презрительно фыркнула. У нее, у этой, был роман с тем-то и тем-то, заметила она. Старая дама бросила на меня испуганный взгляд и коснулась пальцами моей руки. То была великая любовь, дитя мое. В наши дни такого чувства и не встретишь, вздохнула она.
К д'Артезу все это имело отношение лишь постольку, поскольку его вполне устраивала эта квартира и заведенный в ней порядок, и ему в голову не приходило менять ее. Хотя Берлин и был разрушен бомбежками, но многие дома на Карлсруэрштрассе уцелели, однако по недостатку средств почти не подновлялись. В таких столицах, как Париж и Лондон, не разрушенных бомбежками, старомодная архитектура представляет лицо города, ее воспринимаешь как нечто само собой разумеющееся. У нас же все сохранившееся производит впечатление нарочитости. Каждый раз, попадая на такие улицы, чувствуешь себя не в своей тарелке. Тягостное ощущение усиливается, когда внутри этих домов наталкиваешься на бездумную модернизацию, на современные светильники, не подходящие к помпезным лестницам, или центральное отопление, проведенное вместо колоссальных изразцовых печей, которые, несомненно, когда-то здесь стояли.
Д'Артез въехал в эту квартиру уже в конце лета 1945 года, то есть тотчас же после освобождения из концентрационного лагеря и недолгого пребывания в клинике. Возможно даже, что квартиру ему предоставили как жертве нацизма, о чем говорила соответствующая пометка. Д'Артез поселился в парадных покоях бывшей восьмикомнатной квартиры, занимавшей целый этаж, то есть в комнатах, служивших гостиной и будуаром. В докладе об обыске значилось: "Жилая комната размером примерно 9x5 м. Высота более 3 м, лепной потолок. Три высоких окна, дверь, выходящая на узкий балкон. Салонная мебель в стиле Людовика XV, бледно-розовый потертый ковер в том же стиле. Большая люстра с хрустальными подвесками. Картины Дефреггера, Каульбаха, Тома и пр." Откуда американский агент, составлявший доклад, имел понятие о стилях, объяснить трудно. Должно быть, это был эмигрант, привлеченный для этой цели за знание немецкого.
Протоколисту удалось представить себе эту комнату только по иллюстрации, помещенной в монографии, уже неоднократно упоминавшейся. Изысканное, надо сказать, было фото, поскольку оно изображало только высокое – от пола и едва ли не до потолка – узкое зеркало, окаймленное рамой в стиле барокко. В нем как отражение виден был д'Артез в своем обычном строгом костюме, он завязывает галстук, и позади него один-два предмета из описанной выше мебели. Зеркало, может статься, и в самом деле старинное – по всей его поверхности расплылись туманные черные пятна, а в одном углу стекло даже дало трещину. Все это придавало фотографии очарование неопределенности и усиливало впечатление от размеров комнаты.
Но об этой комнате имелись также отзывы Ламбера и Эдит Наземан. Ламбер, правда, только плечами пожал:
– Ну и что? Не все ли равно, какая у человека комната?
Зато Эдит Наземан не пожалела сил, защищая отца.
– Да не желает он владеть никакой собственностью, – заявила она. Большая комната и это зеркало понадобились папе, чтобы репетировать свои пантомимы. Я, во всяком случае, так полагаю, хотя сама при этом не присутствовала и от вопросов воздержалась. Разумеется, ему нужно репетировать, без этого не обходится ни один артист, – добавила она недовольно.
Впрочем, она не скрывала, что неприютность комнаты производит на нее неприятное впечатление.
– И мебель какая-то ненастоящая. Так называемая "стильная", бесспорно, очень дорогая в то время, когда ее приобретали. Кресла и кушетка обтянуты желто-зеленой шелковой камкой. И как же неудобно на них сидеть. От резьбы у меня постоянно все локти в синяках были, а как-то я зацепилась за дурацкое медное украшение, и у меня побежал чулок. Папа рассмеялся. Это, говорит, увеличит оборот фирмы "Наней".
Рядом с большой находилась комната поменьше, она служила д'Артезу спальней, и за его счет там был встроен душ с умывальником и прочим. Любой непритязательный номер гостиницы, верно, больше вам скажет, чем обстановка этих комнат.
– В них и воздух-то нежилой, – продолжала Эдит Наземан. – Подойдешь, бывало, по темному коридору, отворишь дверь, и каждый раз хочется воскликнуть: "Ах, извините, я ошиблась дверью!" Но с папой бесполезно об этом говорить. Он сжился с этой обстановкой!
Безликость квартиры озадачила даже агента, составлявшего доклад об обыске, а потому он буквально набросился на единственное живое пятно среди всего этого реквизита – на пеструю книжицу карманного формата в целлофановой обложке, лежавшую край в край на письменном столе, где, кроме того, лежал кожаный бювар с выгравированным гербом, стояла исполинская мраморная чернильница и чудовищная настольная лампа в виде гигантской бронзовой лягушки, держащей вытянутыми длинными лапками с тонкими пальцами бронзовый колпак. Колпак по всей поверхности был отделан зеленоватыми стеклянными овалами, смахивающими на прозрачные кусочки мыла, и в довершение ко всему этому изобилию по низу колпака была прилажена шелковая бахрома, чтобы смягчить свет.
– У папы привычка, проходя мимо лампы, всякий раз щелкать пальцем по колпаку. Раздается слабый надтреснутый звон, – рассказывала Эдит Наземан.
Пестрая книжица еще и потому возбудила особые подозрения американского агента, что это был американский детектив, к тому же на английском языке, а не переведенный. Что сказал бы агент, будь ему известен старый репортаж, хранившийся в виде газетной вырезки в делах немецкой тайной полиции? Д'Артез, оказывается, вообще предпочитал американские детективы.
– Английские пишутся по старозаветным образцам. Таким манером в наши дни никого не убивают, – объявил он репортеру.
В докладе упоминалось даже название романа, оно гласило "Red Harvest" ["Красная жатва" (англ.)]. По поручению господина Глачке, с педантичной добросовестностью изучавшего подобные намеки, протоколисту пришлось навести справки о романе. Продавщица небольшого киоска карманных изданий в Гетевском пассаже заглянула в объемистый справочник и установила, что имя автора романа Дэшиел Хэммет. Ламберу это имя тоже было известно, известен и сам роман, как выяснилось позже, когда протоколист его спросил.
– Знаменитая книга. Андре Жид собирался ее переводить, – ответил он.
Но особенно удивило американского агента, что книжка эта на столе была единственной, а еще более усилила его подозрения закладка на странице 114.
Почему на странице 114? Страницу не раз и не два перечитывали всевозможные эксперты, но так и не нашли объяснения. Беспокоила и сама закладка. Кусок зеленого картона, клочок, оторванный от бирки, какие выдают во всех аэропортах мира. На лицевой стороне жирно выведена цифра 407, а на оборотной можно прочесть известную рекламу автопрокатной фирмы: "Herz is on hand wherever you land" [где бы вы ни приземлились, Герц к Вашим услугам (англ.)]. Обстоятельство это, конечно, расследовали; речь шла о перелете из Темпельхофа в Орли или наоборот, но это ни в коей мере не проливало свет на таинственную закладку, а в особенности на цифру 407. Как связать эту цифру со страницей 114? Почему д'Артез сохранил этот кусочек картона и использовал его как закладку? Не пропуск ли это, выданный какой-то тайной организацией? Некий опознавательный знак? Что и говорить, мимо этих цифр не прошла бы ни одна тайная полиция любого государства, но даже лучшие эксперты по расшифровке кодов не сумели бы разгадать эту загадку.
А ведь все оказалось проще простого: д'Артез, найдя этот обрывок картона в нагрудном кармане пиджака, использовал его как закладку. А тот факт, что на столе валялась всего-навсего одна книжка, Эдит Наземан объяснила еще проще. Отец ее, прочитав карманное издание, тут же отдавал его госпоже фон Коннсдорф. Старая дама бегло говорила по-английски, так как муж ее в свое время был сотрудником посольства в одной из стран английского языка. У нее-то и лежали грудами эти пестрые книжонки обстоятельство, которое агентам при обыске не пришло в голову. Эдит Наземан удивлялась тому, что старая дама читает "подобную чушь". Отцу она, разумеется, находила оправдание:
– Ему это нужно для разрядки.
У нее даже сохранился в памяти рисунок на обложке одной из таких книжек, лежавший на чайном столике госпожи фон Коннсдорф.
– Парень с гангстерской физиономией растянулся в постели. На одну его руку наложена шина, и она забинтована, в другой он держит пистолет. В ногах у него сидит девица в прозрачной ночной рубашке или халатике, она покрывает лаком ногти на ногах. Для этого она одну ногу поставила на край кровати и, естественно, демонстрирует обнаженные ляжки. Я подумала было, что книга непристойная.
В докладе упоминалась еще и комнатная пальма, агент, не пожалев труда, опрокинул горшок или кадку и перерыл землю в надежде найти оружие или документы. Пальма стояла на небольшой эстраде или, точнее говоря, на резной решетке, которая частично огораживала эстраду. Сама же эстрада находилась чуть в стороне, ближе к окну, на снимке в монографии ее не видно. И конечно, на ней стояли кушетка и столик в стиле рококо.
– Я спросила папу, на что были нужны людям подобные эстрады, и он показал мне на что. Папа готов объяснять с неистощимым терпением, когда его о чем-либо о таком спрашивают. Мне пришлось взойти и живописно облокотиться на решетку, а папа стоял внизу и декламировал: "То соловей не жаворонок был..." Я рассмеялась, но лицо у папы оставалось серьезным, я даже смутилась. А еще такая эстрада весьма полезна, чтобы учиться сходить с лестницы и не оступиться или не запутаться в своем длинном шлейфе. Правда, у меня длинного шлейфа в жизни не было.
В спальне и душе ничто как будто не привлекло внимания агента. Само собой разумеется, карманы и швы многочисленных костюмов д'Артеза агент тщательнейшим образом прощупал, таков порядок, в этом на агентов можно положиться. Бачок унитаза и электрический отопительный котел также не были забыты. Лица, производившие обыск, пришли в квартиру под видом монтеров, якобы проверить исправность электропроводки.
Так как никаких бумаг в квартире найдено не было, власти, естественно, задались вопросом, где же д'Артез их хранит, должны же как-никак быть у него полисы, договоры, банковские отчеты, а возможно, и завещание. В квартире ничего такого отыскать не удалось, даже личной переписки, к примеру писем дочери, писавшей отцу по меньшей мере раз в месяц, которой д'Артез так же исправно отвечал. Протоколист слышал как-то от Ламбера, хотя и совсем по другому поводу, что письма, боже упаси, хранить не следует, это ведет только к осложнениям. Был ли д'Артез того же мнения и потому уничтожал всю свою почту, сказать трудно. Что же касается документов, то на этот вопрос нетрудно ответить. У д'Артеза был свой импресарио, хранивший его договоры и деловую переписку, а прочие документы д'Артез сдавал на хранение нотариусу. Американской тайной полиции в ту пору не с руки было предпринимать обыск у доверенных лиц д'Артеза: подобные обыски потребовали бы канительных юридических и дипломатических обоснований, к тому же американцам, видимо, не хотелось привлекать к этому делу внимание. В самой же квартире отыскались только два документа, как раз в упомянутом кожаном бюваре. Надо полагать, выгравированный на нем герб фон Коннедорфов – а что герб принадлежит именно этому семейству, тайная полиция выяснила из книги по геральдике – ввел д'Артеза в искушение набросать эскиз герба для семейства Наземанов или даже для фирмы "Наней". На большом листе он весьма искусно изобразил различные элементы гербов то ли забавы ради, то ли для разрядки. Рамку он скопировал с коннедорфского герба: вверху шлем с султаном, по краям драпировка в виде приподнятого занавеса, а внизу жерла пушек, алебарды и прочие принятые в таких случаях эмблемы. Для самого герба имелось два наброска, над которыми американская тайная полиция порядком ломала голову. На одном – четыре ряда колючей проволоки (barbed wire, как записано было в докладе), зацепившись за которую вверху, точно вымпел, развевается дамский чулок в форме лежащего вопросительного знака, точкой же ему служит самолет. Над эскизом д'Артез начертал девиз: "Ad aspera" [к терниям (лат.); от "Per aspera ad astra" "Через тернии к звездам"]. Второй эскиз воспроизводил полосатый костюм каторжников и заключенных концлагерей, висящий на плечиках на стенке. Под ним – открытую могилу или открытый гроб, из которого к одежде тщетно тянется рукой мертвец с огромным носом. Девиз этого герба гласил: "In hoc signo vinces" ["Сим знаменем победиши" (лат.)]. Но в данном случае д'Артеза, казалось, взяло сомнение, ибо рядом он собственноручно пометил: "А не лучше ли "non olet" [не пахнут (лат.)], чтобы не сочли за кощунство?"
Излишне говорить, что латинские девизы в докладе были добросовестнейшим образом переведены, чтобы расшифровать их возможный тайный смысл. Ознакомившись с докладом, господин Глачке буркнул: "Да он свихнулся". Если от американцев вряд ли можно было ожидать, что они были хорошо знакомы с обстоятельствами экономического расцвета фирмы "Наней", то господину Глачке, по сути дела, следовало бы понимать намеки д'Артеза. Но для него концерн подобного масштаба был просто-напросто табу.
Фотокопию с другого найденного в квартире, в том же бюваре, документа, не то припрятанного среди промокашек, не то забытого там, даже подкололи к докладу, равно как и заключение эксперта-химика о бумаге и чернилах, а графолога о почерке. Что касается бумаги, то, судя по материалу и способу изготовления, возраст ее с несомненностью установили но меньшей мере в сто, а то и в сто двадцать лет. И так как небольшой этот лист с одного края был совсем недавно обрезан, возникало предположение, что это вырванная из старой книги чистая страница. Чернила же, напротив, хоть и казались выцветшими, были современного изготовления. Очевидно, перед употреблением их в целях мистификации развели водой. С той же несомненностью в графологическом заключении был опознан почерк лица, известного под псевдонимом д'Артез, несмотря на наивную попытку, как говорилось в том же заключении, писать косым почерком, со старомодными росчерками. Все это уже само по себе вызывало подозрение, не говоря уже о тексте, который гласил:
"Предъявитель сего вправе пользоваться моим именем для соблюдения наших общих интересов. Буде же он по причине великого множества войн или любого другого умопомешательства, охватившего наш континент, ощутит усталость, почувствует, что больше не справляется со своей задачей, ему в добавление к вышесказанному дозволено передать означенную доверенность без предварительного запроса другому, по его мнению подходящему, лицу.
Любое неправомерное использование моего имени с целью вызвать психическое потрясение следует беспощадно разоблачать.
Меня заботит не мимолетное счастье достигнутого успеха. Гений есть дар, стиснув зубы, преодолевать лихую годину.
Мы всецело полагаемся на Вас.
Д'Артез, Париж, 8 авг. 1850 г."
Из доклада уяснить невозможно, как поступила с этим текстом американская тайная полиция. Господина Глачке, конечно, прежде всего остановили в тексте слова "мы" и "наших". Слова эти, считал он, подтверждают его догадку, что перед ним документ некой тайной организации, по всей видимости, с пацифистскими тенденциями. А что д'Артез сам себе выдал полномочие, доказывало только изощренность обманных методов, практикуемых мнимой организацией.
– Обратите внимание на выражение "беспощадно разоблачать". Из него позволительно сделать вывод о злодейских умыслах, – сказал господин Глачке.
Протоколист со своей стороны списал для себя текст и частенько его перечитывал. Из какой-то робости он удержался и не стал расспрашивать Ламбера, который наверняка мог бы дать ему кое-какие разъяснения. В разговоре с Эдит Наземан протоколист также не упомянул этот текст.
Был ли этот документ просто забавой подобно эскизам? И отчего вообще существовал такой документ, тогда как ни единой личной записки или лично принадлежащей д'Артезу вещи обнаружить не удалось? Отчего листок этот лежал, словно позабытый, между промокашками бювара? Отчего д'Артез не носил это полномочие с собой? Быть может, он в глубине души желал, чтобы полномочие его было обнаружено и передано другому лицу исключительно волей случая?
Чтобы покончить с тогдашним обыском, упомянем лишь коротко, что и о прочих привычках подозреваемого были, разумеется, наведены справки. Д'Артез имел обыкновение по утрам выпивать в кафе "Старая Вена" на Курфюрстендамме две чашечки кофе и просматривать газеты; чаще всего он сидел там один, и только время от времени к нему ненадолго подсаживались добрые знакомые, случайно разглядевшие его с улицы. Обедал он, если не был занят на съемках – а снимался он часто, – неизменно в "Пари бар", и опять-таки обычно один, по свидетельству официантов, но, конечно, был знаком с другими завсегдатаями бара, и ему случалось с ними беседовать.
Изредка, и то лишь угощая иностранных гостей, д'Артез обедал в "Мезон де Франс", куда имел доступ благодаря связям с французским телевидением.
Послеобеденное время д'Артез обычно проводил у себя дома. И чем бы он ни занимался, он неизменно наносил, не более, правда, чем получасовой, визит госпоже фон Коннсдорф. Вся жизнь старой дамы пришла бы в расстройство, если бы я изменил этому обыкновению, пояснил он дочери и добавил: послеобеденные часы и вообще-то нелегкие, тут уж ничего не попишешь.
Вечером он ужинал в "Фазаньей хижине", непритязательной пивной, куда, однако, захаживали два-три молодых писателя. Д'Артез был с ними знаком и подсаживался к их столику. Как отмечалось в докладе, в литературных дискуссиях он участия не принимал, а только слушал. О дружеских отношениях его с тем или иным посетителем ничего известно не было. Случалось, что ночью, после спектакля, д'Артез заглядывал в ресторан "Полная кружка", что на Штейнплац, и у кольцевой стойки выпивал чашку бульона из бычьих хвостов. При этом он любил поболтать с Чарли, известным барменом, о событиях дня и городских сплетнях. Американский агент, видимо, не раз сиживал рядом с д'Артезом у стойки, в докладе приводились даже отрывки разговоров. Чарли будто бы сказал однажды, Икс-де добрался со своей новой книгой до 278 страницы, а Игрек отдыхает в Таормине. Д'Артез же ничего на это не ответил. И в том и в другом случае речь шла о выдающихся писателях. Большинство гостей были с Чарли на "ты", но не д'Артез – не в его это обычае. Судя же по тому, что протоколист позднее узнал от Ламбера, д'Артез, возможно, давно распознал сидящего рядом агента как такового.
Далее в докладе упоминалось, что у д'Артеза не было собственной машины, он, по-видимому, не имел даже водительских прав. Он много ходил пешком и только для дальних поездок и в плохую погоду брал такси.
Однообразная, стало быть, жизнь, если не считать спектаклей, работы на телевидении и перерывов, связанных с гастролями. Однообразие это так бросалось в глаза, что оно-то и усиливало подозрения тайной полиции. Казалось немыслимым, чтобы кто-то столь явно поступался любым развлечением, не преследуя никакой скрытой цели. Агентам, ведущим наблюдение за д'Артезом, представлялось загадочным и неестественным, что им не удалось проследить никаких интимных связей д'Артеза с женщинами. Правда, и с мужчинами также, отмечалось в докладе, чтобы не возбудить подозрений в склонности д'Артеза к гомосексуализму.
Франкфуртская служба безопасности знала даже больше, чем сообщал американский доклад, составленный как-никак много лет назад. Так, ей было известно, что д'Артез весьма регулярно, примерно раз в три месяца, летал во Франкфурт навестить мать, проживавшую в Бад-Кенигштейне в собственном доме, предусмотрительно приобретенном еще в 1941 году покойным господином Наземаном, главой фирмы "Наней". Это был основательный, хотя и старый, дом, выстроенный в швейцарском стиле, излишне просторный для престарелой госпожи Наземан, которая жила в нем одна, не считая экономки и шофера с женой. Господину Наземану удалось вовремя перевезти в Кенигштейн также большую часть мебели из их дома в Дрездене, в районе "Белого оленя", теперешний дом был ею битком набит, хотя к новому окружению она не подходила. Но старая дама не желала ни с чем расставаться. Она устраивала время от времени так называемый "семейный день", в котором, однако, д'Артез никогда участия не принимал. Он всякий раз извинялся, ссылаясь на гастроли или другие обстоятельства. Отец его умер еще в конце 1943 года в Дрездене и там же был похоронен. Предполагаемый на случай крайней необходимости переезд на Запад был, как уже сказано, своевременно, то есть еще до конца войны и до разрушения Дрездена, осуществлен его вторым сыном и наследником, нынешним генеральным директором фирмы "Наней" Отто Наземаном. А поскольку фирма "Наней" в те времена считалась предприятием военного значения, нацисты и вермахт всячески способствовали ей в приобретении земельного участка, на котором предполагалось выстроить завод. У фирмы "Наней" имелись влиятельные связи.
Свои регулярные визиты д'Артез наносил без всякого предупреждения, чем мать его бывала крайне раздосадована: что и говорить, она охотно приготовилась бы к его приезду и пригласила бы родственников. Обычно сын, если не улетал последним самолетом, останавливался не у нее, а в отеле "Интерконтиненталь", что также давало повод для горьких сетований. Ты швыряешь деньги на ветер, пеняла она, но, по сути дела, это импонировало старой даме. Во всяком случае, ничто не могло заставить д'Артеза отказаться от раз навсегда заведенного порядка. Он ехал автобусом от Франкфурта до Кенигштейна, рано утром уже стоял, нежданный, с цветами или конфетами у дверей, вежливо выслушивал вечные ахи и охи, что торт не испечен или что сегодня уборка в доме, сидел около двух с половиной часов и, глянув на часы и сославшись на совещание или конференцию, автобусом возвращался во Франкфурт. У матери же на ближайшие недели хватало тем для разговоров – как хорошо выглядит ее сын, как он к ней привязан, хоть профессия отнимает у него много времени и сил, и тому подобное; у нее было обыкновение противопоставлять людей друг другу.
Прочих родственников, в особенности брата, который, кстати говоря, за щедрые пожертвования в пользу какого-то научно-исследовательского института уже несколько лет числился доктором honoris causa и почетным членом ученого совета университета, он не навещал никогда, да и виделся с ними чрезвычайно редко. Как было известно Управлению безопасности, братья встречались в последние годы лишь дважды, и то случайно, один раз – в каком-то миланском отеле.
Делать из сказанного поспешные выводы было бы глубоким заблуждением. Тут и речи не могло быть ни о натянутых отношениях, ни тем более о распрях. К дням рождения и к другим подобным событиям аккуратно и взаимно посылались поздравительные открытки. Д'Артез говорил о брате не иначе как о "господине генеральном директоре", без намека на иронию, только объективно констатируя факт, а генеральный директор в свою очередь называл д'Артеза, если о нем заходила речь, "мой брат, известный деятель искусств". Именовать брата артистом или комическим актером он избегал хотя бы из уважения к жене и детям, разумеется не раз слышавшим от знакомых: "Ах, вы в родстве с д'Артезом? Как интересно!"
Что же до упомянутых поздравительных открыток, то д'Артез, следует заметить, и дочери советовал их посылать. Он даже составил для нее список дней рождения всех родственников. У Эдит Наземан это вызывало лишь раздражение, охотнее всего она ничего общего не имела бы с этим семейством.
– Меня там только терпят, потому что и я случайно называюсь Наземан, им ничего другого не остается, – говорила она. – Зачем стану я посылать им открытки? Они еще вообразят, будто мне от них что-то нужно.
– Они все равно так думают, – отвечал д'Артез, – иначе они думать не могут. Отчего бы тебе не сделать им это одолжение?
Эдит Наземан никак не желала соглашаться с отцом, считая подобную тактику малодушной. Впрочем, и Ламбер, которому она как-то пожаловалась, не поддерживал идеи с поздравительными открытками. Тема эта, по-видимому, не однажды обсуждалась отцом и дочерью, и это тем более странно, что д'Артез, насколько известно протоколисту, всячески избегал давать советы другим, и прежде всего дочери, относительно ее поведения. В этом Ламбер был с ним полностью согласен.
– Мы потеряли право что-либо кому-либо советовать, – заявил он однажды, когда протоколисту важно было получить его совет.
Правда, Ламбер не всегда придерживался этого правила, темперамент его подводил.
Эдит Наземан в конце концов примирилась с советом отца, не будучи убеждена в его правоте. Она сделала это больше из любви к отцу и полагала, что, рассылая дурацкие открытки к дням рождений, оказывает ему услугу. Трогательно было видеть, как она постоянно вставала на защиту отца, даже когда не понимала его. Тогда-то она и подавно вставала за него горой.
Что касается дней рождения, то д'Артез сказал ей следующее:
– Они нас так и так обсуждают, больше им не о чем говорить. Оттого-то нам и следует давать им пищу для разговоров, по крайней мере будешь знать, что о тебе говорят. Только этим от них и защитишься. Им хоть бы чем-нибудь себя занять. Представь себе, с какими минами они передают из рук в руки твою открытку! Пошлешь им репродукцию абстрактной картины – скажут: о, она строит из себя современную женщину. А пошлешь икону – удивятся: неужто она стала богомольной? Обо всем этом им легко говорить. И нам с ними надо говорить на их языке. Как иностранец иной раз правильнее говорит по-немецки, чем мы.
Кстати, собираясь во Франкфурт, д'Артез всегда заранее предупреждал дочь, тогда как своему другу Ламберу звонил только по приезде в отель правда, сейчас же, чтобы условиться на вечер. Все это в общих чертах было известно Управлению безопасности, и никакой надобности интересоваться этими делами во всех подробностях оно не видело.