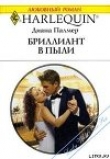Текст книги "Тайна, приносящая смерть"
Автор книги: Галина Романова
Жанр:
Прочие детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 16 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Глава 7
Саша лежала на кровати матери, с головой укрывшись одеялом. Лежала в одежде и резиновых сапогах. Увидела бы сейчас мама, в ужас пришла бы. Накричала бы, что совсем одурела дочка, после огорода в резиновых сапожищах и прямо на кровать. Грязи пуд на полу, на половиках, теперь еще и на покрывале. А покрывало дорогое, пускай и у цыган купленное по случаю. А что цыгане? Тоже люди. Тем же добром торгуют, что и все остальные. Правда, не на рынке, а по домам ходят. Так волка ноги кормят, как говорится...
Все до слова вспомнилось сейчас Саше, когда она, шевельнув ногами, вспомнила, что так и не разулась, вернувшись с огорода.
Мама радовалась тогда, что покрывало досталось самое красивое из всех, что предлагались. Маринка с цветами купила, сильно аляпистое. А ей вот без цветов, с неброским абстрактным рисунком досталось. Мама любила, чтобы именно так было. И все оправдывала покупку, все причитала, что на рынке и дороже, и расцветки такой не найти.
Мама радовалась, а дочка теперь с ножищами, в сапожищах.
Саша прислушалась к острой боли, застрявшей в самой сердцевине грудной клетки и сидевшей там с той памятной минуты, как Степаныч переступил их порог. Прислушалась и тут же с силой зажмурила глаза.
Нет, не притупилась, все так же сидит там прочно. Укоренилась, гадина! Так ладно бы просто сидела, а то ведь дергает за каждый нерв. Выворачивает всю душу наизнанку. Выкручивает тело так, как они с мамой пододеяльники возле колонки, выполоскав, выкручивали: с силой и попеременно, то в одну, то в другую сторону.
Больно было! Очень больно! Она и плакала, и металась, и терпеть пыталась, стискивая зубы. Все надеялась, что станет полегче. Что вот-вот, день ото дня, гадкая зараза перестанет так ее трепать, сдастся.
Не сдавалась! И день ото дня, поручиться Саша, конечно, не могла, но казалось, что ей становится только хуже.
– Ты заходи ко мне, дочка. Заходи, не стесняйся, – гладил ее по голове Степаныч, когда Саша попадалась ему на глаза. – Посидим, поговорим, чаю попьем.
Она не ходила к нему, как перестала ходить вообще к кому бы то ни было. Она просто перестала любить людей, перестала их выносить за их жизнерадостность, за пышущие здоровьем тела, за каждодневные заботы.
Они вот радуются, жрут, толстеют, что-то покупают, что-то продают, куда-то едут, о чем-то думают, кого-то любят, а ее мамы больше нет! И не будет уже никогда. И это было так нелепо, так глупо, так противоестественно и несправедливо, что она видеть никого не могла. И уж тем более не могла ходить куда-то в гости, чаи пить, разговоры говорить.
И если уж совсем откровенно, то не верила она Бабенко. То есть не верила, что зовет он ее в гости для того, чтобы просто посочувствовать. Ему была нужна информация! Это же ясно читалось у него в глазах, как читалось это и в глазах тех людей, что ввалились шумной толпой к ней в дом следом за ним. Все они для начала скорбно помолчали, попытались выразить ей сочувствие равнодушными чужими голосами, а потом приступили к допросу.
Господи! О чем ее в тот момент можно было спрашивать?! О чем?! О том, ради кого мама нарядилась тем вечером? Так это для всей деревни не было секретом, могли бы узнать и у соседей, чем ей душу рвать. О том, где она сама провела минувшую ночь? Так это...
Так это вообще никого не касается! Это ее личное дело! И зачем это вообще им нужно?! Какое это имеет отношение ко всему случившемуся?!
– Мы должны быть уверены, что у вас имеется стопроцентное алиби, – выдал тогда один из присутствующих придурков.
Павел Степанович, помнится, тогда конфузливо крякнул и дернул за карман штанов высокого розовощекого парня в прокурорском костюме.
– Вы что же, меня станете подозревать??? – И она завизжала на них на такой высокой ноте, что тут же сорвала горло. – Убирайтесь, сволочи! Убирайтесь из моего дома, гады!!!
– Успокойтесь, Александра, – попросил тогда один из них вполне человеческим голосом и посмотрел участливо. – Мы не хотели сделать вам больно...
– Убирайтесь!!! Убирайтесь, видеть вас не желаю!!!
Если бы их не было там в тот момент, то вполне возможно, досталось бы тогда Степанычу. Ей просто нужно было орать, визжать, биться головой о чьи-то плечи и царапаться. Ее горе было таким обширным, таким черным, таким неожиданным, что оно просто не вмещалось в ее теле, в ее сердце, в ее душе. Оно рвалось наружу диким страшным воем, и оно не желало понимать никакой необходимости, никаких рамок приличия.
Бедный Степаныч метался из кухни к ней и обратно, то со склянкой какого-то вонючего лекарства, то с кружкой воды, то с мокрым полотенцем. Она смотрела на него сквозь пелену слез, и он представлялся ей огромной запущенной наседкой, по неосторожности выпущенной на волю нерадивой хозяйкой. И это показалось ей смешным, и она принялась смеяться. Сначала мелко и беззвучно, потом все сильнее и громче, а потом снова завыла.
В чувство ее привел все тот же высокий парень с человеческим голосом, участливым взглядом и симпатичным лицом. Он просто вылил ей на голову полведра воды и влепил две звонкие пощечины.
Степаныч ахнул и отшатнулся, начав бормотать что-то о бесчеловечности и неизжитом фашизме. Коллеги высокого парня демонстративно начали смотреть по сторонам, будто ничего не видели и не заметили даже.
Саша села ровно на диване, обтерла рукой мокрое от слез и воды лицо, лязгнула зубами.
Попросила спустя минуту:
– Дайте полотенце.
Тот подал ей полотенце, протянутое все тем же участковым.
Саша медленно начала вытирать голову, плечи.
– Что вы хотите узнать? – проговорила она, прижав полотенце к груди и застыв с ним, полотенце было маминым и пахло мамой.
– У нее была вчера назначена встреча? – Все тот же самый парень присел к ней на диван. – Меня Даниил Сергеевич зовут, можно просто Данилой называть.
– Хорошо... – кивнула она. – Она собиралась на свидание с этим... С Игорем!
– Свидание состоялось?
– Не знаю. Я поругалась с ней днем и убежала из дома.
– Почему поругались?
– Она собралась... Собралась за него замуж! – фыркнула с горечью Саша. – Без году неделю знакома с ним и уже замуж! И сказала, что останется у него ночевать! А он днем раньше или этим же днем, не знаю точно, Маринка трепалась...
– О чем?
– Он Таньке Востриковой цветы подарил!.. Он цветы другим девкам дарит, а она за него замуж собралась, дурочка! Господи... – Саша тяжело задышала, крепко зажмурилась. – Кто же ее так, а?! Павел Степанович, как же так?! Я же теперь совсем, совсем одна!!!
Даниил Сергеевич мягко тронул ее за плечо, обернулся на коллег, спросил:
– Кто-нибудь говорил с этой Востриковой?
Все, включая Степаныча, отрицательно замотали головой.
– И не был у нее, что ли, никто?! – повысил голос Щеголев.
– Я! – Участковый школьником поднял руку, вторую подложив под локоток, шагнул вперед. – Я был у нее в доме, стучался, не открыла. Дома, видимо, нет. На двери замок. Спросил соседей, никто не видел. Может, уехала. Она собиралась в город совсем съезжать, работу там нашла.
– Когда же она успела? Только что цветы в подарок получила и уже в город.
– У нас автобус до города в день три раза ходит, – едва слышно подсказала Саша. – Могла и уехать.
– Итак... – Щеголев, призывая Сашу к вниманию, снова едва ощутимо тронул ее за плечо. – У вашей мамы должно было вчера состояться свидание с ее новым знакомым, так?
– Так.
– И, если я правильно понял, оно должно было состояться у него в доме, так?
– Так, если она собиралась у него ночевать.
– А как она могла очутиться на берегу пруда, не знаете?
– Не знаю. – Саша мотнула головой. – Мама туда вообще никогда не ходила. Нужды не было. Место то никто у нас в деревне не любит, одни лягушки и ужи. Осока ноги обстрижет так, что потом две недели заживать будут.
– Так, так, так... – задумался Даниил Сергеевич. – Стало быть, ее новый знакомый позвать ее туда погулять не мог?
– Зачем?! – изумленно вскинула на него глаза Саша, поморгала бездумно, качнула головой. – Он небось любовное гнездышко готовил. Маму ждал, раз она собралась ночевать у него. Ненавижу, сволочь!..
Потом они еще ее о чем-то спрашивали. О чем-то, по их мнению, относящемся к делу, но она ничего не могла сказать им по существу. Ничего! Потом к ее глазам подносили маленький пластиковый пакет с блестящей крохотной безделушкой, просили опознать. Она не опознала. Вскоре они ушли, с ней остался лишь Павел Степанович. Он долго еще хлопотал над ней. Снимал с нее кроссовки, укладывал на диван, укрывал одеялом. А перед этим заставил выпить две какие-то таблетки и сказал, что завтра утром он за ней заедет, нужно будет ехать в город и там хлопотать.
Слушала она его не очень внимательно и не смотрела почти, закрыв глаза. Потом вдруг сделалось очень тихо. Она подумала, что и он ушел тоже. Распахнула глаза, а Степаныч стоит посреди комнаты и кроссовки ее рассматривает.
– Что? – дернулась Саша и попыталась подняться. – Чего так смотришь?
– Нет, нет, ничего, – он виновато хихикнул. – Грязные какие. Где так изгваздаться можно было? Дождей нет уж давно.
Пробормотал и ушел, но перед этим, правда, кроссовки ее тщательно вымыл прямо над раковиной в кухне. Мама бы увидела, разогнала бы...
Мама не шла у Саши из головы. Не прошло ни одной минуты, чтобы она о ней не вспоминала. Натыкалась на любимую мамину кружку в кухне, и тут же следовал острый толчок в сердце. Распахивала шкаф, чтобы найти свое белье, и снова мамины вещи лезли в глаза, и снова болезненная судорога внутри.
Это было непереносимо, эта непрекращающаяся боль изводила ее. Она почти перестала есть и спать. Нет, из кровати поднималась редко, только по необходимости – сходить в магазин, на почту, в туалет и на кухню. И лежала будто с закрытыми глазами. Но вот сон не шел. Она не могла спать, она все думала и думала. Вспоминала и вспоминала.
Бабенко тут на днях, встретив ее у Маринкиного прилавка, намекнул, что скоро Сашу потянут на допрос в город. И что им просто необходимо переговорить перед этим.
– О чем?
Саша с трудом понимала его. Она только что протянула Марине деньги и не могла вспомнить, что же хотела купить. Та нетерпеливо шевелила толстыми растрескавшимися губами, но пока не орала и не грубила, ждала. И Саше очень хотелось вспомнить, очень. Хлеб брала вчера, он не был нужен ей. Брала по привычке. Они с мамой всегда покупали свежий хлеб, каждый день покупали. И она таскала из магазина его тоже каждый день, хотя и не притрагивалась к буханкам, и они уже заняли половину их полок.
Нет, хлеб точно ей не нужен. Может, тогда молоко? Так она его сроду не пила. Да и мама его брала у соседки тети Нюры. Парное всегда брала. Зачем ей магазинное?
– Ну! Чего нужно-то, Сашка? Погоди ты, Степаныч, со своими разговорами. Она мне очередь задерживает!
Очереди той было три человека. И никто особо не торопился, любопытство навострило всем стоящим за Сашей уши, и они ожидали тихо и безропотно. Это Маринка просто так, из природной вредности ее торопила.
– Ну! Хлеба может?
– Нет, хлеба много. Хоть выбрасывай. – Саша пожала плечами, обвела рассеянным взглядом магазинные полки.
– Выбрасывать не надо, доча, – вцепилась ей в локоток бабка, что стояла за Сашей. – Я заберу у тебя теленку. Не выбрасывай...
– Не буду. А! Вспомнила! Порошок стиральный мне дай и зубную пасту.
– Ну, наконец то! – фыркнула Марина. – А то я уж думала, век не разродишься!
– Чего городишь-то, чего городишь?! – сердито усовестил ее Бабенко.
Дождался, пока Саша возьмет покупки. Взял ее под локоток и повел из магазина.
– Ты должна со мной обо всем поговорить, – шептал он ей на ухо, выводя на улицу.
– О чем? – Она правда не понимала. – О чем обо всем, Павел Степанович?
– Ну... О том, о чем ты станешь рассказывать, когда тебе начнут задавать вопросы.
– А какие вопросы мне станут задавать? Я же вроде отвечала что-то. – Саша осторожно высвободила руку из потных пальцев участкового.
– Вот именно, что что-то! – воскликнул он с горечью. – И это никого не устроило. Никого! Городские получили по выговору, что по горячим следам никого не задержали. Мегаполис, говорят, какой, не смогли убийцу найти среди полсотни народу.
– Народу полсотни, а убил-то кто-то один! – возразила Саша и тут же всхлипнула. – Как представлю, что этот гад ходит все так же по деревне, жует, спит... А мамы... А ее больше нет!
– Вот именно. Вот именно, – повторил Степаныч, кивая головой, потом глянул на нее как-то уж очень пронзительно и спрашивает: – А ты-то где была, Сашок, той ночью, а? Тебя-то не было дома, я не один раз заходил утром, когда труп нашли. Ты что-то слишком долго где-то спала. Где?
– Неважно! – озлобилась она тут же. – Это не имеет отношения к делу!
– Это ты так думаешь, милая, – он кивком головы указал куда-то себе за спину. – А они станут думать по-другому.
– А как?
– А так, что у тебя нет алиби!
– А зачем мне оно?
– Как зачем?! Как зачем?! Они всех готовы подозревать, всех буквально!
– И даже меня?! – У нее чуть порошок с зубной пастой из рук не вывалился. – Совсем, что ли?!
– Работа у них такая, Сашок, и ничего с этим не поделаешь. Они обязаны все версии отрабатывать. И даже ту, что ты... – Он запнулся внезапно, потом глубоко вдохнул в себя воздух, выдохнул с силой и виновато глянул на нее. – И даже ту, что ты, повздорив с матерью, убила ее. По неосторожности, в пылу ссоры, но... Короче, ты меня поняла. Готовь себя к любого рода сюрпризам.
– Как я подготовлю-то?! Как, Павел Степанович?
– А-а, вот потому-то я и пристаю к тебе, дуреха. – Он погладил ее по голове, едва дотянувшись, роста он был небольшого, и Саше едва доставал макушкой до подбородка. – Надо все продумать, как и что говорить там станешь. Я-то тебе верю и помогать стану. А вот они...
Они так ни до чего и не договорились. Саша упорно отмалчивалась, он настырно наседал. Вспомнил и ее выпачканные грязью кроссовки, которые сам же и вымыл.
– Думаешь, никто не обратил внимания, что они у тебя в грязи, дочка? Был там один глазастый особо.
– Это который?
– Это тот, что тебя по щекам нашлепал. Так вот он с ног твоих глаз не сводил. От вопросов, правда, воздержался. Но грязь на твоей обуви его сильно заинтересовала.
– И вас тоже? Вас она тоже интересует?
– Да, – не стал вилять Степаныч. – Неплохо бы мне было знать, где ты по сухой погоде так кроссовки измазала?
– Скажите еще, что по берегу пруда шастала! – фыркнула Саша.
– Я-то, может, и не скажу, хотя отрицать не стану, такие мысли приходили мне в голову. А вот глазастый – тот запросто.
– И что? Они же не изъяли их сразу, теперь доказать ничего не смогут. Вы же их вымыли.
Они незаметно дошли уже до ее калитки, Саша остановилась, впускать в дом участкового она не хотела, тот понял и настаивать не стал.
– Помнишь, значит...
Бабенко ухватился за штакетину, подергал. Ржавый гвоздь тут же послушно выполз из полусгнившего дерева. Участковый поспешил вогнать его обратно, отряхнул руки, вздохнул с печалью:
– Совсем без хозяина дом сирота. Каким бы ни был гулякой твой отец, дом не запускал... Мать-то хотела хозяина в дом, очень хотела. Путевого...
– Это Игорь-то путевый?! – ахнула Саша, и синие глазищи ее сделались чернее ночи. – Что вы все о нем знаете вообще?! Он-то где был в ночь убийства?!
– Дома. Дома он был. Все проверил, все показания с соседей снял. Видели его и свет в его окне далеко за полночь.
– Он мог его просто не выключить! – стояла на своем Саша.
Отворила калитку, вошла на свою территорию, калитку прикрыла перед Бабенко. Пускать его она точно не хотела.
– Мог просто оставить свет включенным, чтобы с улицы думали, что он дома.
– Мог. Я, кстати, тоже подумал об этом. – Бабенко примирительно улыбнулся ей. – Да есть одна загвоздка. Как он, отсутствуя, по телефону домашнему ответить мог, а?
– А кто ему звонить-то мог ночью?! – недоверчиво вытаращилась Саша. – Брехня!
– Нет, правда это. И звонил ему в ту ночь без конца сосед Никонов Мишка.
– Чего это?
– Сначала футбол они обсуждали, смотрели каждый в своем доме и обсуждали результаты по телефону. Потом Мишке выпить захотелось, он начал Игоря к себе зазывать. Тот отказался. Тогда Мишка сам начал навязываться к Игорю в гости, тот снова отказал. Сказал, что гостя ждет, мать твою он ждал, понятно!
– А потом? Потом-то Никонов звонить ему перестал, вот и... – Результаты вскрытия показали, что смерть наступила до полуночи, дорогуша моя. И в это самое время как раз и шла трансляция футбола. Ее-то и смотрели мужики и живо обсуждали по телефону. Так-то...
– Значит, у него алиби есть, а у меня нет! – Саша нервно рассмеялась. – А что, если он убил маму у себя дома, а потом отнес ее труп на пруд?! Такая мысль вам в голову не приходила?!
– Так не видел никто, как она к нему заходила-то, Сашенька. Не видел никто...
Он ушел тогда сильно расстроенным, а она снова заперлась в доме и пролежала до самого вечера с закрытыми глазами. Но не спала ни единой минуты, а все думала и думала, думала и думала.
Странно все обстояло с расследованием Бабенко, очень странно. Что-то делал, болтали бабы, как-то суетился. Из дома в дом ходил, все с расспросами ко всем приставал. Порой, говорили, ерунду какую-то спрашивал, и все в блокнотик свой, засалившийся давно, записывал. Чего писал, спрашивается, если ни о чем путном и не спрашивал, все больше хихикал да нелепые вопросы задавал.
Дом приезжего Игоря, у которого с ее матерью случился неожиданный и сильно раздражающий ее роман, Павел Степанович навестил лишь дважды. Сразу после отъезда оперативной группы с места происшествия и неделю назад. Вышел, по слухам, весьма неудовлетворенным. Чертыхался будто бы, когда по деревне потом шел, и сердито хмурил брови. Что уж его там не устроило, одному ему и было известно. Может, то, что Игоря нельзя было привлечь к ответственности, его рассердило. А ему этого очень хотелось. Может быть, груб тот был с ним или что еще.
Гадали их местные тетки долго, долго качали головами, отполировав ступеньки и перила магазина своими задами до зеркального блеска. Потом переключались на Сашу, начиная жалеть ее до слез. Потом недоумевали, куда это Танька Вострикова подевалась, глаз домой не кажет, как в город уехала. То ли сложилось у нее там все удачно, то ли опостылели ей тут все, и она с глаз долой, из сердца вон. Заканчивалось все обычно темой неуродившейся картошки, плохих помидоров и чахлой капусты. Охали и качали головами уже по теме: как с таким урожаем зимовать всем.
И так день за днем. Правда, с каждым новым днем последняя насущная тема все больше и больше вытесняла тему недавнего происшествия, отводить ей времени стали с каждым днем все меньше, и скоро, возможно, о ней вообще вспоминать не станут.
Один Бабенко не успокаивался. Один он носился по деревне в промокшей насквозь от пота форменной рубашке и с блокнотом, странички в котором давно от времени пожелтели и испачкались в пыли. Пару раз за минувшие две с половиной недели наезжали городские. Те посещали деревенские дома выборочно. И к Саше стучались. Она не открыла. Она повесила на дверь замок и заходила в дом с огорода. У них многие так делали, когда не хотели никаких нежелательных посещений. И секрета в том особо никакого не было для деревенских. Городские не знали. Потому и, потоптавшись на пороге крыльца и поглазев на навесной замок, уходили восвояси.
На допрос в город пока никого не вызывали. Во всяком случае, Саше ничего об этом известно не было. Но вот вчера...
Вчера из города приехал сам Бабенко Павел Степанович, и приехал весьма удрученным.
– Не знаешь, Сашка, чего это Степаныч наш из города приехал, как из помоев вынырнул?
Продавщица Маринка догнала ее на улице, когда Саша просто шла куда-то.
Она и сама не знала, куда и зачем идет. Просто вышла из дома через дверь в огород и пошла по улице, сжимая под мышкой сумочку с кошельком и мобильным. Позвонить ей никто не мог. Она не ждала звонка так рано, ждала его где-то в семь-десять часов. Но все равно телефон взяла с собой по привычке. Мама всегда ругала ее за то, что оставляла телефон по забывчивости.
Просто шла и смотрела себе под ноги, которые едва волочились по деревенской пыли. Было жарко, муторно, и думать ни о чем не хотелось. Даже о том, как ей больно и тоскливо оттого, что мамы больше нет.
Да, теперь боль временами сменялась странной пустотой. Черной такой, пугающей, равнодушной до отупения. Это когда как в той детской сказке: что воля, что неволя, все равно. Иногда это новое состояние приносило ей облегчение, иногда раздражало. Сейчас ей было просто никак: ни легко и ни плохо. Будто ее и не существовало вовсе.
И тут Маринка!
– Не знаю, – покачала она головой, не останавливаясь.
– Не знает она! Он тут из-за матери твоей все суетился, все бумаги какие-то готовил, все печатать секретаршу школьную Ляльку просил, а теперь...
– А что печатал?
– А я знаю! – вытаращила полубезумные глазищи Маринка. – Я их не читала!
– Так Лялька что говорит?
– А она при чем?
– Марина, ты совсем, что ли, дура?! – заорала вдруг Саша, устав от ее бестолковости. – Если Лялька печатала ему бумаги, значит, знает, что в них!
– Да? – Маринка почесала затылок, забыв обидеться на дуру, чуть подумала, тут же оскалила пухлогубый рот. – А ведь и правда, Сашка! Она же все под диктовку его печатала будто! Как же не знать-то ей? Побегу, спрошу. Только пусть попробует не сказать, я ей тогда оставлю молочных сосисок, я ей тогда...
И Маринка, вздымая пыль столбом, помчалась на школьный двор. Неожиданно Саше тоже стало интересно, что же такого было в бумагах Бабенко? Что за отчет готовил он для городской милиции и почему приехал таким поникшим? И она вдруг повернулась и следом за Маринкой поспешила на школьный двор.
Входная дверь школы была заперта. Маринка безуспешно дергала за ручку.
– Вечно их не найти, бездельники! – проворчала она, оглянувшись на подоспевшую Сашу.
– Так каникулы летние, чего им целый день тут сидеть, – отозвалась та, но все же наступила на выступ фундамента, подтянулась, прильнула к окошку. – Никого, Маринка. Не ломай дверь.
– Где вот, интересно, ее черти носят, Ляльку эту? Разгар рабочего дня, а ее на работе нету!
Саша глянула на нее с усмешкой:
– У тебя, между прочим, тоже не выходной. А ты на магазин замок накинула и по деревне носишься.
– Я не ношусь, а хожу, засранка ты такая, – обиделась Маринка. – А во-вторых, я в интересах дела.
Ага! Чтобы было потом что обсудить на магазинном крыльце. Саша вздохнула и постучала костяшкой пальца по стеклу. Показалось ей или нет, но кто-то промелькнул в школьном коридоре, просматривающемся из окна.
– Эй, Ляля! Открой, разговор есть! – завопила завмаг на всю улицу, воодушевленная Сашиным постукиванием по стеклу. – Ох, и противная, сучка! Все они, пришлые, такие...
Договорить она не успела. Изнутри что-то лязгнуло, дверь дернулась и поддалась, едва не задев Маринку по лбу.
– В чем дело?
На пороге школы стояла Лялька, школьная секретарша. Звали ее по паспорту то ли Лия, то ли Лилия, но все для удобства называли ее Лялей.
«Еще чего, язык ломать! – фыркал школьный завхоз Пронин. – Родители подшутить над дитем удумали, а нам язык ломай, так, что ли?..»
И все, включая директора школы, стали называть ее Лялей. Приехала она в их деревню давно, может, пять, может, шесть лет назад. Приехала с одним чемоданчиком в одной руке и пакетом с кофеваркой в другой. Очень бледная, до невозможного худая и непотребно для деревни молчаливая. Приехала по рекомендации из областного отдела народного образования. Оттуда позвонили директору школы и попросили посодействовать как в трудоустройстве, так и с жильем.
Ей дали работу секретаря, поселили у одинокой старухи Матрены на краю деревни. Матрена со временем померла, и дом перешел к Ляльке. Она его потихоньку по мере возможности подправляла, ремонтировала и за несколько лет превратила во вполне приличный дом с красивым палисадником и ухоженным садом.
Сама Лялька тоже с годами преобразилась, поправилась, приосанилась, накупила себе нарядов и стала очень симпатичной и аппетитной. Можно было бы и замуж выйти, да за кого? Таких симпатичных и аппетитных, да еще и одиноких в их деревне было десятка полтора. А мужиков холостых раз-два и обчелся. Володька-библиотекарь, но тот не в счет, тот все время по Маше Углиной сох. Потом тракторист Сашка, сын того самого Никонова Михаила, что свидетельствовал в пользу приезжего Игоря. Этот тоже был холостым, но тоже неожиданно, как и Володька, влюбился в Сашину мать. Правда, влюбленность у него быстро прошла. Да еще вот Бабенко Павел Степанович. Но кто же его станет рассматривать как холостяка? Он участковый! Это отдельная графа, отдельный статус.
И приходилось Ляльке с ее вновь обретенной симпатичностью и аппетитностью прозябать в их деревне в одиночестве. Но, кажется, она ничуть не переживала. Не похоже было, чтобы она тяготилась своим статусом одинокой женщины. И бездетность ее не угнетала, как многих других женщин. Год от года она становилась все привлекательнее, совсем не старея. И мало кто мог назвать точный возраст Ляльки. Разве что директор школы, который видел ее паспорт. Да еще Павел Степанович Бабенко, которому знать ее анкетные данные всех жителей было положено по службе.
– В чем дело? – повторила Лялька вопрос, и Саше показалось, что прозвучал он с некоторой долей надменности.
– Слушай, Лялечка, тебе сосиски оставлять завтра молочные? – брякнула первую нелепость, пришедшую в ее непутевую голову, Маринка.
– Оставлять, конечно! – Аккуратные бровки Ляльки цвета переспелого каштана поползли вверх. – Вы только по этой причине школьную дверь сносите, девочки?
– Нет, не по этой! – грубовато оборвала ее Саша.
Вдруг сделалась противна сочная привлекательность Ляльки. Ее вальяжная поза, показавшаяся Саше напряженной, неприятна. Да и вообще сам факт существования этой молодой, не обремененной тревогами женщины показался противоестественным.
Почему мамы больше нет, а эта вот улыбается, острит, живет, дышит?!
– Так что вам надо? – Лялька воинственно сложила руки под грудью, уставилась на Сашу с недоброжелательным прищуром. – Чего тебе надо, Александра?
– Мне надо знать, что именно ты печатала для Бабенко.
– Для Степаныча, что ли? – наморщила безукоризненно гладкий лоб школьная секретарша. – Погоди, дай подумать... Так, так... А зачем тебе?
– Хочу знать!
– Ой, любознательная какая девочка! – прыснула Лялька, но без особого веселья, скорее с настороженностью. – Уроки бы ты так учила. К слову, в одиннадцатый класс пойдешь или на ферму вместо матери работать?
– Не твое дело! – взорвалась Саша.
Нет, она нисколько не преувеличивала и не придумывала для себя ничего. Лялька откровенно над ними, нет, над ней издевалась.
– Вот и то, что я печатала для Степаныча, не твое дело тоже! Уходите! А то я ему нажалуюсь!
Лялька мгновенно сузила глаза, поджала губы и вдруг сделалась похожа на злую, побитую временем лисицу. И с чего это ее все считали симпатичной? Ничего она не симпатичная. И не молодая совсем. Ей стопроцентно под сорок. А возраст она умело прячет за маской неулыбчивости и негневливости.
– Старая ты! – выпалила Саша и сбежала со школьных ступенек. Остановилась, сжала кулаки и еще раз выпалила: – Старая ты! Старая и злая!!!
Лялька ахнула, попятилась. Лицо ее пошло красными пятнами. Она нагнула голову, покусала тонкие губы. Потом оттолкнула от двери Маринку, потянула дверь на себя, но прежде чем ее захлопнуть, прокричала вслед уходящим гостьям:
– Я старая и злая, а ты убийца!!!
И все, захлопнула дверь, гадина, лязгнув задвижкой.
Они обе остолбенели. Саша от обиды. Маринка от неожиданности. Какое-то время она стояла, посматривая на Сашу совершенно бездумно. Мелькали в глазах обрывки каких-то догадок, да и только. Но потом в ее мозгах, не отягощенных ничем, кроме регулярных подсчетов и нечеловеческого любопытства, вдруг начало что-то созревать. Она задумалась, покусала вечно обветренные губы, покрутила головой туда-сюда, будто пыталась выпростать толстую шею из тугого воротника. Но воротника не было никакого. На Маринке был надет сарафан с крупным васильком на широченных размеров – со строительную стропу – лямках.
– Вот так, значится, ага... – выдала она после долгих напряженных размышлений. – Вот это, стало быть, Степаныч... Ага...
Она, додумавшись до такого ужаса, округлившего ей глаза, попятилась от Саши. И когда очутилась от нее на безопасном расстоянии, выпалила:
– Как же это ты так, девка???
И умчалась тут же, развевая подолом, разносить по деревне несусветную новость...
Сегодня с утра шел дождь, но Саша настырно полезла в картофельные борозды, начав копать.
Зачем ей это было нужно, она и сама не знала. Месила лопатой вязкий чернозем, выколупывала из грязи крохотные неуродившиеся картофелины, кидала их в ведро. Потом несла ведро в сарай, высыпала картошку в угол на расстеленную мешковину. И снова лезла в огород. Потом, когда места на мешковине больше не осталось, ей все надоело, она вернулась в дом. Залезла в грязной обуви на кровать, закрыла глаза и пролежала так неизвестно сколько, все анализируя, все вспоминая и отчаянно тоскуя по матери.
– Мне очень плохо, ма... – прошептала она в темноту комнаты, за окном был уже вечер, свесила ноги с кровати, стащила с себя грязную обувь и, неся ее в руках, босиком прошла к порогу.
Включила свет во всем доме, помыла все – и обувь, и пол, где наследила. Потом поменяла белье на кровати, взбила подушки, как обычно это делала мать. Пошла в кухню. Вдруг захотелось есть. Первый раз со дня ее смерти Саше захотелось есть. Наверное, ее возня с картошкой на свежем воздухе разбудила давно уснувший аппетит.
Поставила сковородку на плиту, разбила в нее два яйца, посыпала зеленым луком, накрыла крышкой, присела рядышком с плитой на мамину высокую табуретку. Она всегда на ней сидела, когда что-то надо было постоянно помешивать или переворачивать. Табуретку еще отец для Маши сделал, жалея ее натруженные ноги. Шутка ли: три раза за день на ферму и обратно, потом еще дома накормить всех, дом в порядке содержать, постирать, погладить. Вот табуретку из сострадания и смастерил.
– Лучше бы ты, папочка, смастерил для нее семейное счастье, – проговорила Саша, попрыгала на отцовском изделии и тут же перепуганно вздрогнула от короткого стука в кухонное окно.
Окно выходило в огород. Кому понадобилось в такое позднее время туда забредать? Видно не было ничего, кроме черного квадрата стекла. Вот дура, забыла шторки сдвинуть, ее видно как на ладони, а того, кто стучит – нет.
– Кто там? – громко позвала Саша и отключила газ. – Кто стучит?
– Сашка, открой! – попросил женский голос, показавшийся Саше очень знакомым. – Открой, мне очень нужно с тобой поговорить!