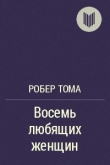Текст книги "У ног лежачих женщин"
Автор книги: Галина Щербакова
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 5 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]
Галина Щербакова
У ног лежачих женщин
* * *
И только когда небо становилось линяло-серым, и на нем появлялись конопушки звезд, и Коновалиха спускала на длинную цепь Джульбарса, чтоб он мог добежать до забора и, став на задние лапы, радостно гавкнуть миру о ночном послаблении собачьей жизни, а люди беззлобно отвечали ему: «Чтоб ты сдох, Джульбарс! Как вечер, так нет от тебя покоя. Коновалиха сама дура из дур, и собака у нее такая же».
…так вот, когда это все случалось, – они выходили.
Конечно, справедлив вопрос, выходили бы они, не случись на небе звезд… Или, наоборот, случись у Коновалихи расстройство желудка и ей было бы не до свободы Джульбарса. Так вот – вышли бы они в этом случае или нет?
Должен был сложиться пасьянс из неба, собаки и Коновалихи… Без этого – нет.
Не вышли бы… А там – кто его знает…
Но так как историю надо начать, начнем ее с момента сложившегося пасьянса. Конопухи звезд слабенько мигают, и Джульбарс стоит на задних лапах. Народ желает ему сдохнуть по совершенно нормальному свойству народа желать собакам именно этого. Такой народ – другого не завезли.
Значит, все по местам и занавес истории подымается.
Они выходят и останавливаются точно там, где им пометил режиссер их жизни, – посередке улицы.
Сорока, Панин и Шпрехт.
Трое, скажем, негеройского возраста. Случись война – уже не взяли бы…
Одышливый Сорока никогда не снимает фартук. Он у него от мадам Сороки, а она женщина крупная. С Зыкину, но на голову выше. Потому фартук у Сороки кончается там же, где кончаются и штаны, которые у Сороки короткие и старые, а кто это дома носит новые и длинные? На голове у Сороки шляпа, потому что есть понятие – выходить на улицу в головном уборе. Сорока вообще человек строгих понятий. Первым делом он спрашивает:
– Ты, Панин, конечно, мое поручение не выполнил. У тебя с ответственностью слабо. Тебе говори – не говори…
Панин худой и абсолютно черный лицом, одеждой, глазами и, надо сказать, и мыслями тоже. Это давно ни для кого не секрет, чернота его мыслей.
Интересно, как на черном лице проступает краснота. Впечатление, что Панин загорается изнутри.
– Что еще вам от меня надо? – спрашивает он пронзительным голосом навсегда обиженного человека.
– Я про звезду тебя просил узнать, – говорит Сорока. – Бачишь? Она против всех ярче. Кто она?
– Сто раз говорил – Вега, – кричит пронзительно Панин. – Сто раз!
– Что ты мне лопочешь – роли не имеет. Ты мне обещал показать книжку.
– Где я ее вам возьму?
– Сходи в библиотеку, – спокойно отвечает Сорока. – Ты в ней записан.
– Запишитесь и вы, – возмущается Панин.
– Все брошу и побегу…
– Ну вот и я вам так же отвечу.
Шпрехт переминается с ноги на ногу. На нем драные спортивные штаны, сквозь которые видны волосатые синие ноги, всунутые в розовые с помпонами женские тапочки. Нежность их цвета оттеняет грязь ног, особенно въевшуюся над пятками. Тема грязных ног Шпрехта – это тоже предмет разговора, как и звезда на небе. Никогда не знаешь, какую начнет спикер Сорока. Он всегда успевает со словом раньше других, у него большой стаж по произнесению слов. На этот раз виноват Панин, и ноги Шпрехта утихомириваются в топтании на месте. Дались они Сороке, можно подумать, у самого чище. Вот руки у Шпрехта точно чище, он их всегда протирает «Тройным» одеколоном – и дезинфекция, и лечение суставов. «Тройной» замечательно помогает. Ни водка, ни «Шипр» не идут в сравнение. У Шпрехта два ящика «Тройного». Этого не знает никто, он нес его по улице под видом глицерина. А то бы уже не спастись. Силу «Тройного» народ знает. И для втирания в кость, и от простуды на грудь смоченная тряпочка, ну, и, конечно, для дезинфекции. Это в их случаях дело наипервейшее.
– Плохо играл «Спартак», – говорит успокоившийся звездным поворотом разговора Шпрехт. – Без настроения, не то что раньше.
– Все разваливается, – отвечает Сорока. – Купил хлеб, а он внутри сырой, прямо мокрый. Я случай помню. После войны один раз неудачный хлеб испекли, так зава хлебозаводом на другой же день посадили.
– Это ваши методы, – говорит Панин, – а сорок лет прошло, и что? Хлеб так и пекут сырой.
– У футболистов нет материальной заинтересованности… – идет своим путем Шпрехт.
– Это у них-то? – кричит Сорока. – Когда на всем готовом?
– Тоже ваши методы – все готовое. А мне не надо ваше готовое! – Панин уже совсем зачернобагрел. – Мне оплати как следует мой труд.
– После войны шахтерам платили будь здоров, – вздыхает Шпрехт. – Ценили. А потом все выкинштейн. Сравняли с наземными работами.
– Правильно сравняли, – говорит Сорока. – Вы за-елись. Как короли тогда жили. А что, другие вас хуже? Тот же наземник Панин.
– Так не Панину же шахтерские деньги отдали, а вашему брату. Чинодралу райкомовскому.
– А вы без нас – пыль. Были, есть и будете. Временная буза кончится, и станете по линеечке. Как миленькие.
– Мы уже не встанем. Мы пар отработанный. Наше дело судна выносить. – Шпрехт снял розовую тапку и вытряс из нее камушек. Грязную ногу при этом поставил на землю. Кривые пальцы мяли ее и получали от этого удовольствие. Что он мучается этими помпонами? Снял и вторую тапку, радостно погружаясь в жирную пыль.
– Так потом и ляжешь в кровать? – спросил Сорока.
– Помою, – успокаиваясь соками земли, ответил Шпрехт. – У меня от стирки вода в тазу осталась, мыльная, хорошая.
– Целую машину сегодня перекрутил, – вздохнул Панин. – Валик стал барахлить. Заедает материю. Приходится раскручивать назад.
– Вы ленивые, – говорит Сорока. – Я этих машин не признаю. Никакой буль-буль ничего не сделает, пока на доске не потрешь руками, как следует. И обязательное кипячение. Обязательное!
– Вы, Сорока, здоровый человек, потому что не выработались, разве нас можно сравнивать? Шпрехт всю жизнь на подземных работах, я на поверхности, вы один среди нас ля-ля…
– Захотел бы, вас бы давно не было, – беззлобно отвечает Сорока. – Мы вам рисовали линию, направление… Нормально же жили!
– Спортсмены первые стали бежать, – сказал Шпрехт. – Потому что увидели, как люди живут, где Сороки не рисуют линии.
– Вот именно! – закричал Панин. – Это вам из горной выработки голос. Не с поверхности!
– У тебя детский крем есть? – поверх темы обратился Сорока к Шпрехту. – Ты запасливый.
– А что, у вас нет?
– Не скажу нет, но к тому идет. Махнемся на персоль?
– Я махнусь, – встрял Панин.
– Махайтесь, – сразу успокоился Шпрехт. У него было сто с лишним тюбиков детского крема. Была и персоль в подобном же количестве. У Шпрехта было все, но он не любил меняться и не любил, когда у него просили. Чего это ради отдавать или меняться? Недавно закопал в огороде три килограмма старых дрожжей. Тесто от них не просто не поднималось, оно кисло растекалось по столу и его нельзя было собрать ни в какую форму. И то сказать? Сколько им было лет? Лет пятнадцать, не меньше. Из Москвы привез, из Елисеевского магазина, вернее, с его крыльца. Выбросили тогда к празднику, ну он и покрутился, раз пять подходил к мороженщице. Той женщине, видимо, дали заработать.
После этого он, конечно, подкупал свежие, а эти, елисеевские, пришла пора зарыть. Иногда надо открывать обе створки буфета, там у стеночки можно многое найти, чтоб закопать. Но он это не любит. Это уже крайний случай, когда начинает вонять или покрывается мохом. Шпрехт даже не заметил, что, отдавшись мыслям, остался один, что в одиночестве стоит и мнет землю. А они тут же и появились с вытянутыми вперед руками. У Панина тюбик крема, у Сороки пачечка персоли.
Вырвали друг у друга.
– Ему сто лет, – сказал Сорока, тиская тюбик, – твоему крему.
– А у вас не персоль, а камень, – ответил Панин. – Неизвестно, есть ли в ней сила?
– Сын письмо прислал, – сказал Шпрехт. – Отдыхать едут в Прибалтику.
– Это опасно, – отвечает Сорока. – Там все и начнется, если не выпрямят линию. У них давно голова на Америку повернута.
– Бог их благослови, – говорит Панин.
– Вы не правы, – вмешивается Шпрехт, – мы им всего настроили, а теперь отдай?
– А их спросили? Их спросили? – как всегда, кричит Панин.
– Тоже мне! – смеется Сорока. – Этих спроси, потом чукчей, потом… как их… басмачей, до евреев дойдем… И всех будем спрашивать. Не хотите ли, мы вам построим завод или стадион?
– Каждый народ имеет свой собственный кусок земли. Ему его дал Бог, – не унимается Панин. – Пусть сам и строит.
– У евреев земли нету, оттяпали у арабов с нашей помощью, – смеется Шпрехт.
– Ты тут Бога приплел, – строго сказал Сорока Панину, – вот это самое плохое, что ты мне мог сказать. Ты меня, Паня, напрасно хочешь унизить. Я, Паня, не унижусь, потому что авторитета Бога у меня нет. Вернее, я сказал неправильно. Формулирую точно: не авторитета нет, а Бога нет. И ничего он никому не дал. Землю человек отвоевал у птеродактилей и мамонтов. Потом побился друг с другом и уже тогда укоренился окончательно.
– Значит, вы признаете, пусть без Бога, закрепление за народом определенной земли? Зачем же мы захватили их Прибалтику?
– А передел земли никогда не кончается. Это движущая сила истории, Паня, борьба за территории. Во всем мире так…
– Что – да, то – да, – вздыхает Шпрехт. – Я думаю, придет время и немцы пойдут опять. Они ж в хороших условиях размножаются, им каждому по комнате дай и еще место для машины. А сколько там этой ФРГ? Они захватят демократов, а Польша сама им ворота отчинит. И все пойдет по новой. Яволь, геноссе!
– Ты-то будешь рад, – сказал Сорока. – Ты их язык не забываешь…
– Я способный к языкам, – смеется Шпрехт. – Когда колхозы создавали в Марийской автономной, я быстро стал понимать. И в Грузии когда жил. А немецкий легкий… Машиненгеверен… Это пулемет… Ди зонненшайн… Это значит солнце… Фатер… ж Мутер… Ложится на язык…
– На поганый твой язык, – отвечает Сорока. – А мне вот гордо лялякать по-ихнему.
– Вы, Сорока, не были в оккупации, – кричит Панин, – вы, Сорока, драпанули за Урал…
– А ты что, на передовой был? – Сорока не обижается. – Ну драпанул… – Он объяснял им в свое время: нету у меня храбрости, такая моя природа. Но в тылу я работал по двадцать часов. Конечно, можно это повторить, но Сороке неохота. Ему вообще неохота спорить, ругаться. Он за свою жизнь столько этого имел! А эти беспартийные Панин и Шпрехт от слов не освободились, они в них еще пенятся, шипят. Конечно, и время пришло, что у всех языки развязались. Можно позвонить Миняеву в органы, он хоть там и никто, но напугать этих старых пердунов может. У всех ведь дети… Намекнуть, что может прекратиться их рост по службе, если отец язык мылом не вымоет. Надо, надо будет подговорить Миняева. Поставить ему стакан самогона и устроить тут цирки и баню.
– Про Миняева слышали? – спросил Шпрехт.
Сорока чуть не подпрыгнул, это же надо! Он ведь сейчас думал именно про него!
– А что? – спросил Сорока. – Я ж сегодня никуда не выходил.
– Умер, – ответил Шпрехт. – Встал утром на ноги, за штанами потянулся и шпрехен зи дойч.
– Воздержусь от комментариев, – сказал Панин.
Сорока же был как бы в ступоре. В голове его столкнулись и не могли разойтись мысли. О встрече с Миняевым на случай пугнуть этих трепачей Панина и Шпрехта, хорошая рисовалась встреча, веселая, с самогоном и идеей, и это все напоролось на падающего замертво Миняева, которому судьба даже времени на одевание штанов не оставила. Это нехорошо, размышлял Сорока, одновременно продолжая прокручивать в голове живую мысль, как они сядут за стол с Миняевым и придумают эту хохму с пуганием. Хорошая хохма могла получиться, все в ней где надо лежало, а Миняев, получается, спрыгнул. Сачканул раньше времени.
– Вы так не переживайте, – сочувственно сказал Шпрехт. – Оно ведь… Смерть хорошая… На подъеме… На вставании. Форвертц…
– Подвел меня Миняев, подвел, – сказал наконец Сорока. – У меня с ним дело было…
– Лучше ничего не задумывать, – ответил Панин. – Жить одним днем.
– Так и дня ж может не быть! – вдруг заплакал Сорока. – Еще штаны были не надеваны, а день возьми и кончись…
Он косолапо, старо уходил от них, путаясь в длинном фартуке, закрыл за собой калитку и снял шляпу.
– Пойду и я, – вздохнул Панин. – Почитаю… газеты.
Шпрехт еще постоял посреди улицы. Голым ногам было хорошо на земле, он чувствовал, как пульсирует кровь в мякоти пальцев. «Капиллярная система в порядке, – думал он. – Застойных явлений нет».
Он уходил медленно, размахивая руками с розовыми тапками.
Почему-то ему стало спокойно. Конечно, если разо-браться, то Миняев этому поспособствовал. Пережить человека из органов – вещь приятная, что там говорить. Это рулетка жизни. И хоть Миняев особо ничего плохого ему не сделал, ну беседовал пару раз на тему интереса к немецкому языку, но лицо не ломал.
– Ты, Шпеков, имеешь хорошее русское фамилие. Из бедняков, рабфаковец. Откуда в тебе эта фашизма?
– Я человек, способный к языкам, – как всегда отвечал Шпрехт. – Я раскулачивание в Марийской автономной области проводил на их языке.
– Такого языка нету, – говорил Миняев. – Что это за язык – марийский? Скажи еще ивановский… Распространяешь невежество…
И ничего плохого. Поговорили и разошлись. А вот нэа тебе – приятно организму, что Миняева нет, а Шпеков-Шпрехт есть. По дальнобойной программе жизни так быть было не должно. Но заел у них механизм, заел. «Хорошие новости», – сделал вывод Шпрехт, закрывая калитку. Если так пойдет дело, то и Сорока уйдет раньше. Они с Паниным его отнесут и закопают, и полотенца через плечо повесят, но мысль будут думать одну на двоих. Заломалось у них все к чертовой матери, битте вам, дритте, камарады чертовы.
Шпрехт пошел мыть ноги в тазике с мыльной водой, оставшейся от стирки полотенец. Вода была холодная, жирная, Шпрехт, наклоняясь, тер ногу об ногу.
Наступала ночь.
ЛЕТЧИЦА
…Она молодая и летит. И ее тошнит. Каждый раз она боится, что тошнота сделает свой результат, и тогда – все. Ее выкинут из аэроклуба. Втайне она этого хочет, она даже делает горлом «б-э-э-э!», чтоб убрать спазм и дать волю внутреннему движению, но странное дело: тошнота, какая бы ни была, блевотиной никогда не кончается. Никто даже не подозревает, как ее мутит и крутит!
Ей же не хватает мужества и совести признаться. За время тошноты она разлюбила инструктора, из-за которого приперлась в этот аэроклуб. Все-таки любовь на пятьдесят процентов состоит из понимания, а на пятьдесят из нижних дел. Так вот нижних дел у них не было, она была воспитана в такой строгости, что даже до целования с ней нужно было долго и долго морочиться. Поэтому она в отношениях с инструктором упор делала на понимание. Она просто мечтала, чтоб он скумекал, дурак, до какой же степени ей не нужен самолет! Понял и тактично отстранил от полетов. Он же – инструктор – добивался ее тела внеплановыми вылетами, он думал наоборот, что если сделает из нее рекордистку, то она сама упадет ему в руки голая, как спелая груша. И она его возненавидела, но так как за ней числились высота, часы и километры, то уже неудобно подводить весь летчицкий отряд. Такое было понятие.
Но до сих пор она чувствует, как мучается, как внутренним криком кричит оттого, что летит и ее тошнит.
Она просыпается в поту, по подбородку бежит липкая слюна, она дергается встать к умывальнику и все вспоминает.
Летчица, мать ее так! В ней сто пятьдесят недвижных килограммов, намертво спаянных с твердым настилом кровати.
– М-м-м-м, – мычит она.
Куда подевался Сорока? Он должен почувствовать, что нужен, что ей плохо и ее нужно вытереть. Сила Сороки – в отличие от инструктора – была в понимании. Это ведь он в конце концов ее спас.
Как было? Он нашел ее после полета. Она сидела на траве. Они знакомы не были, но так получилось, что, пока она мучилась в небе города Сталина, Сорока переехал в их поселок, познакомился с ее мамой, и мама попросила его передать для дочери, когда он будет в Сталине, вигоневую коричневую баядерку на пяти пуговицах. Сорока по делам часто ездил в центр, а дочь-летчица приезжала домой редко. А холода вот-вот…
Сорока и увидел девушку на траве под крылом самолета. И подумал: «Ну и ну! Какая страхолюдина».
Он положил сверток к ногам летчицы Зины и ушел в разочаровании, потому что была у него идея пригласить ее на танцы. Не то что у Сороки были проблемы с барышнями – никогда и никаких, но вскормилась идея танцев с землячкой. Пока ехал на «кукушке», намечтал себе девицу статную с переливчатым смехом. И чтоб дрожало у нее от смеха горло-горлышко – Сороку это очень возбуждало в женском роде.
Но получился провал. Синего цвета лицом в зеленой одежде большая и нескладная деваха некрасиво сидела на жухлой траве, а в глазах ее тусклых стояла смерть. Сорока так понял боль, потому что сам был парень здоровый на все сто и все больное вызывало в нем отрицание и отвращение. А отрицание и отвращение и есть смерть. Так понимал Сорока.
А вечером на танцах он увидел девушку, которую себе намечтал, пока вез вигоневую баядерку на пяти пуговицах. Высокая, с тонкой талией и с той самой попой, которую Сорока в женщине уважал. Двумя частями себя барышни могли брать его голыми руками: дрожащим от смеха горлом-горлышком и попкой – чтоб была круглая, направлением вверх, чтоб во все стороны шла от попки искра и чтоб платьице на ней было внатяг.
Сорока аж задрожал. И кинулся через площадку наперерез судьбе. Когда он вел красавицу в фокстроте и она плавно покачивалась в его руках, слова девушки: «А как там мама? Не болеет ли?», до Сороки дошли, как вопрос о его маме, которой у него не было с младых ногтей. Сороку тронул сам ход мысли – от него к его матери. Потому что всякие девицы встречались и по-разному ощупывали. Он уже открыл рот, чтоб сказать, что он сирота, но девушка в его руках вздохнула, и он узнал этот вздох. Та, на траве, дышала так же, но чаще…
– Ай! – сказал Сорока. – Я чуть не вляпался. – И он рассказал, какую он увидел на траве страхолюду, а тут такая красавица, что даже вполне можно рассказать о первом впечатлении – ей ничего не повредит. Девушка засмеялась, и горло-горлышко было у нее самое то!
А потом Сорока приехал и сказал, что с самолетами надо завязывать. Война на носу, и аэроклубовцы пойдут первыми.
– А как же! – гордо сказала Зина.
Но Сорока патриотизм летчицы заломал на корню. Не потому что Сорока был человек плохой и родину не любил. Любил! Любил! Но и войны боялся тоже. И в голове своей он все давно нарисовал на случай нападения, мобилизации и прочее. Такими мыслями не поделишься даже с самым лучшим другом, но пребывать в тайном капитулянт-стве в одиночестве было тоже неуютно. Сороке нужен был кто-то, кто не осудил бы его, а понял. Зина была стопроцентно тем человеком. Выводя ее из будущей войны, он делал ее как бы своей соучастницей, хотя на самом деле, по разумению нормальному, не траченному идеологией, поступал Сорока правильно. Девчонка погибала в своем аэроплане, ненавидела его, а сказать стеснялась. Он пошел куда надо и сказал, что берет Зину замуж, потому как он человек порядочный. Зина в первую минуту была в полном охлупении, потому что мысль, что она такая, была для нее столь же невыносимой, что и тошнота в самолете. Но опять же здоровый смысл, помимо верхних, поверхностных чувств, какими бы значительными они ни казались, провел свой тайный и правильный подсчет: выйти за вполне симпатичного Сороку приятнее, чем быть летчицей-мученицей, даже если ради этого придется пройти через стыдливое покраснение лица от возможных намеков. Войны ведь еще не было, и если, не дай Бог, случится, то тогда будет другой разговор. Она комсомолка. Она с понятием. Может, и полетит снова.
Они и поженились. А когда уже загрохотало на самом деле, Сорока в два часа устроил им эвакуацию, а себе белый билет на туберкулезной основе. К тому времени Зина уже понимала: муж у нее мужик непростой. Иногда хотелось вникнуть, нырнуть как бы в глубину сорокинской сути, но что-то ее останавливало. «Не хочу знать!» – говорила она себе и была очень и очень права. Потому что чем дальше, тем больше любил ее за это Сорока. «Какая женщина!» – думал он о собственной жене, когда она мимо глаз пропускала все его шашни, гульки, а то и просто распутство, в которое Сорока время от времени впадал, как в грипп. В последние годы, когда они выстроили дом, когда женили сына, когда зацвели во дворе у Зины все невероятные цветы, Сорока просто с катушек полетел – ширинка у него уже не застегивалась, а бабы вспархивали из-под него, как вспуганные курицы, так вот даже тогда Зина величественно и индиферентно к сорокинским страстям носила свое необъятное тело. Пусть его… Он все равно приходил и угревался рядом, и она придавливала его своей могучей рукой, а он, в каком бы ни был состоянии, целовал эту руку, покусывал ее губами, урчал, так и засыпая с причмокиванием. Зина лежала в темноте и улыбалась. Она знала мужа как облупленного, хотя никогда не лезла к нему ни в душу, ни в карман. Этот мужчина, придавленный ее рукой, был главным Сорокой. Случись что с ней, ему без нее не выжить…
– …М-м-м, – мычала Зина, – м-м-м… Но Сорока все не шел. Она знала, как это будет: горячим варом зальет ей голову и она перестанет соображать. Очень может быть, что она еще останется живой, но знать про это уже не будет. Вот этого она боится больше всего. Конечно, для Сороки не изменится ничего. Он ведь не знает, что она думает, чувствует, понимает, что она все помнит и даже переживает какие-то другие непрожитые жизни. И ей это интересно! Например, она прожила от и до жизнь с инструктором. В этой жизни ее не тошнило от самолетов и у нее была дочь – не сын, – такая беленькая куколка, с родиночкой над губкой. Свадьба дочкина была очень! Она ее выдавала за космонавта Джанибекова. Очень красивый мужчина, и дочка с ним смотрелась, как Людмила Целиковская из фильма «Сердца четырех». Интересны были и другие варианты жизни и с Сорокой. Сорокой – военным. Сорокой – секретарем обкома. Сорокой – известным артистом. Но на этом варианте она сбивалась. Сороку вытесняли знаменитые лица и получалось – жизнь не с ним, а, к примеру, с Дружниковым, но тут ее мечты сбоило. Ведь Зина строила их из костей и мякоти реальности, прочитанной, подсмотренной, а актеры… Что она про них знает? Какие они утром? Как пахнут их внутренности? Они же люди… Ходят в уборную… Бывают запоры… Гнилостные насморки…
Вот почему она боится горячего вара в голову, кончится пусть неподвижная, но жизнь, а Сорока не идет и не идет… Зина начинает нервничать, и у ее губ вырастают пузыри.
Сорока успел. Вбежал зареванный, схватил чистую хусточку, вытер Зинины губы, привычным жестом ощупал пеленку.
– Молодец! Умница! – сказал и сел рядом. – Я чего пристрял. Миняев умер. Помнишь Миняева из органов? Он еще под меня рыл при Хрущеве. Просто так… Чтоб рыть… Это в нем было главное… Я ему тогда тоже подложил. Пока сам отмазывался, про меня забыл. Это мы так любили поиграть… Любили… Вот и нету мужика… За штанами потянулся… и кранты. Я вот думаю, почему это часто связано с одеждой? Вон и у тебя случилось, когда ты платье надевала… Хоть ходи голый, е-мое… Ходи ты тогда в халате, может, ничего и не было бы… А тебе зачем-то понадобилось напялить это чертово польское платье. Спалю завтра же… Все равно ведь ножницами разрезано, чего лежит?
Никто не знает, что Сорока до сих пор спит с Зиной. Ложится рядом на твердый широкий щит, который они сбили с Паниным, ложится, чтоб лицом прижиматься к недвижной Зининой руке. Рука теплая, мягкая, в общем, живая рука. Она только не может подняться, чтоб накрыть Сороку. Но это ничего… Это не так важно… Важно, что она живая. Хотя и мертвая. Сорока убежден, что Зинин мозг не фурычит.