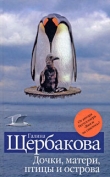Текст книги "Время ландшафтных дизайнов"
Автор книги: Галина Щербакова
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 8 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]
Я стала собираться к родителям. Обычно я несу им заметки, которые удались и которых не стыдно, но тут я была озабочена другим. Мне хотелось хорошо выглядеть, мне хотелось быть потрясающей, что, безусловно, невозможно, потому что в самом лучшем своем виде, что называется на все сто, я не потрясающая девушка. Отнюдь, как сказал бы Гайдар. Кто-то тогда остроумно заметил, что человек, пользующий это слово, обречен на непонимание и презрение народа. Так все и случилось. Но сказано это было позже этого дня желания выглядеть потрясающей. И тем не менее я взялась за эту неподъемную работу. Я подняла волосы вверх, чтоб быть еще выше. Я перевязала их свернутой в шнур зеленой косыночкой, а кончики ее спустила небрежно на уши. Где-то я такое видела. Это было симпатично, но это было не мое, но ведь и я была не я. Я была брошенная жена, у которой съели продукты. Я надела рыжую гофрированную блузу с крупными наглыми зелеными пуговицами, которую купила в переходе, потому что пуговицы были «полный атас», и удержаться было невозможно. Я ни разу ее не надевала. Юбка была традиционная, черная, сзади разрез вполне пристойный с тремя пуговичками. У меня не было зеленых или рыжих туфель, но это было бы чересчур, поэтому белые кроссовки, в которых мне удобно, не показались дурным тоном. К нам на факультет приезжала американка в декольте с золотым кулоном и огромных мужских, по-моему, вполне футбольных бутсах. Будем делать жизнь с нее. Сумка же цвета водорослей у меня была. Я ее не носила, потому что она жесткая, с острыми углами, а моя слабость – мягкие мнущиеся сумки. Но сейчас в бой шла зеленая. Мы вышли одновременно на площадку с соседом, лет тридцати пяти, широкие плечи и ранняя плешь. Он помогал Мишке втаскивать в кухню холодильник. Мишка потом расплачивался за это много раз: тащил тахту, помогал вешать люстру и еще что-то. Я с соседями не общалась никак. Его жена была сурова и, видимо, его старше, за ней приезжала машина, она была дама важная – главбух какой-то большой фирмы.
Ну что вам сказать? Сосед на меня клюнул и сопровождал меня до самого метро. Я задевала его невзначай жесткой сумкой, а он, идиот, даже стал подставлять ногу, чтоб я чаще попадала. На прощание он сказал, что все мы забурели, а надо бы домами встречаться, соседи – это вторая родня. Вот так, еще в доме пахнет воровством, а уже в просвет двери просовывается клюв соседа.
– Заходите! Заходите! В любой момент! – чирикнула я. «Это уж перебор», – прошипела подкорка, но я послала ее поглубже и подальше. Вся в зелени, как остров невезения, я приплыла к родному дому. Почему-то именно сейчас я подумала, насколько я отвыкла от него. То есть, конечно, я тут родилась и выросла, отсюда ушла в замуж, здесь мама принесла мне вату в марле, когда я с растопыренными ногами стояла возле кровати. Нет, я, конечно, знала, что это будет. Но у меня случилось раньше других, что оскорбило маму. Она мне так и сказала: «В этом мы, кажется, первые, да?» И мне хотелось загнать кровь вспять и стать сухой и чистой, но так ведь не бывает. Папа в детстве меня учил: «Всякое явление имеет две стороны. Будешь проходить физику – поймешь. Плюс и минус, да и нет, огонь и вода, жизнь и смерть – они существуют в единстве. Ничего не бойся».
Выслушав гневную претензию мамы к моей ранней менструации, я призвала на помощь папину науку. «Пусть! – сказала я. – Во всяком случае я через это уже прошла. У меня это уже случилось, а вам, дурам, всем знакомым девчонкам, этого ждать и ждать».
Мама удивилась, что я ни капельки не переживаю, что я спокойна, как мертвый мамонт, и, как почувствовала мои мысли, сказала напоследок: «Не вздумай там хвастаться перед подружками. Нашла чем!»
Но я похвасталась. И мне завидовали. Боже! Как они мне завидовали!
Что за воспоминания навевает на меня приближающийся дом с польским судаком. А в голову действительно лезет всякая чушь. Как я впервые села на собственный велосипед, и папа бежал рядом, он не знал, что я научилась ездить раньше, в соседнем дворе мне давал покататься мальчик в брюках, защипленных внизу прищепкой. Видимо, я ему нравилась, потому что он не давал велик никому, кроме меня. Где ты, мальчик? Но папа не знал и бежал рядом, не знал он, что я как раз хочу свернуть в соседний двор и показаться мальчику, он схватил меня за руль и повернул обратно. Потому что мама кричала с балкона: «Со двора ни шагу!» Глупо как, думала я. Какие же у велосипеда шаги? Надо кричать: «Со двора ни одного оборота!». А еще лучше: «Со двора ни колеса!» Я открываю старую-престарую дверь подъезда. Дом строили после войны, ему почти полсотни лет, он обтерхался, он скрипит, сопит. В лифте я еду долго, такой медленный лифт, и я еще не знаю, что скажу родителям.
– Что за вид? – спрашивает мама, увидев меня. – Я просто сказать не могу, на кого ты похожа.
– А мне нравится, – говорит папа. – Как-то свежо и современно.
– Быть современным этому времени – неприлично, – чеканит мама и уходит в кухню. В доме пахнет лимоном. Папа весь жухлый. После того как распался их НИИ, он просто тает на глазах. Меня так скручивают боль и жалость, что я забываю о своих новостях. Я сажусь рядом с папой, рассказываю, что на радио понравились мои музыкальные обзоры, а они получились случайно, это не моя тема, мне интереснее политика.
– Это замечательно, что ты уже можешь выбирать. Представь, раньше тебя распределили бы, куда сочтет партия – и все. Шагай со ступеньки на ступеньку, и никому нет дела, чего тебе хочется на самом деле. За одно за это – за право выбора – спасибо переменам. А то, что нас с поля вон, может, и правильно. Мы отстали от жизни.
– Еще спохватятся, – кричит из кухни мама, – да будет поздно.
– Она надеется на вспять, – тихо говорит папа. – Ты знаешь, что это такое?
– Ну, папа, – бормочу я. – Я слова знаю.
– От слова воспящать – препятствовать, посылать назад, мешать, задерживать. Какие сильные глаголы! Я не хочу назад. Даже за счастье видеть тебя маленькой. Помнишь, как я тебя учил кататься на велосипеде?
Значит, мы одновременно с ним спускались в одно и то же прошлое. С папой так сплошь и рядом.
– Когда придет Мишаня? – кричит из кухни мама. Если бы она вошла и спросила нормальным голосом, я не знаю, как бы все пошло. Но она кричала, и я крикнула в ответ:
– Никогда!
– Что значит никогда? – она уже тут, в комнате.
– То… – отвечаю я и чувствую, как у меня взвизгивает от боли душа, а этого нельзя позволить ни в коем случае. – Мой муж – уже бывший муж – покинул меня, съев предварительно продукты.
Да, да! Надо напирать на этот нелепый факт, так нам всем будет гораздо легче.
– Опять поссорились? – почти ласково спрашивает мама; раз я юморю о продуктах – значит, все остальное тоже можно превратить в шутку.
– Мама! Мы никогда не ссорились, – отвечаю я, – ты это отлично знаешь. Я это просто не умею. Мишка действительно ушел, с вещами и тем, что считал своим. У него другая женщина, и, как он объяснил сам, уже два года.
У мамы такое лицо, что его хочется стереть, а вот у папы оно белое-белое, и это меня пугает. Я тихонько беру его за руку и сжимаю ее.
– Родители! – говорю я. – Горе не беда! – Это мое детское выражение, которое оправдывало все огорчения – от разбитой коленки до возможности тройки в третьей, главной, четверти. Никогда такого не было, но паника у мамы была. Горе не беда как выражение было забыто напрочь, стоило мне уйти из этих стен. И вот на тебе! Я держу вялые холодные папины пальцы, вижу напрягшиеся скулы мамы и кончик ее языка, которым она облизывает высохшие в миг губы – это у нее такая природа: от плохих вестей, от несчастий и неприятностей у нее сохнет во рту, и губы делаются сухими до трещин. Ну что мне с этим делать? Что? «Горе не беда, – повторяю я. – История из тех, что сплошь и рядом. И, поверьте, я точно не уверена, но кажется, меня это не очень и огорчает. Ей богу! Я даже хохотала, увидев пустой холодильник».
– Ну и молодец! – тихо говорит папа. – В нем всегда недоставало красоты души.
– Ах, брось! – кричит мама. – Можно подумать, мы все красавцы. Ты говоришь – женщина? Ты ее знаешь, кто она?
– Откуда, мама? Понятия о ней не имела, в голову такое не могло вспрыгнуть. Вот это меня задевает. Два года я была дурой.
– Два года? – потрясена мама. – И ничего не заметила? Ты на самом деле дура, даже идиотка.
– Не смей! – кричит папа. – Если Михаил оказался человеком с низким порогом морали, то при чем тут она? Мы все были слепы. Все! И не казни себя, детка, вся жизнь – цепь разочарований в близких людях. Так немного их остается напоследок. Видимо, это должно облегчать уход из жизни. Разочарование – приближение к окончательному одиночеству.
– Не пори чушь! – кричит мама. – Нагородил сорок бочек арестантов, самому стыдно? Да?
Папа машет рукой, мол, да, стыдно. А я так перепугана его словами, его бледностью и холодными пальцами, что, появись Мишка, я бы его убила, просто не задумываясь.
– Мама! – говорю я жестко. – Кончим тему навсегда. Я свободна от постоя. У меня, слава Богу, есть вы, есть профессия, есть квартира, на которую он претендовать не будет. У его новой жены есть, куда его взять. Пусть берет. И вы должны это воспринять как начало нового периода моей жизни…
– В честь него этот зеленый маскарад?
– Именно! – говорю я. – Я не буду страдать, потому что, во-первых, не хочу; во-вторых, не стоит того. Два года лжи из пяти – это сильный аргумент для оценки события.
– Умница! – говорит папа.
– Ну и черт с ним! – вдруг говорит мама. – Идемте есть рыбу.
Честно скажу, я ждала больших потрясений, но мы с аппетитом поели явно удавшуюся рыбу. Попили чаю с маминым вареньем из апельсиновых корок, и я засобиралась домой.
Мама положила мне в судочек рыбу на вынос, кусок сыра, пачку юбилейного печенья; глаза ее рыскали, чем бы меня одарить еще, но я стала ругаться, что мне ничего не надо, а между громкими словами я исхитрялась вставить тихие – про папу, что он сдал и за ним нужен глаз да глаз, на что мама махнула на меня рукой. Мне не понравилось это: как она так может? В результате ушла с беспокойством, благодатным для того крошечного стона, что сидел в душе, поскуливая, как побитая собака, и ждал выхода.
* * *
Честно, я боялась возвращаться в пустую квартиру, в одинокую ночь. Но не звать же кого-то на помощь? Совсем позорно. Сгодился бы случайный, свалившийся на голову человек, эдакая жертва авиационной катастрофы, которому повезло упасть в стог сена. Но где в Москве стог сена? Я стала перебирать, на что в Москве можно упасть с неба и не разбиться? Нет висячих мостов и садов, нет домов с мягкими крышами, а разве такие бывают? Нет, авиационную жертву мне не найти, но годился бы и сброшенный в кювет человек с перело… нет, лучше ушибленной ногой, которому бы пришлись бы моя протянутая рука и плечо одновременно. Возле своего дома я даже поозиралась, но это, видимо, был день без аварий. На редкость спокойный день сентября девяноста третьего. Белый дом будет гореть еще через неделю. Но к тому времени я уже буду совсем другая. Пока я этого не знаю.
В доме все-таки пахло воровством, хотя я оставила открытыми форточки. Пленка, обрамляющая пятно на стене бывшего батика, частично обвисла, и это выглядело отвратительно. Я сунула мамины продукты в холодильник, сняла с себя зеленый цвет невезения и стала думать, что мне делать целый вечер.
И тут раздался телефонный звонок. Конечно, это мама. Я обещала маме сразу отзвонить, но меня сбила с толку обвисшая, какая-то невероятно жалкая пленка на стене. Я, наверное, долго ее обдумывала. К тому же она оставила после себя грязный след, и теперь мне обязательно надо хоть чем-то прикрыть этот срам.
Но это была не мама. Мне звонила Танька. Ей пришлось дважды повторить, кто она, пока до меня дошло.
– Мартышка к старости слаба мозгами стала, – как бы извинилась я.
Потом я попросила ее положить трубку, чтобы я могла сказать родителям, что со мной все в порядке, а потом я перезвоню ей.
– Нет уж, – сказала Танька. – Ты забудешь. Я сама перезвоню через десять минут.
Мама сказала, что только что дала мой телефон моей однокласснице («Тебе сейчас полезно общаться с разными людьми»), спросила, почему я долго не звонила, я хотела ей сказать, что искала по дороге жертву катастрофы, но это было бы чересчур: объяснила, что брела медленно.
– Скажешь потом, что от тебя было нужно этой Тане? Ты ведь никогда с ней особенно не дружила?
– Скажу, – ответила я и положила трубку. Телефон зазвонил тут же.
– Я узнала твой голос по радио, когда ты гнала пургу про музыку. Ну, знаешь, кончить с отличием универ и заниматься такой глупостью могла только ты. У тебя все мимо дела…
– Если ты позвонила, чтоб хамить, то давай кончать. Ладно? Не твое это собачье дело, девушка, указывать, что мне делать или нет…
– Брось! Не кидайся, как ротвейлер. Я на самом деле высокого мнения о твоем потенциале (Матка боска ченстоховска! Какие слова! Откуда их знает троечница жизни Танька-тупица? Правда, с чего это мой высокий эйкью изрыгнул матку боску, это мне еще надо разобраться. Видимо, я буду теперь женщиной с неожиданностями).
Конечно, я не слышала, что щебетала эта прилетевшая на аварию птица, и я, выталкивая из себя собственные мысли, начинаю (продолжаю) слушать трубку.
– …круг интеллигентных людей. Понимаешь? Тех, кто может разговаривать за чаем и кофе, а не только за водкой. Приведи мне такой народ, подруга.
Самое главное я прослушала, а сейчас я тупо смотрю на пятно на стене. Чтобы выкрутиться с Танькой, уместно ли будет ее пригласить? Мне бы только справиться с пятном. Вот справлюсь…
– Тань! – говорю я. – Я плохо врубилась, я только от родителей, папа нездоров, прости Христа ради, но до меня не все дошло.
– Я к тебе приеду, хочешь?
– Хочу! – говорю я.
– Ну так я у тебя буду через полчаса. Мама мне сказала твой адрес.
– Через час, – жалобно говорю я. – Можешь через час?
– Без проблем. – И трубка замолчала.
У меня час времени. Час! У меня ничего – ни настенного календаря, ни вышивки, ни куска от ковра, ни просто пестрой тряпки, которыми я могла прикрыть это бесстыдное окно в мою вчерашнюю жизнь. Я лезу в стол и вижу пачку фломастеров, которые мы покупали с Мишкой, собираясь идти на день рождения к сыну его коллеги по работе, но у ребенка случилась корь. Я говорила: «Передай подарок через папу. Пусть дитя рисует в болезни».
– Я сроду это дитя не видел, и он понятия не имеет, ни кто я, ни кто ты. Получается, что я как бы навязываюсь, а это не тот случай.
Короче, новенькие с иголочки, дорогие, импортные… Я тогда подумала, что в моем рисовальном детстве такой красоты не было. Я рисовала только цветными карандашами, красками у меня не получалось.
И я взяла неподаренный подарок в руки.
Через сорок минут с обоев на меня смотрела я, девушка-шарж в зеленых тонах, с ехидным взглядом и кончиком языка (мамина деталь) в уголке губ. Косынка в волосах была яркой, вызывающей, и, крест, святая икона, в шарже была какая-то сумасшедшая энергетика. Во всяком случае моя комната заискрилась и как бы стала подмигивать. Следы от пленки, что называется, «стухли». Конечно, Танька меня спросит, что, у меня нет бумаги, а я скажу – есть. У меня все есть. Но мне захотелось так. Дело в том, что нарисованная я как бы делилась со мной собственным характером, не моим, а скрытым в ней. Может, мама и не признает в ней меня и спросит, что за наглицу (мамин неологизм) я изобразила, но я-то знала, что рисовала себя, но только без стона в душе, без этой сидящей во мне изначально «богом прибитости». Одним словом, брешь в стене была заделана. Я спрятала фломастеры, а феном подсушила краски. Это был мой способ подстарить картинку, другого просто не существовало.
* * *
Танька была хороша собой, одета с иголочки, пахла каким-то волшебным парфюмом. В руках у нее была бутылка дорогого коньяка и огромный лимон.
Она просто рухнула передо мной настенной, она стояла с открытым ртом и бормотала какие-то неведомые мне слова. «Самое то, самое то… Это будет манок, фирменная закуска к чаю… Ё-мое! Гениально!»
– Кто рисовал? – спросила она очень строго и серьезно, а я ведь ждала улыбку, иронию, ну не «Шоколадница» же все-таки… Хреномазня.
– Кто, кто? – смеюсь я. – Дед Пихто. Сама умею.
– Инга! – кричит Таня, обхватывая меня всю. – Инга! Мы увидим небо в алмазах! Клянусь тебе. Или в чем должно быть небо, чтобы было счастье?
– Счастье – беспредметно, бестелесно, оно без вкуса, без запаха. Оно – дух, – говорю я как по писаному, сама себе удивляясь, но одновременно абсолютно точно зная, что говорю истину. Потому что я ее как бы знаю. Ну, не дура ли?
– Дура, – смеясь, подтверждает мои внутренние сомнения о себе самой Танька. – Счастье без предметов счастья – ложь. Ну, как твоя квартира без этой картинки (ни фига себе). Оно – счастье – очень и очень телесно, потому как осуществляется исключительно через человека и его чувства. А отсюда у него и вкус, и запах.
– Танька, – говорю, – почему в школе тебя считали дурой? Ты притворялась ею? Какая была в этом твоя выгода?
– Вы мне – тупице – оставляли место и время быть с самой собой. Пока вы пороли чушь на ваших дурьих дискуссиях, я тихо мудрела от несогласия с вами. Но я стала бы вами, вылезь я со своими соображениями. Набирать ума надо тихо и молча. Но не об этом речь, подруга. Значит, так. Как я тебе уже сказала, я открыла чайную для умных. Но приходят случайные люди, это их право, и нету кайфа. Нету! Ты крутишься среди журналюг, я хочу, чтоб ты их привела ко мне, не скопом, поодиночке. Я хочу их приручить. Эта идея у меня родилась, когда я узнала твой голос по радио. Теперь у меня две идеи. Я отдам тебе стенку, и ты будешь делать шаржи на моих посетителей. Которые или знамениты, или просто фактурны. Я буду хорошо платить. Моя маленькая фирма по уборке квартир вполне процветает, а чайная мне нужна для души. Я буду присаживаться к гостям, буду их удивлять, обольщать, интриговать. Тебе я сделаю костюм художника тюбика, стремянку на колесиках. Будешь работать два раза в неделю. Заполнится стена, я вырежу картинки, зафигачу их в красивые рамки и устрою аукцион. Это будет здорово, без пьяни, брани, и как будто небо уже в алмазах.
– Эта штука, – сказала я Таньке, показывая на себя самою, что на стене, – получилась случайно. Знала бы ты этот случай…
– Рассказывай, – потребовала Танька.
Я рассказала ей все, что не могла сказать родителям. Про письмо. Про батик. Про то, как я обклеивала это место («Видишь?»). Про то, что ванная комната стала как бы больше без халата мужа. Про съеденные продукты, про мой зеленый выход к папе с мамой, про рыбу по-польски, которая у меня есть («Хочешь?»), про поиски жертвы катастрофы, в сущности, поисков того, кому хуже…
– А потом позвонила ты… – закончила я.
– Ясно, – ответила Танька, – тебя надо было давно бросить к чертовой матери, чтоб ты обрела себя и начала понимать свою цену. Болезненный, но очень продуктивный путь. Поработаешь со мной, я организую тебе разочарование покруче, и кто его знает, кем ты обернешься после этого.
– Ну и гадина же ты!
– А ты не обрастай жиром! Отличница долбанная. Правильно, что твой мудак съел продукты, ты ж небось не знаешь что почем?
– Да пошла ты! Все я знаю. Хожу на базары, тащу сумки, кручусь с копейками, пишу сразу в три-четыре места. Нашла тоже девочку не от мира сего.
– Ладно, не обижайся. Давай выпьем за нашу общую чайную. Коньяк у меня не из общей бочки, а ты что-то там говорила про рыбу по-польски.
Мы засиделись заполночь, и я стала беспокоиться, как Танька будет добираться.
– Девушка! – сказала она. – Я бизнес-вумен, у меня машина с шофером стоит и ждет меня сколько надо. А с Ляськой няня. И умоет, и уложит, и сказочку почитает.
Так, уже почти на выходе гостьи, я узнала, что у Таньки дочь Алиса пяти лет. Тут я вспомнила оборванный подол моей свадьбы и то, какая тогда расплющенная была Танька. Она тогда сказала, что беременная, но не сказала от кого. Но собственная свадьба – это куда громче. И я не сообразила, что она сдавала выпускные, будучи беременной на пятом месяце, потому не была на выпускном.
– Никто не знал? – удивляюсь я через столько лет.
– Никто, – подтвердила Танька. – Даже мамка. Я боялась, что она меня потащит на чистку, а мне пообещали замуж со всеми делами. Это был мамин любимый брат, ему был уже полтинник, но он на старости лет был готов бросить семью и то, и се. Так на меня запал. Мне ой как хорошо было с ним, такого мужика у меня больше не было. Но умер он в момент, за столом, очень может быть, что на мне надорвался. Но я никому ничего не сказала. Легче мне от этого было бы? Нет. Там жена – рохля, дети – косорукие. Да и мать бы зашлась в истерике. А так все просто, как во веки веков: нагуляла. А то, что дочка – копия отец, сомнений не вызывает, все-таки двоюродный дедушка. Эх, Инга, как мне его хочется, знала бы ты!
– Прям мексиканский сериал какой-то, – бормочу я. – А что дочери говоришь? Папа – летчик-герой или кто?
– Нет, говорю, что очень был хороший дяденька, маму любил так, как никто любить не сможет. А эта засранка спрашивает: а это как?
Мы нежно целуемся на прощание и договариваемся, что днями я приду к ней в чайную посмотреть, что да как.
Маме звонить уже поздно, я мою посуду после двух людей, и длится, длится это состояние как бы ничего не случившегося. Потом я выпиваю еще одну рюмку коньяка, чтоб скорее уснуть, – мы бутылку едва почали, это мне неполезно, начинается стук в висках. Так всегда, спиртное не приносит мне радости. Я буду маяться головкой, а к утру, может, и усну.
У меня нет в доме другого места для сна, чем наш общий раздвигающийся вперед диван. Теперь я могу не греметь деревяшками. Ощущение, что я легла на краю пропасти. Ощупываю ребро дивана с ужасом, мне на самом деле страшно, и я вжимаюсь в стенку спиной. Это чертов коньяк фокусничает с сознанием. И я не могу вдолбить в пульсирующий мозг, что пропасть – чушь, что я всю жизнь до Мишки спала на узенькой так называемой «ладье» – было такое мебельное сооружение для девочек. Оно было твердое, за десяток (ну, приблизительно) лет я умяла хилый поролон до основания, а затем уже мама купила стеганое одеяло для подкладывания на днище, и мы вечно не знали, куда его притулить на день. Нынешнее ложе у меня упругое, и мы не уработали его с Мишкой до крайностей. И если бы у меня была дочь пяти лет, я не смогла бы ей сказать, что ее папа любил меня как никто. Но ужас в том, что какой бы фригидной я ни была и каким бы негорячим ни был мой ушедший муж, мне плохо без него, так плохо, что если бы конец моего одинокого ложа на самом деле заканчивался пропастью, то я бы сделала резкий поворот кругом и ринулась бы вниз и – пусть! Мне так жалко себя, что ни на кого другого сил нет. Я понимаю, что это эгоизм высшей степени, когда человек уже, может быть, и не человек вовсе, когда ему все равно, что есть папа с такими холодными пальцами и такими больными глазами, и принести ему боль – значит, быть уже совсем гадиной. Как это в маминой песне «Был никем – стал всем». Я стала бы неоригинальным убийцей, потому что важно не то, что я сама убилась бы, а то, что я не пожалела другого и убила его. Почему в этом случае я не думаю о маме? Потому что мама пережила бы мою смерть, а папа – нет. И это не изъян маминого отношения ко мне, а свойство ее природы. Она живуча, она борец, а папа нет. Папа – человек для нормальной жизни, мама – для нашей. Есть же такие материалы, нержавеющая сталь, огнеупорный кирпич, непотопляемые пластмассы – да мало ли что! Человеки тоже всякие. И сейчас мне важно выяснить: а я кто? Из каких я дров? Мне кажется, что я так и не уснула. Но это неправда. Неспящие снов не видят. А я видела сон.
…Я как бы сплю на огромной, как футбольное поле, постели. И рядом люди, под разными одеялами, кто храпит, кто дышит открытым, как лунка в земле, ртом, кто занимается любовью, я вижу это по вздымающимся одеялам. Вокруг меня дети. Они не спят. Они таращатся. И я делаю из одеяла халабуду, чтоб принять под ней детей, чтоб они не видели это бурное шевеление тел. «Им надо спеть колыбельную», – говорю я себе. Но я не помню, не знаю ни одной колыбельной. И я бормочу это извечное «баю-бай» и понимаю, как это бездарно – не знать искони женских слов, и от гнева на самоё себя я начинаю ненавидеть эту всеобщую постель и тихо возвращаюсь на узость моего ложа с простой, жалкой и несонной мыслью: я привыкла к дышащему возле меня человеку, я не успела его не полюбить, даже если и не кувыркалась с ним, как эти люди, от которых я прятала чужих детей. Я брошенная женщина, у меня унесли батик и съели продукты, и у моего отца плохое сердце (холодные руки и синюшная бледность), мне полагается быть опорой родителям в старости – так меня учили, и так я это и понимаю, – а я никакая не опора, если я боюсь упасть с кровати, что глупо до идиотии. И я поступаю соответственно ей же. Я борюсь со страхом дурьим способом – падаю с кровати. Конечно, не разбиваюсь и даже не ушибаюсь. Я же падала нарочно, поэтому инстинктивно была осторожна и осмотрительна. Теперь я на полу. Вижу пыль под кроватью в тех местах, до которых не достигала щетка. Вижу всю комнату с позиции лежа. Очень интересный обзор. Вижу себя рисованную (уже ведь рассвело) на стене с кончиком мокрого языка в уголке рта. Нет, фломастерная девица не стала бы побеждать страх падением. Судя по ее ухмылке, она сроду не была бы одной в моей ситуации. Она бы уже кого-нибудь нашла, и не жертву там кораблекрушения, которую я искала, а капитана, проведшего корабль сквозь айсберги и всякие там бермудские треугольники. Не нужна ей жертва. Не такая она (я). И вскакиваю, как клюнутая в задницу, и начинаю убирать постель, а потом, лежа на пузе, я вымываю ту пыль, которая жила и горя не знала до этих моих снов-превращений. Мне даже ее жалко – пыль. В сущности, она ведь тоже жизнь, и еще неизвестно какая. Может в ней, в пыли, и скрывается то, что должно остаться от наших мыслей и чувств, куда-то же они деваются? Может, в стертой мной пыли была Мишкина прошлая нежность ко мне. Чего бы мы женились, нас ведь не силой в загс вели? И он мог вспомнить эту нежность сегодня, лежа в постели с другой, и ему стало бы стыдно, и он вернулся бы. Но теперь я сама порвала нить, у него нет сюда дороги, ну хоть загоняй пыль обратно. Но ее уже нет! Она вся в грязной воде ведра, Мишкина абыкакая нежность. И я выливаю ее в унитаз.
В общем, целое утро я борюсь за чистоту. Я тру подоконники, я размораживаю пустой холодильник. Я двигаю туда-сюда телевизор и кресла. На одном из кресел, под клетчатым полупледом (плед разрезался на две части для двух кресел), я обнаруживаю старенький, даже старинненький гобелен. Боже! Я и забыла про его существование. Когда я переезжала в эту квартиру и мама делилась со мной посудой, бельем и прочей бытовщиной, она встряхнула этот гобелен и сказала:
– В сущности, эта рванина – единственная стоящая вещь, которая когда-либо была у нас. Ей лет сто, а может, и больше, но, смотри, она до сих пор серебрится. Возьми, может, что-нибудь накроешь. Гобелен полежал на кресле, пока мы не купили красивый клетчатый плед (черные и красные квадраты и треугольники) и не разрезали его пополам. Гобелен был забыт. И не устрой я всеобщее изгнание пыли (будь ты проклят, Мишка, со всем, что там у тебя было ко мне и чего не было), я бы его и не вспомнила.
Сейчас я держала в руках эту «рванину», и она серебрилась, переливалась, и я, можно сказать, впервые разглядела его сюжет. Естественно, замок вдали, как же без него? К нему, естественно, аллея. И две фигурки – он и она – то ли идущие навстречу друг другу, то ли расходящиеся. Мешал это понять фонтан, который их разделял. Конечно, гобелен был ветхий. Конечно, победительными на нем оказались только серо-серебряные нитки, другие выцвели, поблекли. Но когда я приложила его на себя фломастерную, выяснилось, что он закрыл грязное пятно батика, что от утреннего света он как бы облегченно вздохнул, фигурки на аллее задышали, и мне даже показалось, что они сблизились, что, конечно, эффект другой точки смотрения, с которым я уже сталкивалась, лежа на полу.
Во всяком случае комната моя приобрела пристойный вид. Гобелен победил батик. Девушка с мокрым языком исчезла под ним – и слава Богу. Пусть остается втайне, как напоминание об ушедшем Мишке и встрече с Танькой, в голове которой родились всякие дурацкие идеи, за которые я не отвечаю и которые мне не интересны.
Старый гобелен как начало новой эры. Мне надо писать статью о молодежном театре августовско-баррикадного происхождения. Я боюсь собственной необъективной страстности, потому что театр – мой по духу, по убеждениям. Я знаю, чем это чревато: снисходительностью к художественным просчетам, но ведь это почти обязательное условие театра революционных перемен? Но сейчас я просто не могу об этом думать. Я брошенная жена. Я спала – не спала в одинокой постели. И кроме предложения рисовать на стене пьющих чаи и кофеи, я за это время ничего не получила взамен. Боже! Но какое же время! Прошло всего ничего – семнадцать часов от момента Мишкиного письма в моей жизни. Что же, я теперь так и буду считать часы, которые станут отвратительно длинными и тягучими, как жвачка?
Позвонила мама. Она выговорила мне за то, что я не звоню сама. Хорошо, что ей уже ночью позвонила Таня и сказала, что у меня все в порядке и большие коммерческие перспективы.
– Что она имела в виду? – спросила мама.
– Дурь, – ответила я. – Не бери в голову. Сообрази, с какой стороны ко мне можно прицепить коммерцию?
– Вот я и спрашиваю. Но ты в своем состоянии можешь просто вляпаться в историю. Посмотри в окно, скоро вся та завихрень кончится и все станет на свои места. Появились, наконец, люди и грядут перемены.
Я не хочу говорить о политике. Где я и где она? В конце концов назло маме я влезу на стремянку в Танькиной чайной.
– Как папа? – спрашиваю я.
– Он пошел за кефиром. Я нарочно его послала, чтоб походил. Нельзя же целый день читать эту гадостную дерьмократическую чушь.
Я сбиваю маму с толку и рассказываю ей про обнаруженный гобелен. Я не говорю, что он сейчас висит у меня на стене и от него идет спокойный серебристый свет. Маму возмутил сам факт существования «этой рванины, рухляди».
– Он еще не сгнил? – удивляется мама. – Он еще у моей бабушки висел в простенке. Я это видела, когда мне было лет пять. Сразу после войны. Уже тогда она его повесила в затемнение, а я тихонечко выдергивала из него нитки – ей назло. Я не любила бабушку.
Я это знаю. Бабушка была истово верующая. Откуда в маме это ожесточение даже через столько лет? Бабушка выходила ее в войну, с ней она училась грамоте. Бабушка не была дворянских корней (тогда бы было понятно), она была дочерью земского врача, женой врача, сама была классная акушерка в Александрове. Строгая и отзывчивая, она соединяла в себе несоединимое сегодня. Строгие сегодня, как правило, сволочи, а отзывчивые все больше хлюпики. Смысл слов претерпел все потрясения, как и люди. Добро стало с кулаками, а зло – почти доблестью. Мама приняла только одну грамматику жизни – грамматику Ленина, и я, как она бабушку, временами ненавидела ее. Но как же я боролась с этим своим грехом, как стыдилась, что осуждаю, смею осуждать маму.