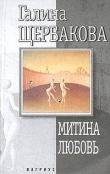Текст книги "Армия любовников"
Автор книги: Галина Щербакова
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 15 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Федор
…Первое воспоминание жизни – воспоминание о мальчике, который писает ей на ноги. Потрясение от совершенного, в отличие от ее, приспособления, делающего это дело, оглушительный гнев, что у нее не так, ор, рев, мальчика уносят, ее уносят тоже и грубо бросают на спину, чтоб стянуть мокрые чулочки. Потом ничего-ничего, и снова мальчик, который ездит на велосипеде туда-сюда по коридору. У нее нет велосипеда, и она снова кричит, и получается, что Федор вошел в ее жизнь чувством завистливого гнева. Но это сейчас так можно сформулировать. Взрослый ум обращается с фактами вольно, он их тасует, он от них освобождается, он их подменяет, одним словом, полагаясь на ум, ты полагаешься на вещь не безусловно точную – ум химичит будь здоров. А тогда, в детстве, ничего подобного быть не могло. Слезы непринужденно переходили в смех, зависть – в подельчивость, они прожили с Федькой долгую счастливую коридорную жизнь, сейчас вспоминаешь – одна радость. Хорошее надо держать в резервации, и холить его, и нежить. Высаживать хорошее в грунт жизни – дело глупое и бесполезное. Хорошее до ничего растворяется в жизненной массе, оно не дает чистых побегов, оно забывает себя, оно доверчиво притуливается к чему ни попадя, глядишь – у него уже и лицо не то, и походка, и пахнет оно дерьмецом, а с таких начиналось фиалок!
Через много лет, встретившись после детства с Федором, Ольга с порога кинулась понимать и любить его, как тогда, раньше… И чем кончилось?
У Федора была мама, которая осталась в памяти съемным сиденьем для унитаза, зажатым под мышкой. Мама выхаживала по коридору туда-сюда, такая опрятная, подтянутая дама. «Ей бы веер из перьев в руки, а не этот деревянный круг», – думала уже впоследствии Ольга, когда прошлое стало распадаться на отдельные части, и эти части несли в себе нечто противоположное друг другу, тогда как не в распадке оно, прошлое, являло собой вполне цельное целое.
Мама Федора звала сына Тедди, сама называлась Луизой Францевной, тем, что была из немок, гордилась, а это было время, когда от войны мы отъехали совсем недалеко и народ еще люто ненавидел фрицев и не признавал за немцем право быть гордым, поэтому можно себе представить общий коммунальный настрой. Но все обходилось! Вот в чем главный результат – все обходилось без тяжелых для квартиры последствий. И гордая немка, и во всем виноватые евреи, и лишенные всяких национальных амбиций великороссы, и примкнувшие к ним со своей украинской спесью хохлы, и имеющие задний ум татары, и пылкий осетин-чечеточник – все они в некую минуту разбивали в сердцах лампочку Ильича на кухне, опрокидывали со стены велосипед, сдергивали с веревки белье ближнего врага данной минуты, а потом замирялись, сплачиваясь на объединяющих всех нелюбви к врагам дальним – американцам там или безродным космополитам. К евреям, само собой. Ольге приятно было думать, что ее коммуналка «не сдала никого». Что Михаил Ваныч Тришин, исполняя в их братстве определенные обязанности, ограничивался строгими беседами в неработающей ванной, приспособленной жильцами для склада вышедших на пенсию вещей. Ваныч включал свет в уборной, и под сенью желто-светящегося окошка – в бывшей ванной сроду не было лампочки – вел свой сущностный разговор, а мог ведь и не вести, но он предпочитал жечь электричество, чем «жечь человека»…
Все это давало основание Ольге уже в другие времена защищать свой народ от излишних поклепов. Не будь достаточного количества Ванычей, кричала она, интуитивно переходя к философским категориям необходимого и достаточного, народа не было бы вообще. Но он есть, следовательно… «Не каждый второй сволочь, и даже не каждый третий там или пятый… Нас в квартире было двадцать семь человек, и все выжили». Тут Ольга лукавила, ибо вела только послевоенный счет: до войны в коммуналке жили сорок два человека. Но вправе ли мы судить то, чего не видели, вернее, не так… Если мы не судим то, что не видели, наша совесть вполне может не исторгать крика. Ее там не было.
Все это к тому, что Луиза Францевна существовала в квартире защищенно, хотя любима не была. А вот Тедди был обожаем, ему за красоту и детскую лукавость прощалось практически все. И самым большим горем детства Ольги было получение их семьей отдельной квартиры. Мама тогда уже начала болеть, у нее было какое-то редкое заболевание, при котором в организме постепенно умирает все. Такой была медицинская справка! Папе одному из первых на заводе дали на основании ее отдельную квартиру. Ольга цеплялась за дверной косяк и кричала благим матом, не желая покидать старую комнату, и народ смотрел на нее как на ненормальную. Поглощенные естественным чувством зависти к такому счастью, как отдельная и практически недостижимая квартира, люди были даже раздражены криком девочки, и кто-то сказал: «Ишь какая растет артистка!», имея в виду, что Ольга нарочно закатила концерт прощания, а на самом-то деле тоже внутри себя рада, но придуряется, «дает гастроль».
– Подари Олечке что-нибудь на память, – сказала Луиза Францевна сыну.
Сиденье от унитаза уютно пряталось у нее под мышкой, как ему и полагалось, и вообще все люди были, как всегда, замечательно привычными, только вот в семье Оли случилось горе отличия. Мама в летнюю пору стояла в зимнем пальто, спинки кровати были связаны рваными детскими чулочками, в выварке лежала завернутая в мамину юбку хрустальная люстра. «Единственный дорогой предмет» – так говорила мама.
Пришел лучезарный Тедди и вручил Оле безухого слона. «На всю жизнь», – сказал он ей. Она его выкинула через десять лет, после встречи на городской комсомоль-ской конференции. Тот день пометил всю ее жизнь цветом боли и ненависти. Слон радости в ней уже не помещался.
Надо же! Это был первый год без папы. Она потом думала, случайно или нет произошло так, что уход папы, любимого, драгоценного мужчины в доме, ознаменовал окончательное отсутствие порядочных мужиков. И вообще, и в ее жизни. Папа как бы вывел за собой всю приличную рать но тогда что за жестокость с его стороны? Или она сама, рать, – хорошие дядьки, – кинулась сломя голову в возникшую с уходом папы брешь, ушла за заводилой? Но это более поздние Ольгины мысли. Тогда была просто постоянная печаль. Острота горя прошла, как ни странно, довольно быстро, а вот печаль с утра до вечера растянулась, считай, на всю жизнь.
Значит, комсомольская конференция. Это уже потом, потом… У мамы тогда был хороший период, и она сама пошла в булочную и галантерею. Галантерея была на втором этаже, и мама стеснялась медленно карабкаться по ступенькам, вцепившись в перила. Но так хотелось добрести до парфюмерии и попялиться на разные разности, вот тогда она и высмотрела в соседнем отсеке кружевце, тонюсенькое, белюсенькое и с загибом кончиков. Мама купила его для Ольгиной формы, под шейку и на рукава. И именно на конференцию эту красоту пришила. Оля понравилась себе, что-то было в ней, что-то было в кружавчиках, во всяком случае, в груди ее возник радостный холодок впервые после смерти папы.
В фойе дворца, куда они все собрались, ее дернул за рукав здоровенный парень, она отпрянула, потому что не признавала этой манеры – дергать себя чужими руками, а парень возьми и скажи:
– Если ты не Олька, то тогда извини.
Странный подход. Она – Олька, и именно она это извинить не может, но ее остановили его слова, что-то давнее и хорошее настигло и сказало: сообрази своей головой, дура. И голова сообразила.
– Тедди! – закричала она тоненько.
– Замолкни, – засмеялся Тедди, – я Федя, Феденька, Федюнчик.
Они ходили по фойе едва не в обнимку, вернее, совсем в обнимку, иначе с чего бы этой вожатой ее школы зашипеть ей в ухо: «Ты думаешь, как себя ведешь?» А как она себя вела?
Но оказалось все не так просто. Потому как в обнимку с Федей ее увидел и инструктор райкома Юрий Петрович, и у него возникли, можно сказать, законные основания пригласить ее после говорящей части конференции в штаб и защелкнуть за собой дверь.
– Ходит такая цыпочка-давалочка – и мимо меня, – говорил он, закидывая ей подол на голову.
Он легко закинулся, подол, мама гордилась кроем юбки Ольгиной формы-двенадцатиклинки – уже и забыли, что это такое, а мама хранила выкройку своей мамы еще из довойны. Трухлявая такая выкройка, сто раз подклеенная, но маме очень дорогая. Знала бы ты, мамочка…
Пока она давилась собственной юбкой, стесняясь не то что крикнуть, а просто подать по-собачьи голос, Юрий Петрович царапал ей кожу плохо остриженными ногтями. Вместо того чтобы двинуть его коленкой, Ольга тупо размышляла о том, что это правда: быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей. И еще ее посетили другие странные мысли – нет ли у нее дурного запаха, – в общем, ее рвали, терзали, а она кусала кружавчики и думала черт знает о чем, отчего потом и была десять лет в ступоре, так как считала: она тогда не сопротивлялась, значит, как бы дала согласие. Разрешила. Правда, медицинское обследование обнаружило совсем другое: при согласии не бывает множественных травм, вплоть до прикушенного до крови языка, к которому прилипли белые нитки кружева.
Но об этом как-нибудь потом… Мы ведь сейчас о Федоре. Его тогда вызывали в милицию, так как именно на него показала вожатая. Вечером к ним в дом влетела Луиза Францевна, а они с мамой были как замороженные. Ольга не могла сразу, как теперь говорят, врубиться в Луизу Францевну, кто она и зачем, а когда поняла, спросила: «А где ваш… этот… стульчак?» Тут уже все пошло до самых небес! И пока Луиза Францевна орала на маму – разве можно было сообразить такое, если выдвинуть из прошлого старый ее образ, – в Ольге проклюнулась и стала расцветать «лилия подлости». Почему лилия? Но Ольге думалось так: во мне расцветает «лилия подлости». Просто в какой-то миг крика Францевны и стекленения глаз мамы Ольга решила: «А пусть это будет Тедди! Пусть будет он!» Так радостно было уничтожить кого-то, зацарапать уже своими ногтями, натянуть что-нибудь на чужую голову, пусть сволочь давится, пусть! А потом – голым на мороз…
Но тут Луиза Францевна выкричалась и опала. Из нее, опавшей, стали выходить другие слова, Ольга даже сразу не сообразила, что гордая немка, в сущности, допускает, что это мог быть Тедя-Федя, что она готова нести возмещение ущерба, просто им – Ольге и маме – надо помнить, что она женщина бедная. Мама совсем перестала соображать, а Ольга вдруг увидела, что у нее засохла к чертовой матери «лилия подлости», что ей уже жалко этого ни в чем не виноватого Федьку, которого эта дура без стульчака готова женить на Ольге, «раз уж так получилось»… Это третье превращение Луизы Францевны – в возможную свекровь – Ольга пропустила, потому что наблюдала за «лилией подлости», за ее усыханием, а когда увидела, как мама Федьки тянет ручонки к ее маме с криком: «Не погубите!», окончательно пришла в себя и сказала четко, что ей это все надоело до чертиков, что Федька тут ни при чем, что она не отвечает за милицию – кого та вызывает, а кого нет, – Федьке привет и идите вы своей дорогой к такой-то матери.
Луизе Францевне, сыгравшей во всем этом спектакле целых три характера, было трудно выйти из образов, и она еще какое-то время впадала то в один, то в другой. Ушла же она в полуобморочном состоянии, все-таки силы были потрачены немалые, но так как собственная Олина мама была тоже в этом же состоянии, то выбирать не приходилось: Луизу Францевну утешать и отпаивать Ольга не стала.
Милиция насильника так и не нашла, хотя долго ходила с сосредоточенной мордой. То время еще делало вид, что у него системы фурычат и насильники ловятся.
Однажды Федор встретил ее возле школы.
– Ты живая? – спросил он.
Никогда в жизни, никогда не было у нее такого острого желания кинуться на мужскую грудь и пусть даже разбиться. Но так близко была школа и так возможна была у окна страж-вожатая, что Ольга сделала все наоборот.
– А пошел ты… – процедила она сквозь зубы. И почему-то добавила: – Немецкая твоя морда…
Эту историю Ольга рассказывала довольно часто, и будь она постарше, мысль о раннем склерозе не была бы неуместной. А уж о каком-то особом свойстве памяти – тем более. Причуд ведь на свете куча мала. У меня есть приятель, у которого тоже «заедает память».
Рассказываю по случаю, потому что «немецкая морда» Ольги временами меня доставала.
Так вот приятель. Приходит, садится, будто радуется встрече. Ждет вопросов о себе. Это, в конце концов, неизбежно: ведь он для того и пришел, чтоб рассказать о себе. Политика там, Пушкин или эмиссия денег иссякают мгновенно. Пушкин – потому, что сколь же можно. Товары, цены и русский демократизм – по причине их низкости для нашей встречи.
– Ну как твои дела? – обреченно спрашиваю я.
– Был у главного… Спрашиваю… Когда будете платить? Тот стоит, смотрит в окно. «Последняя туча рассеянной бури… – говорит. А потом: – Зарплата? Но ты же голосовал за Ельцина? За этот порядок? Иди, он подаст…»
Приятель громко смеется, и изо рта его летят крошки и брызги, я отслеживаю их полет, чтобы потом пройтись по ним тряпкой.
– …Последняя туча рассеянной бури? Зарплата? Ты же голосовал за Ельцина?
И снова обвал изо рта, в котором дрожит мощный, в рытвинах язык. Я беру тряпку.
– …Последняя туча рассеянной бури? – радостно кричит он в третий раз, а я знаю: будет четвертый и пятый, до бесконечности… Его надо обрубить или заткнуть ему рот этой самой тряпкой, но я такая в этот момент медленная, такая осевшая на дно… Ну, в общем, в конце концов я встряхиваюсь и начинаю вытирать стол.
– Как здоровье жены? – внедряюсь я в тучу, зарплату и Ельцина. Приятель адекватен, мы непринужденно переходим к жене, будто только что не крутились в воронке.
Я рассказываю этот случай как еще один признак нашей болезни – скрытого паралича, который давно в нас поселился и водит по кругу мыслей ли, поступков… Так и живем…
Вот и Ольга сто семнадцать раз рассказывала мне, как обозвала Федора «немецкой мордой».
На этом все и кончилось в тот период времени, когда была жива еще ее мама, когда существовали неотъемлемой частью школы пионервожатые, многие из них были причудливыми существами, сотканными из необразованности, энтузиазма и практически обязательного гормонального дисбаланса или как там назвать это их пребывание в некоем усредненном, как правило, роде.
Ольга тогда почти десять лет жила с ощущением, что умрет от одного прикосновения мужчины. «Немецкая морда» обрубила в ней женское желание «припасть» – или как это называется? – к другой природе.
В эти годы у мамы сильно обострилась болезнь. При отце Ольга не подозревала, что у всякой болезни большой спектр составных. Что аптека, лекарства, градусник и мокрое полотенце на голову – бутончики болезни, за которыми след в след идут пеленки, прокладки, судна. Что все это плохо пахнет и еще хуже выветривается. При папе она этого не знала, теперь же этому надо было учиться. Тут надо сказать одну вещь. Живи Ольга нормальной, не изнасилованной жизнью, еще неизвестно, как бы у нее получилось с маминой болезнью. Ведь у очень многих не получается. Родных матушек скидывают в богадельни по причине аммиачных паров не с ощущением разрыва сердца, а с полным сознанием, что с парами жить нельзя, а значит, правильно скинуть родительницу.
Я иногда в транспорте разглядываю людей с этой точки зрения: способен ли он или она ухаживать за близким? Не за чужим, а именно за своим – очень близким?
Ах, как неутешительно выглядит картина, хотя и не без случаев попадания пальцем в небо.
…Еду в долгом трамвае. Вламывается пьяная тетка. Остановившись посередине, она внимательно смотрит на нас всех, и мы ей не нравимся.
– Сволочи! – говорит она нам. – Суки вы! Сели и едут… Ишь, с дитями… Рожают… бляди… Я щас вас всех проверю… На вшивость! Снимайте, гады, шляпы! Буду считать гниды…
Она примеряется к ближайшей женщине, та начинает орать, за ней – другие, и выясняется, что это – наш ор – и было целью пьяной бабы. Она просто заходится от восторга, видя наши рты и глаза. Она просто радостно приседает от зрелища нас. Все так поглощены собственным возмущением, что она почти незаметно выскакивает из трамвая, а мы еще долго толчем тему «пьяных стерв», из-за которых мы недосчитываем на ниве жизни Толстых и Чеховых, каждый из нас на ничтожности этой тетки становится выше, лучше. Не все ли равно, что подставить себе под ноги, чтоб взорлить? И тут в транспортном заторе, пока трамвай стоит, к нам по-домашнему, как из соседней комнаты, выходит водитель, тоже простая тетка, в теплом исподнем, торчащем из-под юбки на случай сквозняков из передней двери.
– Раззявили варежки! – говорит она со странной беззлобной ненавистью.
Ненависть эта изначальна. Она как числитель жизни, крупный такой числитель, не два плюс три. И делится этот числитель на некий знаменатель икс – то ли на количество народа в стране, то ли на дни в году, а может, вообще на число, которому еще не назначили имя. В результате деления и рождается, вернее, не рождается, а выпадает в сухой осадок экстракт злобы. Чистое вещество.
– Орете тут! – говорит водительница нам. – А эта пьяная из конца в конец три раза в неделю ездит к парализованной подруге убирать и убираться, потому как трезвые родственники ее бросили, а подруга осталась. Она после ее говнов обязательно напивается. Туда едет тихая, смирная, а назад – буянит…
Отдаю себе полный отчет: я тоже не мать Тереза…
Ольга же… Ольга… В свои шестнадцать она приняла на себя и боль, и аммиачные пары, и все вытекающее, и было это у нее естественно, как и должно быть у людей хороших. Но ничего сподвижнического на ее лице сроду бы никто не прочел. Я видела ее фотографии тех лет. Сцепленные губы, холодные глаза и обхват себя руками. Странная жесткая поза. Уже потом Ольга сама нет-нет, а вспомнит какие-то знаки судьбы, которые были уже тогда. Знаки судьбы женщины – это знаки мужчин. Казалось, ничего подобного в смысле интереса умственного или там физического и близко не было, но знаки были.
– Были, – говорила она мне. – Еще какие! Однажды иду по улице, а я ходила всегда очень быстро, без этой манеры вразвалочку, откуда у меня время! И вот иду, а под ноги мне летит мяч, детский. Я его взяла рукой, не стала пинать, рядом дорога. Взяла и оглядываюсь… И вдруг понимаю, что никого нет… Никаких детей… А я чего-то стою, жду… Проехал какой-то парень на велосипеде… Кто-то снизу, под согнутый локоть, на меня посмотрел. Я подумала: «Боже мой!» И все. Положила мяч возле урны и пошла, а это «Боже мой!» душу ломит, ломит… Я его лица не видела. Он же меня перегонял, просто взгляд под локоть на дуру, что стоит с детским мячом.
Скажете: в коконе трепыхалась женщина, нормальные дела. Конечно, нормальные, какие же еще? Но и ненормальные тоже.
За ней стал ухаживать пожилой человек…
Семен Евсеич
Сосед по площадке случился в результате обменов. Рядом жила колготливая женщина, стремящаяся к совершенству места жительства. Она хотела иметь «окна на церковь» и «утопать в деревьях». В конце концов она где-то «утопла», а рядом появился старый – лет около сорока – еврей с нездоровой мамой. Параллелизм обратил на себя внимание, хотя еврейская мама была еще вполне сохранная и регулярно ходила «в концерты».
Они, Семен Евсеич и Ольга, смущаясь, вешали на архитектурно объединенном балконе женские причиндалы, и он сказал, что его маме пять лет тому сделали операцию на сердце, это большой срок, и теперь «дело как бы… Вы понимаете?.. Времени чуть. У вас самой тоже тяжелый случай…» Они стряхивали с маминых рейтуз капли воды и цепляли их прищепками.
Ольгу почему-то охватил нервный озноб. «С головы до ног, – говорила она. – А косточка на мизинце почему-то встала дыбом. Это ты не поверишь… Но он, мизинец, как бы поднялся… Восстал… Когда я теперь слышу, как говорят: „Сравнил жопу с пальцем“, я не смеюсь ни на миг. Так бывает. На свете бывает все!»
Семен же Евсеич на Ольгу обратил внимание по-глубокому. Его можно было понять. Из-за больной мамы в мужья он не ходил ни разу. Он был хороший еврейский сын. Одновременно он был и математик по профессии. На работе в столе у него лежала «кривая его собственной жизни». Кривая – это грубо. Лучше сказать – «изобара». Можно даже сказать это с большой буквы. Как испанское имя. Так вот, на ней, на этой «кривой Изобаре», мамина жизнь неумолимо кончалась, но его жизнь, жизнь Семена Евсеича, тоже переставала плавно подниматься вверх, а как бы начинала неуправляемое скольжение вниз. Еще не рывком, не обвалом, но тем не менее. Семен Евсеич знал о роли женщины в жизни мужчины и даже о роли молодой женщины в жизни мужчины с «опадающей Изобарой».
Ольга была шансом, который трудно переоценить. Общий балкон, практическая привязанность к дому, как и у него, и великолепная перспектива ломануть стену между квартирами. «И даже пусть они живут», – великодушно решил Семен Евсеич о болящих матерях.
Ольга дома повозилась с мизинцем, пока не положила его на место. Но с этой минуты в ее сердце стало раскручиваться отвращение к Семену Евсеичу. Странная вещь! Все достоинства соседа: стирка женских трусов, аккуратное вынесение мусора, опрятность квартиры и половика перед дверью – все легло как бы поперек сознания Ольги. И тем сильнее, чем активней шло ухаживание: «я купил вам говяжью печень, с вас рубль шестьдесят, но не берите в голову, отдадите потом», «я и на вас захватил хлопковую вату, взяли манеру делать ее из химии, а она же близко к телу и вызывает аллергию», «я починил вам почтовый ящик, вы видели, как эти негодяи подростки покривили у вас дверцу?» – и так далее до бесконечности помощь в мелких, средних и крупных домашних делах, когда надо передвинуть мебель или навесить шкафчик в кухне.
Семен Евсеич действовал способом захвата жизненного пространства вокруг Ольги. Чтоб куда она ни оглянулась, а он уже был, он уже занимал там место. Это была великая и, можно сказать, беспроигрышная стратегия. В конце концов чему-чему, а искусству захвата чужого нас учили хорошо.
А однажды мама сказала Ольге, что евреи – самые лучшие мужья на свете и это, мол, известно всем.
– Ты к чему? – спросила Ольга, потому что ей и в дурном сне не могло присниться, что говяжья печенка и выправленный почтовый ящик значат больше самих себя.
– Я была в этом смысле полная дура, – говорила Ольга. – Он мне был неприятен этой своей угодливо-стью, но я себя корила, что плохо отношусь к хорошему. И еще… Мне всегда было стыдно за антисемитизм наших людей. Я могла за него бить морду, поэтому, если мне не нравился отдельный еврей, я делила это свое отношение на два, на четыре, на шесть, на восемь. Делила, а не множила, понимаешь? Я потом поняла, что это тоже стыдно по отношению к тем же чукчам. Но я так медленно развивалась!
Одним словом, вязь добрососедства тянулась и тянулась, больные мамы пили общие чаи, но тут стали вспухать первые случаи эмиграции. И Семен Евсеич одним из первых получил вызов откуда надо. И с ним письмо от дальних, но действительных родственников, которые обещали маме еще одну сердечную операцию и всякие другие радости медицины.
Трудно бросать завоеванное. Все-таки так много было потрачено сил и даже обстукана стена легким молоточком на предмет проверки пролегания в ней электриче-ских проводов. Семен Евсеич надел вельветовый пиджак, редкость по тем временам, и пришел к Ольге с глобальным разговором.
– Если б ты знала, как я захотела уехать, – рассказывала она мне. – Я не слышала, что он там лопотал, я просто замерла от мысли, что можно все это послать к ебенематери и начать как бы заново родившись. Я и в мыслях не допускала, что можно уехать без мамы. Я, значит, замерла, а потом поняла суть. Маму он предлагал взять потом. Когда мы там пустим корни, а пока… Ну, дальше у него был вычерченный план по времени и месту. Маму примут за квартиру в хорошую богадельню с обслуживанием. Телевизор, холодильник у него были наиновейшие – все это ей в богадельню… плюс библиотека поэзии, плюс ковер три на четыре и прочая, прочая… Представляешь? А мне так хочется уехать! Так хочется! Ну просто спазм, и все тут! Даже ощущение, что уже лечу и что свободна, что как птица и что ни одна нитка ко мне из прошлого не прилипла. Миг сладкой мечты… А потом – крупная реализация действительности… Вельветовый пиджак там и прочая. Знаешь, какая была вежливая? Как ангел у входа в рай… Они там ведь вежливые, как считаешь? Или праведники тоже могут надоесть до чертиков? Могут! Могут! Я представила, как они недуром прут… Которые хорошие… Все такие на постном масле, с зашитыми гениталиями, чтоб ненароком не проявились… Но я была вежлива, это точно. Я поблагодарила и сказала, что как он никогда бы не бросил свою маму, так и я учусь у него жить… В таком духе. Он сказал, что еще не вечер – а это правда был день – и он вернется к разговору. Но он не вернулся. Никогда больше…
Много позже я сказала ей:
– Не с этого ли случая ты начала торить дорогу за границу, будто бы за парфюмом, а на самом деле…
Ольга посмотрела серьезно, а потом покачала головой:
– Нет. Ни разу в Польше никакого желания остаться там навсегда не возникало. Но это же понятно… когда торгуешь утюгами, какие могут быть мысли? Утюжьи… И вообще, Польша – продолжение отечества и всего с ним связанного.
– Даже на слове «шляхтич» не западала? У меня, например, от него в душе радостный щекоток…
– Ты украинка. Какую-нибудь твою прабабку трахнул поганый лях. В тебе живет воспоминание удовольствия. А я баба русская, у меня другие манки.