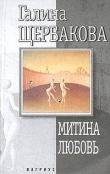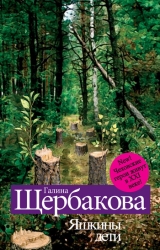
Текст книги "Яшкины дети. Чеховские герои в XXI веке (сборник)"
Автор книги: Галина Щербакова
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 9 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
Невидимые миру слезы
Я кладу телефонную трубку и тупо смотрю на загадочное недописанное «торб»… Торба, торбаса или что еще я имела в виду? Оказывается, имелся в виду морг. Плохое слово, и я зачеркиваю буквы. Теперь надо вспомнить, что я должна написать. Мне вчера было сказано – чтобы статья была на столе завтра и чтобы была на разрыв аорты. О бюрократии похорон, о равнодушии там, где ему (равнодушию) – самое последнее место. «Завтра» – это уже сегодня, на часах полвторого. Моя рука лежит на телефонной трубке, а ручка скатилась на пол. И эти нелепые «торбаса» в голове. Ну да… Этот звонок в полночь… Я еще подумала: какой дурак звонит в такое время? «Только бы не он!» – взмолилась.
Это был он. Полтора часа ужасающих подробностей сбили меня с толку.
– Ей уже полтинник, а она носит стринги. У нее раздражение, и она мажется вонючей мазью, от которой у меня аллергия.
Я слушаю его слезы и всхлипы. Именно слезы – он хлюпает носом так, что, видимо, уделал свою телефонную трубку – потому как в ней застревает и сипит его выдох.
И так приблизительно раз в неделю, когда «она ушла на массаж», «сидит в ванной» или отмечает сороковины соседкиного мужа. «Ты можешь говорить? – спрашивает он всегда. – Я как раз один».
Завтра я столкнусь с ними обоими в лифте. Спускаясь с двенадцатого, я подхвачу их на седьмом, и мы жарко расцелуемся. «У тебя все в порядке? – это она мне. – Слава Богу. Вот и у нас тоже». И она потрется щекой о его плечо, а он ей скажет: «Рыба моя». И я дам себе слово никогда с ним не вести телефонную «душевку», но потом забуду и снова услышу плачущее: «Ты одна?» Хотя я одна по определению, одна изначально, я, говоря простой речью, старая, засохшая на корню дева. Я не знаю этих тонкостей супружеской жизни типа «я люблю с краю и чтоб лицом в подмышку» или там «я откусываю хлеб, а она кричит, что надо его отщипывать». Господи, зачем это мне?
Я подхожу к ночному окну. Напротив меня дом-собрат. Один в один, заселялись вместе. Я считаю окна, в которых горит свет. В половине. Полдома не спит. Хорошая тема, думаю я: неспящая Пресня. Но был уже фильм «Неспящий в Сиэтле». Милый ребенок отважно кинулся строить счастье неспящих взрослых. В кино это получилось. В жизни вряд ли, точнее не так – ни за что. Я знаю живущих на втором этаже в неспящей квартире дома напротив. Там есть мальчик. Я, рабочая лошадь, редко сижу в нашем общем скверике, но когда бы я там ни была, он находит меня. Он тоже мальчик из Сиэтла и хочет, чтобы я стала его мамой. Он даже познакомил меня с отцом, и тот отпрыгнул, как молодой лось, почуявший опасность. Если у них свет, то не спит отец. У маленьких детей есть дивное свойство засыпать, даже если вся мордаха в слезах.
Неспящий лось. Ему едва за тридцать, а жена его навсегда уехала в «Мерседесе». Дело было вечером, я возвращалась с работы и видела эту дышащую скоростью машину, возле которой стояло нечто короткошеее, коротконогое и короткорукое сразу. Мать мальчика выпорхнула с маленьким чемоданчиком и полиэтиленовым пакетом. Оно взяло пакет и забросило его в ближайший мусорный контейнер. Потом произошла быстрая потасовка за чемоданчик, но она его отстояла словами «паспорт» и «диплом». Прижимая к груди бесценное, она нырнула в машину, но я успела услышать хриплые слова: «А на черта тебе диплом? Я тебя не на работу беру». Они рванули с места, и больше я их никогда не видела. А мальчик после этого, гуляя с отцом, тормозил возле всех проходящих женщин. Вот даже на меня клюнул. А отец отпрыгнул.
Сейчас у них свет. И я представляю себе плачущего лося и слезы величиной с лампочку-миньон.
Окно наискосок от них прямо передо мной и мне тоже известно. Десять лет жизни окно в окно – это вам не просто так. Там живет пожилая дама, ей где-то под шестьдесят. Она сдает комнату четырем девчонкам-студенткам, а сама спит в кухне. Она мне объяснила, что брать семью боится: это значит, что и кухня будет занята, а девчонкам ходить в нее заказано. У них есть кипятильник для чая, кофе, а больше им на кухне и делать нечего. Хозяйка смотрит за чистотой, сама следит, чтобы простыни девчонки стирали вовремя, разрешает им пользоваться стиральной машиной. «Конечно, шумливо, как ни закрывай дверь. Четыре враз смеха – это, я вам скажу, немало. Но это не сравнить с детским плачем или там сварой мужа и жены». Дама спит на выброшенной кем-то тахте, без спинки и изголовья. Она внесла ее ночью сама, по частям. Сначала ножки и днище, а потом многолетний, выспанный матрац.
– Я боялась, нет ли клопов, – призналась она, когда мы шли из булочной. – Но, слава богу, нет. Она так удобно втиснулась возле батареи. Хорошо, что та греет едва-едва. Я повесила бра, и мне хорошо читается ночью. А под тахтой у меня чемодан с документами и фотографиями. Девочки у меня хорошие, но любопытные, унесла от них от греха подальше. Смотрю фотографии и поплакиваю.
Из своего окна я вижу это бра, а иногда и ее, курящую в форточку. Когда она стоит долго, начинаю за нее волноваться и воображаю, что она там себе думает.
Она думает о том, что единственный ее сын как уехал на Дальний Восток после института, так и не вернулся. Первое время писал, потом все реже, реже, совсем перестал. Она через милицию узнала его адрес. С ним было все в порядке, и она, гордая, не стала пользоваться адресом, полученным не родственным путем. Без него у нее был инсульт, без него она вышла на пенсию, без него приватизировала квартиру и записала сына наследником.
Вот она стоит у окна и думает, как он приедет получать наследство. Чтобы не приехать за чем-то ценным – такого в природе людей не случается. Они возникают из ничего – наследники советской власти.
Это ее выражение. Я, помню, не поняла сразу этих слов. Но она засмеялась и сказала:
– Неблагодарность и жадность – это уродливые дитяти времени, рожденные социализмом, убеждающим людей, что до самой смерти у него будет свой партминимум или партмаксимум, там тоже была градация. Но сдохнуть тебе власть не даст и клизму бесплатную вставит до самого горла… Ан нет. Кончилось их время, и сказали людям: теперь сам! Ты сам! Вот и стали все сами. Сам сын, сам отец, сама умирающая бабушка. И так далее. Зачем ему мать-старуха? Но если от ее смерти останется хата в Москве… Тут уж другая песня песней. Хата и мать – вещи несовместные. Мать вылетает из головы с первого толчка, а за хату держатся зубами, руками, любым щупом.
Я смотрю на ее окно. Она ведет свой бесконечный спор с сыном. Спор как способ оправдать себя, оправдать его и прийти к простому как мычание выводу: человек у себя один. Голый человек на голой земле. Пошли вы все к черту с вашей религией, с вашим моральным кодексом строителя коммунизма. Она ляжет на спину, поставит коленки как пюпитр. И сквозь текущие неперестающие слезы будет читать Агату Кристи. Господи, как бы она хотела попасть в мир английских преступлений! Какие там все чистые, опрятные и даже совестливые. И она уснет с мокрым лицом, а потом у нее заболят ноги и завалятся набок, и станет жать под ложечкой, но будет уже светлеть, значит, день и она не умерла ночью, и не будет хлопот и страха у ее постоялиц. Ей хочется умереть на улице, чтоб об нее споткнулись и сразу приехало то, что надо. А то девчонки растеряются и начнут визжать и стучать соседям. И ее же, уже несуществующую, помянут недобрым словом.
На верхнем этаже дома в самом крайнем окне живет старик с роскошной библиотекой. Я вхожа в дом и могу брать книги для чтения. Он аккуратно записывает, что дал мне почитать, и в этот момент я ловлю себя на гадких мыслях о нем. Я что, когда-нибудь заныкивала какую-нибудь его книгу, в чем-то подвела его? Ему восемьдесят пять лет, для кого он хранит свое сокровище? Это я без иронии: его книги – это самое слово и есть. Он говорит, что не боится смерти, потому что ее нет. Нематериальная часть человека – мысль, душа вспорхнут, засмеются и уйдут в мир чистый, неклеточный, где нет этого примитивного деления клетки на две, четыре…
– И что будет там? – спросила я.
– Все по степени развития души и мысли. Во Вселенной очень много работы. Земля и люди – такая несовершенная часть всего. Вам нравится человечество?
– Многое нравится. Музыка, книги, живопись.
– Это нам дары Господа на малый срок жизни. Это тщетная попытка увести человека от убийств себе подобных, от ненависти к ближнему, от жадности, от свинства.
– И никого не спас Рафаэль и Шишкин?
– Этого не знает никто. Но подозреваю, что не будь их, мы бы уже кончились как субъект мира.
Я спросила у него, почему он не выключает свет ночью.
– А кто вам дал право смотреть в мое окно?
– Но я же все равно ничего не вижу. Только свет.
– Разве это мало – свет в окне? Может, он и остановит чью-то поднятую руку? Остановит чей-то крик?
– Конечно, нет! – смеюсь я. – Сколько зла падает на землю в сумраке ночи, и даже тысячи фонарей его не остановили.
– Я просто не сплю, – ответил он. – Мне уже это не надо. Мне хватает десяти минут, получаса. Я рад этому. Мне нравится жить…
– Вы только что столько наговорили об этом мире.
– Все так. Я уже все видел, через все прошел, у меня нет иллюзий, но жить мне все еще нравится. Ночью я это особенно чувствую, до слез.
– Вы – до слез?
– Да нет, конечно. Это фигура речи.
…Я уже не усну. Я не напишу статью о морге. Я смотрю на окна. Кто-то смотрит на мое. Неспящие Пресни. Неспящие в Сиэтле. Мы сплетаемся светом наших окон, наших невидимых миру слез. И в этот момент мы лучше, чем днем. Ибо в нас живет только душа и мысль. Во всяком случае, так считает старик. Крайнее окно слева.
Разговор человека с собакой
– Выведи Капрала, – сказала жена, едва они переступили порог.
Нормальные слова, не правда ли, для старых собачников, вернувшихся из гостей? Но было в них что-то неуловимо раздражающее, игольчато-пупырчатое с оттяжечкой. Он знал оттенки этого голоса всю свою жизнь, и как иногда ему хотелось взять жену за горло и слегка, по-быстрому, им хрустнуть. Ну, это же так – сволочь-мысль, и берется незнамо откуда, и уходит неизвестно куда.
А Капрал уже держал в зубах поводок и тыкался носом в его колени. Он сделал две взаимоисключающие вещи – отнял поводок у собаки, повесил его на крючок и одновременно открыл дверь, мол, выходи, браток, вольно. И они вышли. И мудрый Капрал понял, почему у него забрали поводок: было ветрено и капал отвратительно колючий и холодный дождь. Погода только на пописать собаке, а уж никак не гулять. Капрал быстро сделал свое дело. И не понял хозяина, который пошел и сел на мокрую лавку под детским грибком. В другое время Капралу понравилось бы вырывать из песка им же покусанные мячики или вытащить детские игрушки, за паровозиком вагончик: дети оставляли ему много разностей, и он уважал за это детей. Этих маленьких неуклюжих существ, которые часто не понимали радости Капрала облизать их мокрые закулеманные мордахи и начинали ор, абсолютно не обидный для собаки ор, потому что всегда находилось и существо, визжащее от счастья Капраловых поцелуев. И не было конца его восторгу, когда в благодарность маленькому челдосику он взбивал лапами и хвостом песок и крутился вокруг самого себя как волчок.
В этот вечер садиться под протекающий грибок мог только идиот. Никто не знает словарного запаса обрусевшего эрдельтерьера, поэтому так трудно им с нами. Собаки ведь давно освоили язык и многому могли бы нас научить, если бы мы не были такой заносчивой породой.
Петр Иванович, так звали хозяина Капрала, замерз, когда еще они с женой возвращались домой. Он тогда мечтал влезть в теплую фланель, лечь на диван и положить между ног думочку. У него были мерзлявые яички со всем принадлежащим им хозяйством. В тепле и уюте приходят хорошие мысли. И он бы неспешно продумал все. Как не хотел идти на эту встречу со «старыми друзьями», приехавшими из-за границы. Как он думал о той, которая когда-то одним взглядом сбивала ритм его сердца до такой степени, что он был способен на все. А он ведь человек смирный, «на все» – это для него непосильно. Но когда до колючей боли кричит в тебе «хочу», а ты весь как половая тряпка висячая, это не каждому дается пережить. В народе это называется «спятимши был», «с глузду съехал». Все это с ним было.
И вот это приглашение. И страх до мышечных колик от предстоявшей встречи с той. А вдруг? Полежав в теплоте, он бы спокойно все проанализировал и успокоился.
И вот это «Выведи собаку» его как опалило. И огонь – вот хохма! – пошел по нему из самого холодающего места. И были в этом огне глаза. Большие, светло-карие, в черном ободке. И они по-прежнему имели над ним силу.
…Они ведь как стояли, уходя из гостей? Он возле вешалки в коридоре, уже натянув обувь, жена колошматилась с платком, а далеко в комнате, возле серванта, локтем опершись о его угол, были эти глаза. И так ему стало хорошо и сладко, что впору было снять обувь и идти на эти глаза прямо в треугольник опершейся руки и уже остаться там навсегда. Но жена подтолкнула его, а хозяева торопливо открывали двери: гости явно засиделись, эти уходили первыми, и нечего было застревать в прихожей.
Мокрые поцелуи, то да се, и они уже на улице, и ветер так дунул в лицо, что у него слетел берет, но проворная жена поймала его на лету и сама натянула ему на голову, глупо и бездарно оттопырив уши. И они побежали к трамваю, и, спасибо, тот подождал. Есть такие чуткие трамваи, они жалеют людей. Потом ехали, потом приехали, и рождалась исподволь мысль о теплой фланели, а карий глаз, наоборот, тускнел и исчезал в сырости ночи. А потом этот голос его жизни – «Выведи собаку», и огонь снизу, и тупое движение на детскую лавочку под визг собаки. Она порылась носом в песке, но он был отвратительно мокр. И Капрал захотел домой, в тепло и сухость.
Но заговорил хозяин:
– Слушай, старик. Я тогда, тридцать лет тому, не пошел за этими глазами. Честно? Испугался. Где я, где она? А она была рядом, через стол, и смотрела. О псина! Как она смотрела! В этом взгляде было так много, что надо было только протянуть руки. Но рядом сидел ее муж, такая сопля, скажу тебе я, что брать его в расчет мог только идиот. Она от него ушла. К другому. Не ко мне. Она из тех, кто два раза не зовет. И я сейчас пошел в эти гости чисто из любопытства, кого же она выбрала в этот раз. Совсем другой мужик, из этих, крепко срубленных. И тут увидел ее взгляд. Понимаешь? Тот же… Зовущий навсегда. А я уже ботинки надел… и вообще… Где я, где она? Тогда она была через стол, а сейчас и через стол, и через комнату, и через коридор. Ты понимаешь, какой я мудак? Или думаешь, я правильный? Два раза в жизни меня звала за собой великая женщина. Это честно – великая. У простых и даже замечательных такого взгляда нет. Когда не надо слов и касаний. А только ток взгляда. У меня могла быть совсем другая жизнь. Совсем! Веришь, собака?
Собаке же было холодно, и она давно тянула его за штанину и уже почти рвала ее по шву, запуская в самое то ледяной воздух. Но он его не чувствовал, ветер не леденил, он видел глаза женщины, облокотившейся о сервант. Эх, рвануть бы, эх, побежать бы! Сердце колотилось и хотело выскочить через горло.
Но тут возникла тень. Накинув на голову брезентовую куртку, за ними пришла жена. Она грубо дернула его за руку, а когда он испуганно поднялся, коротко и деловито дала ему по морде.
– Собаку бы пожалел, дурак.
И они побрели к дому. И он шел, даже не обижаясь на жену за пощечину. Она-то при чем? Она будет сейчас растирать его спиртом, она укутает его во фланель и принесет в постель чашку чая с малиновым вареньем. А потом ляжет рядом и заснет, посапывая, и ему будет уютно и хорошо, их будет сторожить верный Капрал. Разве плохо? Зачем Бога гневить?
Ночью он пошел в кухню попить воды. Капрал встряхнулся и встал рядом.
– Понимаешь, – сказал он собаке, – я не герой. Ради такой женщины надо было бы ого-го что делать. А Катя у меня простая русская женщина. С ней мне спокойно, я на нее не обижаюсь, даже если она там… криком или руками. Это жизнь. Но червяк в душе сидит, сволочь. Почему я тогда не вывел ее из-за стола? Трус я, Капрал? Или кишка тонка? Или красивые бабы не по мне? Черт его знает, что и думать. Только стремно мне, собака. Так стремно, что не сказать. Видел бы ты ее глаза, псина, видел бы… Умереть не встать. И это было сегодня. Просто этим вечером. Ну? Где я? А где она? Стремно, ой как стремно, пес. А выпить у нас не бывает. Не заведено, черт его дери. Ты не поймешь. Собаки – твари непьющие. А то бы мы с тобой держали в тайничке чекушку и пили тайком, запивал бы я те глаза, запивал!
Капрал тявкнул, будто отвечая.
– Я понял тебя, – сказал Петр Иванович. – Такие глаза, хочешь ты сказать, не запьешь. Тридцать лет прошло, а как и не было времени. Как мне теперь быть, собака? Это, я тебе скажу, даже не любовь. Это, псина, тяга… Зов… И скажи после этого, какая мне цена, если я от самого главного бегом уезжаю на трамвае? Три копейки? Две? Господи! Вернуть бы то время. Тридцать лет назад, и она – через стол. Но я, сука, и тогда уехал на трамвае. Ну, зачем их придумали люди, этих красных ночных гусениц? Для меня, что ли, специально? Для труса бессильного?
И Петр Иванович сморкался в отворот пижамы.
Свадьба с генералом
Выдавать дочку замуж первый раз с большими затратами, когда ей уже за тридцать, – дело, как говорит их соседка, стесняльное. Сама бы вышла себе спокойно, по-тихому, чтоб в глаза не лезло, какая барышня потухшая, и глаз уже не искрит, и губки уголками вниз.
Вот почему у матери мысль как раз другого цвета. Надо от невестиных неискрящих глаз отвлечь внимание на что-то такое, чтобы все как раз заискрило. И про петарды думала, и про духовиков, но тех как облупленных знают из-за похорон. А пупсы на машинах – это уже совсем противно, дети вслед свистят и гикают.
Дочку нужно приподнять и украсить, чтоб все лопнули от зависти и забыли до смерти, сколько ей лет.
Город у них маленький, все друг друга знают, а из знаменитостей – один Герой Советского Союза, но и он из компании алкашей ее брата.
У отца, Ивана Кузьмича, от планов жены мозги полезли из ушей, и он все крутил головой, загоняя их внутрь. А мать, Ольга Петровна, образованная женщина, учительница ботаники и зоологии в школе, вся, наоборот, так себя распалила, что стала похожа на молодую, когда ей впервые засунул язык в рот приехавший родственник, и она никак не могла выдохнуть, а внутри у нее все щекотало.
Куркины никаких сбережений не имели, концы с концами сводили едва, и им не то что свадьба на всю ивановскую, чаепитие с тортом не всегда было под силу.
Иван Кузьмич работал по инвалидности сторожем автостоянки в их Городской думе, горсовет по-старому. Он жил и дрожал, чтоб не повысили пенсионный возраст, ему шестьдесят должно было случиться в этом году. А тут на тебе – свадьба. Нет, они не какие-то там родители-сволочи, которым нет дела до счастья дочери, они любили Люсю и жалели ее за то, что не было у нее судьбы, и старались, чтобы она выглядела хорошо, а Ольга Петровна солила денежки, чтоб духи там французские на день рождения или эти модные трусики с перепоночкой в заднице.
И непонятно им было лет уже как десять, почему Люсины подружки по два, а то и по три ребенка имеют, ходят такие животастые и гордые, а Люся, вся такая тонкая и с грудью высокой, так никому и не приглянулась. Отец считал, что она много о себе думает, а мать – что дочь скромная, задом не вертела, а держала себя в приличии. Но факт оставался фактом: за всю жизнь у Люси ни одной записочки от парня не было, и на дискотеке, где кого только нет и каких только нет, и всех кружат, и все на танцполе, она лопатками подпирает стену. Ну, конечно, перестала она туда ходить.
– Да я терпеть не могу эти танцы, – сказала матери.
А дома, между прочим, молодецки вертелась братова компания. Но и у них она мимо глаз. Мать думала: ничего страшного, вот пойдет Люся на работу, войдет в коллектив… Дура ума! Пединститут и школа – последние для замужества места. Как чувствовали, говорили ей: иди в строительный. Так она в ответ: «И что ж мне, робу всю жизнь носить? И каску? Хорошего же вы мне желаете».
Институт тоже прошел мимо судьбы. Пришла работать в школу матери историком. И все. С концами. Три мужика в школе – все женатые. Отправляли летом в дома отдыха, один раз даже в Болгарию. Результатов ноль. Мать фотки рассматривала. Стоит компания. У каждой или почти у каждой девки сбоку мужик. Свой, чужой – неизвестно, но притулился. А их Люсинда всегда одна.
Шелапутный сын женился. Ушел к женщине, копят теперь на машину, значит, меньше пьет. Нормальная современная жизнь. И невестка не из красавиц. Широколицая такая, скулы едва не подпирают брови. С Люсей не сравнить. У Люси лицо узкое, одно плохо – нос длинноват, но он без горба, ровненький такой. Таких лиц много на картинках старых художников. А они-то ведь понимали. Взять ту же жену Пушкина. Конечно, красавица, но если разбираться, лицо у нее тоже узкое, а нос длинноват. Конечно, наряды там и прическа другого замеса. Если Люсю так причесать и на шею кулон повесить… Мать напряглась и купила ей кулон. «Носи, дочь!» Так нет. Дешевку она носить не будет. Но для кого же, как не для них, учителей, и делают эти дешевки? Она зашла в настоящий ювелирный, на первый же ценник глаз бросила и выскочила, как ошпаренная. Сколько ни откладывай – не собрать.
Жених случился из ничего. Померла старушка с их площадки. Дети квартиру покойницы сначала решили задорого сдавать, но не получилось. При всей нехватке жилья каждый хочет иметь что-то поприличней. Вот как у них – трехкомнатная квартира, пусть всего ничего, 37 квадратов, но все комнатки сами по себе, а когда сын съехал, у них даже образовался зал для телевизора, дивана, двух кресел и журнального столика. Очень получилось культурно. Конечно, для большого стола гостей надо все это разрушать, но такого повода не было.
Так вот. Помудохалась бабушкина внучка со сдачей, раскатала губки на десять тысяч в месяц, пришлось собрать губки в гузночку – не было дураков. Какой же дурак в деньгах равняется на Москву? Нашелся врач-ветеринар, разведенный, вот он и купил эту угловую страшненькую однокомнатку. За сколько – тайна, и он молчал, и продавцы тоже.
Ну, приехал, поселился. Как-то позвонил в дверь, спросил, нету ли случайно полдюжины гвоздей с круглой крупной шляпкой, мол, кое-что починить надо. Пока Иван Кузьмич ковырялся в гвоздевом ящике, гостя пригласили в зал и посадили прямо перед телевизором, правда, не включенным. И Люся пошла к гостю для соблюдения приличий. Мужчина был весьма скучного вида. Остановить глаз было не на чем. Ни на внешности, ни на одежде. Но протянутую Люсей руку поцеловал, в смысле приложился. И Люся как-то вся изнутри как бы горячо вспухла и сказала, что восхищена его профессией – лечить животных. Спроси ее, с чего это она так врала, она бы растерялась. Она к животным была равнодушна, как и вся их семья. Ни собак, ни кошек сроду не держали, считали, что от них одна грязь. И сколько себя Люся помнит, никогда детского естественного желания «хочу собачку» у нее не было. А тут на тебе: из нее выскочило восхищение. Вежливый ожидатель гвоздей спросил про ее службу, и она ответила скромно: «Я просто человек. Я учительница». Что-то в лице гостя мелькнуло, откуда было Люсе знать, что бывшая жена его была учительницей и что он себе сказал: если эта сейчас скажет, что преподает литературу, то он встанет и уйдет, на хрена ему эти гвозди.
Бывшая жена заманала его чтением стихов жещин-поэтов и подробностями их личной жизни. «А Рубальская знает японский». «А Ахмадулина через мужа родственница Плисецкой». «А у Риммы Казаковой новый любовник. А знаешь, сколько ей лет?» Он ушел от нее в дождь, ночью, накрывшись одеялом, а она с балкона щебетала ему какие-то строчки. Вот почему он вздрагивал при слове «учительница».
– Я историк, – с достоинством ответила Люся, и гость улыбнулся широко и как бы облегченно.
А тут вошел отец с тремя разными гвоздями, они на фиг никуда не годились, но гость кинулся благодарить, а потом выбросил их на площадке в разбитое окно, из которого свистело неимоверно.
Но пока он еще сидит с гвоздями в кресле, и Ольга Петровна входит так, как она сроду не входила, и спрашивает: «Не хотите ли чаю?» – «Нет, нет», – вскрикивает гость и идет к выходу. Наличие гвоздей в руках исключает приложение к ручке молодой хозяйки, а то, что она оказалась не засратой филологиней, а учителем серьезного предмета, заставляет его – сам не ожидал – произнести невероятные слова: «Но я оставляю за собой право вернуться к вопросу чая в ближайшие дни» (сказалась все-таки жизнь рядом с изящной словесностью). «Приходите завтра вечером». – «Давайте послезавтра», – отвоевывал он день. «Хорошо. Ждем вечером. Часов в семь. Без обмана!» – щебечет Ольга Петровна. Она вдруг почувствовала себя молодой и значительной.
В кухне ей муж скажет:
– Вот так ляпнула сдуру, а он и привяжется ходить чаевничать. А послезавтра как раз по телевизору футбол.
Но отцовское сердце вдруг скумекало ситуацию: а вдруг? И он сказал, что вообще-то этот футбол можно и не смотреть, он заранее может угадать счет.
Люся пошла в свою комнату в некотором смятении. Ей никто никогда не целовал руку, и теперь она ее разглядывала на предмет именно этого предназначения. Конечно, руки чистые, что за вопрос. Но маникюр был старый, хотя его как раз видно не было, он же взял ее за пальцы. Рука ничем не пахла и не могла пахнуть, она не занимается хозяйством и, слава богу, не химик. Она посмотрела на себя в зеркало. Волосы распущены до плеч, так она ходит дома, а в школе у нее пучок, стянутый так, чтоб ни одна волосина не высмыкнулась. Школа – это строгость, не в смысле криков и окриков, а в смысле существования в приличии и достоинстве. Высокое воспитание, одним словом. Дома же можно распустить волосы и расстегнуть верхнюю пуговичку, и икнуть, и высморкаться громко, как хочется.
Предстояло дожить до послезавтра.
Ольга Петровна соображала, что стол, за которым обедали в кухне, надо будет перетащить в зал, выпихнув оттуда кресла и журнальный столик. Хотя была и другая идея. Почти интимная. Зазвать его в кухню как своего, мол, все у нас по-простому, потому как вы нам… Вот тут был напряг: а кто он им? Первое, что взбредало: великое кухонное братство интеллигенции. И она произнесла это вслух, когда в кухню входила Люся. Та услышала и заорала не своим голосом:
– Для кого речь пишешь?
Крик, именно звук, был обидный. За что? Но негоже ссориться с Люсей, от нее многое будет зависеть.
– Не слушай дуру-мать, доча. Я к тому: если мы устроим чаепитие, то где лучше? Со сдвигом мебели или без?
– Чаепитие со сдвигом – это классика, – засмеялась Люся. – Кухонное братство – что-то мышино-тараканье. Вообще, зачем ты это придумала? Я знаю, для меня. Ладно, пусть. Но, скажу прямо, это не мой номер, если я поймала твою мысль.
– А по-моему, он вполне. Высокий, сильный… И не старый еще.
– Ручки целует, – засмеялась дочь.
– Он поцеловал тебе руку? – прикинулась слепой дурой мать. – Да ты что? А я и не заметила. В наше время это штрих высокого…
– Да ладно тебе. Главное, упреди брата, чтобы не заявился.
– Ой! Точно! Это я обязательно сделаю. Он же без бутылки не приходит… Начнет тут… Кстати. Как ты считаешь? К чаю можно приложить ликерчик там или наливочку?..
Так неуверенно и без особых надежд начинавшееся мероприятие имело вполне симпатичный конец.
К чаю был испечен домашний яблочный пирог и куплен «Киевский» торт. Именно пирог разморил гостя. Его бывшая печь не умела, а этот был такой мягкий, душистый, весь какой-то проникающий. К торту даже не притронулись, хорошо, что коробка от него не была выкинута. Гость, звали его, как все наконец узнали, Сергеем Валерьяновичем, был так любезен, что, зная свойства своего нескладного отчества, сказал: он никогда никого им не напрягает, и можно говорить просто Сергей.
Это был первый полуинтим. Вторым был проход по квартире.
– Это у нас с вами общая стена? – спросил Валерьяныч.
– Да, – ответила Люся, – это моя комната.
– Вы спите через стенку, – засмеялся Иван Кузьмич.
– Папа, не хами, – обрезала Люся, но Яныч все как бы понял правильно и пошлого намека не услышал. Более того! Он как-то вкусно подумал о соединении площадей. Может получиться очень даже приличная квартира, если к ней приложить мысль и руки. А мысль была такая. Из лишней кухни он сделает ветприемную на дому. Это ж насколько другие возникают возможности!
Расставались уже просто как родные. И Люся была поцелована сладкими губами в щеку и слегка, чуть-чуть, прижата за талию. Мама все видела, и у нее затеплело в груди, отец же подумал: «Шустёр-гвоздодёр!» Главное же лицо – барышня – было сконфужено. Но было в этом троганье что-то неизведанное и – скажем прямо – приятное.
Дальше покатилось как с горки.
Яныч пригласил всех к себе, но у Ольги Петровны, на несчастье, случилось родительское собрание (вранье), а у Кузьмича – дежурство (еще одно вранье). И Люся храбро пошла одна к одинокому мужчине. А что может случиться?
А случилось… Выпили по рюмочке коньячка, говенного по сути, но значительного по определению. Сидели рядом на худенькой тахте, и Яныч, довольно долго находившийся на сексуальном посте (или посту?), быстро обнаружил очень аппетитные груди и пошел вниз по известной каждому мужику дорожке. А Люся, неожиданно для самой себя, сдавалась излишне быстро во время этого пока еще поверхностного овладения.
Люся была девственница, чего не мог даже вообразить Яныч. Где же вы видели в наше доступное время тридцатипятилетних целок? Разве что в Книге рекордов Гиннесса. Но что было, то было. И потрясенный Яныч сказал, что он порядочный человек, и он обязан на ней жениться. «Вовсе нет!» – пробормотала ошарашенная всем Люся.
План с квартирой оказался до смешного прост в исполнении. Прием больных животных на дому вне расписания просто был в кармане. Люся же была потрясена необычностью ощущений, приятно-неприятных одновременно. Одним словом, она приняла предложение честного человека, и уже радостно приняла его и вдругорядь.
Она вошла домой на разъезжающихся ногах и сказала родителям, что выходит замуж. От такой скорости мать просто зашатало, и она счастливо поползла по стене вниз.
Вот тут и вернемся к началу нашего рассказа.
В свадьбе дочери-перестарка должна была быть какая-нибудь особенная фишка. Что-то эдакое! Вдруг бы Люсю пригласили на работу в Москву. Или наградили чем-нибудь. Или вдруг брат подарил ей только что купленную машину. Или бы оказался живым и богатым погибший в войну отец Ольги Петровны и прислал бы им приглашение в Люксембург, где у него замок и лебединое озеро. В общем, ум зашел за разум, пошел потоком паморок.