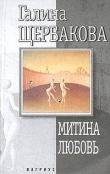Текст книги "Подробности мелких чувств (авторский сборник)"
Автор книги: Галина Щербакова
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Она жалела, что не смогла получить хорошего образования, спокойного и постепенного. Завлабша говорила ей: «Какие проблемы! Учись! Ты молодая и одинокая». Действительно, какие? Но она робела, боялась перемен, людей, конкурса, к тому же ей хотелось в университет, не в медицинский… Одним словом, духу не хватило, а там приспел и замуж, от которого она так долго оборонялась.
Он был прибалт, высокий и рыжий. Его звали Франц. Она никогда не скажет ему, что пошла на звук имени, как крыса за дудочкой. Она просила его вытягивать пальцы и пыталась повиснуть на них, дура такая. Хороший оказался парень. Она понравилась его родне, хотя он сказал, что мама пару раз вызывала неотложку, когда он написал ей про русскую невесту.
Боже, как она учила чужой язык! Когда переступила порог чистенького маленького дома недалеко от моря и пролепетала первые слова на их языке, мама Францика заплакала и заговорила с ней по-русски, и все пошло у них хорошо.
Потом она стала «собирателем их фамилии». Это когда ринулась в свой отпуск в Кемерово, где жила сосланная и считавшаяся потерянной родня мужа. И привезла на родину бабушку восьмидесяти лет, которая уже сходила с ума от сознания близкой смерти на чужбине. Она везла ее через всю страну, едва не потеряв старушку на Рижском вокзале в Москве, когда та сомлела, услышав свой язык по вокзальному радио. Кто-то потерялся, и его искали.
Она так и жила между Киевом и Ригой. В Киеве она копила силы, в Риге она их тратила. Дочка Лайма была счастьем в полном смысле слова. Она была похожа на ту бритоголубоголовую маму, которая, уходя от нее навсегда, старалась улыбаться. Так и эта, маленькая дурочка, вечно растягивает губы, чтоб виделись глубокие ямочки на щеках.
Сейчас она уже взрослая барышня, Францика уже нет. Он умер легко, на ходу, ни разу до этого не хворал. Лайма окончила университет и жила с бабушкой в Риге, а она сама по-прежнему со стеклышками бряк-бряк.
К Вере Алексеевне ее привело простое дело: она хотела узнать точно, из первых рук, сколько зарабатывает учительница в школе и легко ли найти сейчас работу в школе. Лайма ни о чем мать не просила, более того, говорила, что никогда-никогда-никогда в Киев не вернется, тем не менее… Если тут может быть лучше, «никогда» можно смять до последнего слога. Потому Мария пришла на разведку, хотя Лайма на это определенно скажет: «Мать! Это мои проблемы». Она ее называет – мать. Каждый раз Мария чуть-чуть пригибается под словом, как под непомерной тяжестью, но потом выпрямляется. Слово-то хорошее. Оно суть жизни, ее первоначальная клетка. Какого лучшего слова она ждет? Мать – это хорошо. Совсем не грубо. Не надо пригибаться.
Сейчас ей надо повернуться к Вере Алексеевне с лицом сегодняшнего дня и задать все необходимые вопросы. Но она спрашивает:
– Какая она, Астра?
– Стрижка короткая, а шея дряблая, – торопливо повторяет та уже давно сформулированную характеристику. – Интересовалась родней. Мы смотрели фотографии. – И вскриком: – Но я же понятия не имела, что ты ее знаешь!.. Откуда?
– Я жила у них после войны, ожидая папу, когда мама умерла. Ее мама сестра папы.
Вере Алексеевне это неинтересно. Они познакомились, будучи вполне взрослыми дамами. На чьих-то похоронах.
– Жаль, что я не знала, – раздражается Вера Алексеевна. – Встретились бы… Но имей в виду, она оставила и свой адрес, и сестры.
– Хорошо, – отвечает Мария. Она еще не знает, что адресом воспользуется. Не знает, что войдет в их посмертную жизнь, что это уведет ее далеко, далеко от квартиры Веры Алексеевны. Она пока ничего не знает. Ничего…
Голубая головка мамы мелькнула и исчезла. Исчезновение паче смерти. Еще она не знает, что коснулась самого средостения боли. Боли ее рода. Фу, как высокопарно! И потому неловко. Просто она вспомнила, как уводили маму. И сердце ее сжалось до размера высушенной сливки.
16
Лилию Ивановну так и не нашли. Наступило время потерянных людей, хотя, как явствует дальше из этого скромного сочинения, такое время просто никогда не кончалось. Майка, плача о матери и одновременно ругаясь с ней, ища ее в моргах и больницах и испытывая облегчение («не она! не она! не она!»), все-таки и слегка ликовала, потому как процесс обмена был завершен и ей обломилась удача, что там ни говори. И центр, и отдельная комната для Димочки, и потолки, как у бывших людей, а самое главное… самое… Этот политический проходимец из кавэенщиков, то бишь бывший муж, уже цокнул зубом, переступив порог ее квартиры, и сказал: «Красиво живешь, Параскева!» Тут было два момента: момент его зависти – самоочевидный – и момент нежности – потайной. Параскева домашнее, постельное имя, имя только для них двоих, сим-сим или сезам их сокровенно-откровенных отношений. Майка от его слов вздрогнула от копыток до маковки, но стреножила чувства. А измену, оскорбление подняла до самого горла и ими выплюнула:
– Да пошел ты!
И тем не менее ликование от слова в ней поселилось.
Астра звонила, спрашивала о сестре и успокаивала племянницу: никуда, мол, не могла деться Лилия Ивановна, взрослый, разумный человек, еще, слава богу, не в маразме. Просто она делает им всем назло. Астра говорила эти слова с чувством, как бы видя всю тенденцию жизни Лилии Ивановны: делать другим назло, а себе исключительно удобно.
Из прошлого выплывали расписные Стеньки Разина челны, и на них громоздилась история с их мамой. Как та вызывалась сестрой, когда была нужна, а потом выпихивалась в грудь, когда была без надобности.
О себе Астра в этот момент думала в превосходной степени. Она копила в себе хорошее, собираясь к Жорику.
– Я поеду на разведку, – объясняла она мужу Николаю Сергеевичу. – Хотя заранее знаю: там хорошо. Столько умных людей не могут уехать туда, где плохо.
Николай же Сергеевич от слов этих становился вялым и неконтактным. Он не загорался внутренней идеей отъезда, и Астра думала: вот она, разница крови. Вообще с той минуты, как где-то на облаке желания поселился шинкарь, Астра думала о собственной крови с нежностью, смешной для пожилой леди. Николай Сергеевич новаций в природе супруги не заметил и был, грубо говоря, не в курсе. Астра даже присмотрела себе новое имя, более подходящее ее новому составу. Например, как она узнала, еврейским было имя Анна. Кто бы мог подумать, но нате вам: Анна Каренина носила еврейское имя. На него Астра и наметила сменить свое. Пока она туда-сюда клокотала над ономастическими задачками, Николай Сергеевич ушел в себя так далеко, что окликающая его жена не получила ответа, обиделась, но и этим его не проняла, а когда он сподобился вернуться из собственного за-бредания, то очень удивился, обнаружив в доме малознакомую женщину с оскорбленно поджатым ртом. Николай Сергеевич печально задумался над всем этим, но задумался тайно. Он как-то враз решил, что его последующая жизнь не будет и не должна проистекать из предыдущей, и, опять же в тайне, высадил план новой жизни в виде письма в город Таганрог, где должна была быть его родственница, потомственная хранительница чеховских мест, покинуть которые она могла только если бы случился разлив Азовского моря с последующим затоплением Таганрога. Но и тогда… Впрочем, это уже страшное. Николай Сергеевич чувствовал желание прибиться к другому берегу. Но Астра была как бы без понимания. Она дотошно выясняла, сколько ей может стоить перемена паспорта, в котором она уже Анна и еврейка, с другой стороны, она не хотела, чтоб это стало достоянием всей улицы. Процесс шел тайный.
Как естественно и легко раздваиваются тропы. Это хорошо видно, если зависнуть на старенькой самолетной стрекозе, зависнуть и восхититься мудростью раздвоений, расчетверений дорог. Если же нет У-2 – а его нет и неоткуда взять простому человеку, – то можно зависнуть и над муравьиной кучей. Тоже красиво и наглядно, Как в анекдоте про пограничника, который сравнивал на вкус до боли родное слово «ж…» с чужим и неизвестным – «дупа». «Тоже красиво!» восхищался он, удивляясь чудности языка, который для замечательного места в любом народе находит замечательное слово. Так и мы…
Не мы – Астра и Николай Сергеевич. Они еще живут вместе, но тропы уже торят разные.
Когда Астра снова приехала в Москву с уже новеньким паспортом (два миллиона и золотые серьги – еще то золото – с камушком никаким, но как бы бриллиантовым), она застала там странную женщину в балахонистом платье, которое могло скрывать все, что угодно, – и шестьдесят кг и восемьдесят пять. «У вас платье на вырост», – сразу, с порога съязвила Астра, ибо была уже Анной, была другой и могла легко, с места в карьер сказать человеку возникшую мысль-гадость.
– Я люблю такие, – сказала женщина. – Я не люблю давление вещей.
Анна хотела ответить, что еще не пришло время носить на себе мешки, парашюты и плащ-палатки, время сейчас другое, время Дживанши и Версаче, ей ли, портнихе, это не знать, но не сказала. Смолчала. Зачем накалять атмосферу не по делу, надо еще разобраться, кто она, эта дура.
Через пять минут балахонистая уже плакала на груди у Астры-Анны. Та сразу вспомнила девочку с неукротимыми кудрями, которые они с Лилькой выпрямляли при помощи прищепок.
– Боже!
– Боже!
Вошла Майка, хмыкнула. Несколько дней тому назад она категорически воспротивилась этой тетке из Киева (Знаем мы вас, знаем! Я ваша тетя, приехала из Киева. Я буду у вас жить!). Но в конце концов на порог пустила, долго рассматривала паспорт, в котором ничего, ну ничего не указывало на родственные связи. Майка считала, что упомнила бы, если б слышала раньше, имя – Мария Григорьевна, с перебором рычащих звуков. Она еще не забыла собственное выкарабкивание из детской картавости. В конце концов родственница оказалась вполне нормальной. Выяснилось и приятное: где-то есть и сестренка из Риги. Возникло странное ощущение: пустоту, оставленную матерью, стала бурно наполнять неведомая родня. Майка выросла в суровом климате родственных отношений: ни на чью грудь припадать было не принято. Даже матери. Ошибочка вышла с разводом. Но тут Лилия Ивановна сама вмешалась. Возникшая из ничего родня смущала Майку. Когда тетя из Киева шла ночью в туалет и Майка слышала щелчок выключателя, она сонно думала: «Сиротой быть лучше».
Потом число щелчков увеличилось – приехала еще и тетя Астра. Сыночек Дима заперся в комнате, какое счастье, что есть такая возможность, и выходил только, когда «старух не было», те же царапались к нему в дверь, каждая со своим киндер-сюрпризом, но упрямый мальчик дверь не отворял и молчал, как убитый.
– У него нет момента аутизма? – спросила близкая к медицине тетя из Киева.
Майка шваркнула сковородкой по плите, а могла бы и поосторожней, как-никак металлокерамика.
– Он просто засранец! – сказала она. – Имеет всех нас в виду.
Астра нежно вспомнила Жорика. Всегда выходил к людям и здоровался, неважно даже как. Но выходил. И факт – здоровался.
Мария тоже вспомнила Лайму, воспитанную девочку. Но, может, у нее это балтийское?
Скажи она это вслух, они бы с Астрой сцепились: та вся сейчас состояла из крови шинкаря и отца-еврея, и ей даже казалось, что ее ишемическая болезнь стала вести себя несколько иначе, поддавшись грамотному определению. В конце концов внутренняя жизнь организма человека – это такая тайна, что ни в сказке сказать, а пером написать вообще глупо.
Приложив ладони к тому месту, где под покровом тканей полагается быть сердцу, Астраанна думала об удивительном полете, который ей предстоит. Она видела под собой лужу записанного человеками Черного моря, плавно парила над незнаемым Средиземным, она оставляла за собой горы и поля и шептала ишемическому сердцу слово, которое слышала в ателье, когда по требованию молоденькой и прыщеватой заказчицы все завышала и завышала той подол. Уже хорошо и четко ей, снизу, виднелись беленькие трусики и бедра хорошей лепки, от колена до паха – просто загляденье. Так вот на какой-то ей одной известной высоте юбки прыщавенькая разрешила остановиться и сказала это слово: «Кайф!»
Теперь вот, мысленно пролетая над бросаемым отечеством, Астра произнесла именно это слово, и сердце отдалось высокой и пронзительной экстрасистолой.
О чудность человеческих природ! Русской и еврейской. О великий антагонизм кровей, одинаково закодированных создателем! О великое учение, придуманное евреями и агрессивно захваченное русскими как свое, собственно рожденное.
Такая грязь у помоек, какая существует в еврейских религиозных дворах в славный праздник Песах (Пасхи), существует всегда в русских дворах, за исключением одного дня – праздника Пасхи.
Таинственные, перепутанные кровями и идеями чудики земли.
И смеющийся сверху Бог, который смеется над этими двумя, даря им все и все отнимая.
Астра смотала удочки. Не насовсем. На пока. Чтоб потом вернуться и забрать Николая Сергеевича. Ей и в голову не приходило, что переписка мужа с Таганрогом шла вовсю и ему уже было найдено место в семье хорошей вдовой женщины, тоже хранительницы какого-то музея. Эта женщина уже радостно ждала мужчину для оставшейся жизни и даже сходила к гинекологу на предмет что и как. У вдовицы все было в порядке. И тропа не заросла.
На что Николаю Сергеевичу было намекнуто в письме чеховской хранительницы. Он взволновался и выпил настойку пустырника. Астра как раз ходила ставить набойки на удобные немецкие туфли. Все-таки дорога, хотя и полет. Она хихикнула над этим, чувствуя в себе молодую траву радости.
Так и улетела в чиненой обуви с ощущением парадоксальности понятия «удобная обувь для полета в небесах».
Уехала и Мария. Она и провожала Астру, и все домогалась, когда та вернется, чтоб ей приехать и встретить. Но Астра виляла, от ответа уходила, а новая родственница нервничала: вот-вот обрела сестер – и сразу потеряла. Одну так в прямом смысле, а другая просто вся дрожит от самолетного нетерпения.
В этот момент у Марии началось то, что когда-то уже было, – страсть собрать семью. Она еще не оформила это в конкретное желание, но снова прицепилась к Астре, как репей: когда, мол, и когда? В смысле – вернешься…
Ей и в голову не могло вспрыгнуть, что клокочущее Астрино нутро просто сдерживало страстное «никогда! никогда!», хотя в голове этого еще не было. (Тут разница в ощущениях нутра и головы.) Сдерживалась же Астра по простой причине: в дорогу слова отрицания (в данном случае – «никогда») не говорятся. Нельзя на дорогу прощаться навсегда. Такая есть примета, а может, и не примета, а что-то большее и значительное, например, знание силы слова говоримого. Сказал – считай, что сделал, и это не шуточки, потому как по невидимым проволочкам побежал звук, завертелся спиралью – и пошло-поехало.
На Майку наступило одиночество, ощутимо так, будто босой ногой. То было столько пожилых теток, которые задевали мятыми турецкими юбками и пахли дешевым мылом. На всю жизнь оторопелые их глаза тайно высматривали в ней нечто им нужное почти до задыхания. Они ее тяготили, раздражали манерой часто пить соду, а еду заглатывать торопливо, не жуя, будто это последняя их пища. Исчезнувшая мама была такой же, вдруг подумалось Майке, просто она делала другой вид. Мол, я не такая.
Теперь вокруг нее никого. Только сын за постоянно запертой дверью, в которую ей нет ходу. «Не мешай, мама!» Майка куталась в пуховый платок, подаренный Астрой, никакой балконный ветер не мог выдуть из него запах нафталина, жареных семечек и каких-то примитивно стойких духов. Но уже через время она вдруг почувствовала: чужеродный, даже как бы неприятный дух вошел в нее и стал своим. С этого момента где-то в самом сущностном месте ее природы стала стремительно выпрямляться линия судьбы, о которой ни одна клеточка мозга не знала. Мозг не знал судьбы. Он был самодостаточен и в линии не верил.
17
Астру поселили в салоне, комнате главной, всеобщей и ничейной одновременно. С шести утра мимо нее начиналась странноватая мелодия другой жизни. Внуки влезали в футболки, снятые прямо с просушки. Жорик застил свет волосатыми ногами и плоскими жесткими коленями. На взгляд Астры, шорты начинались очень высоко, если смотреть на сына так, как смотрела она, с лежачего положения. Невестка носила тигриные лосины, и Астра стыдилась ее не смыкающихся ног. Самое невероятное – ноги были предметом гордости невестки, именно такие – растущие как бы сбоку. Такие ноги имели одну задачу – они носили тело невестки, и Астра с силой вдавливала именно эту педаль: носите ее, ноженьки, носите! Дай ей Бог здоровья!
Внуки ее не замечали, они включали телевизор в полседьмого, когда она деликатно притворялась спящей. Они садились на пол и пукали в ее сторону. «Это замечательно! – думала Астра. – Они здоровенькие и веселые». Педаль любви, которую она держала на пределе, уже слегка проваливалась, но ведь она приехала любить! Она приехала любить навсегда. В ней бурлила кровь отца и змеился ручеек таинственного шинкаря. Она имела правильные документы. Она носила еврейское имя Анна. Она ждала, когда Жорик скажет:
– Правда, у нас хорошо?
– Да! Да! Да! – закричит она.
– Ну так в чем же дело? – скажет он так трогательно и по-детски потянет носом, а она ему строго попеняет: «Жорик! Сынок! Ты большой мальчик, а так и не научился пользоваться платком». – «Да ну тебя, мама! Свои же сопли в себя же и тяну».
Они сядут рядком и будут кумекать, как все оформить, чтоб и Николай Сергеевич потом приехал. Они не с пустыми руками явятся – они продадут все!
Так она мечтала. Не зная – слава богу, и не узнав, – что Николай Сергеевич уже сидел под вишней у смотрительницы музея, не той, что сторожила Чехова, а у другой – намеченной ему на жизнь. Николаю Сергеевичу нравились и женщина, и вишня. Нравилась укорененность и той, и другой именно в эту землю, без всяких выбрыков сняться с места и податься черт-те куда. Когда Николай Сергеевич думал об Астре применительно к ее фантазии эмигрировать, он начинал испытывать что-то нехорошее, недоброе, он становился обиженным и оскорбленным сразу.
Конечно, можно сказать, что у сестер была закодирована ущербность выбора, если в конце концов они запали на идеологических патриотов, у которых родина вишня. Но это не так. Сочиняющий слоганы Свинцов был совсем не Николаем Сергеевичем, и наоборот. Николай Сергеевич был слеплен из другого теста, чем Свинцов. Если Свинцов натужно гордился пространством, то Николай Сергеевич просто боялся изменений собственной географии. Ему покойно было жить далеко от границы, в самой что ни на есть середине. Потом он гордо скажет: «Я центрист». Но это потом, когда он окончательно укоренится рядом с вишней. И придет время этому слову. Пока же Астра нахально лезла на ребро, а он с этим согласен не был.
– Она еще пожалеет, – сказал он новой своей подруге, но той не хотелось думать так. «Пусть не пожалеет, – считала она. – Тогда этот культурный мужчина останется со мной».
– Мы не будем ей желать зла, так ведь? – деликатно сказала она Николаю Сергеевичу.
– И думать нечего! – ответил тот.
Как же можно желать зла человеку на ребре? Это какую же надо иметь совесть!
Они хорошо сходились, эти оба два.
А там, где была Астра, где она ожидала от сына важных, сущностных слов, происходило совсем другое. Истекал срок пребывания матери у сына, а никаких намечтанных слов ею услышано не было. Астра не сомневалась: слова эти существовали в голове у Жорика, просто он не замечает, как быстро летит время, а им ведь многое предстоит обсудить до того, как она поедет в последнюю поездку на свою первую (эта, конечно, вторая, хотя и первая по глубинной сути) родину.
Как-то на большой лоджии, где только у ее детей ничего не росло и не завязывалось, она сказала невестке, цепляющей мокрые детские футболки:
– Я потом здесь все посажу. Я завью вам зеленью солнечный бок, где палит. И столик белый купим, со стульями. Как у тех… – И Астра ткнула пальцем в соседнюю лоджию, где под ярким зонтом стоял балконный гарнитурчик.
Невестка замерла с вытянутыми вверх руками, по ним вниз, под мышку, стали наперегонки скатываться капли с плохо отжатых футболок.
И еще у невестки слегка открылся рот, и в нем – было видно – дрожал почему-то желтый язык. Видимо, от экзотических фруктов, которые та ела корзинками.
Нет, невестка ничего не сказала. Шумно выдохнув, она закрыла рот и в один миг прищепила белье.
Вечером Жорик спросил мать, что она хочет, чтоб они ей купили в память о поездке. Именно так, четко, было проартикулировано. Память о поездке. Рапан там с надписью «Привет из Хайфы!». Сувенирные стеклышки с волнистыми линиями, изображающими море, и белыми пятнами облаков, на которых млеют какие-то неведомые слова.
Значит, и ей, Астре, полагался израильский рапан – и никаких слов? И больше никаких слов?!
– В следующий раз приедем уже мы, – затараторила невестка, – еще не на следующий год, но потом…
– У отца какой размер? – перехватил мелодию разговора Жорик. Это она, Астра, настояла, чтоб сын называл Николая Сергеевича отцом. Но сейчас ее это почему-то царапнуло. Может, каким-то неведомым путем пришло к ней знание о соприкосновении двух рук на клеенке под вишней – руки хранительницы музея и руки ощущенного, как бывший, мужа? А может, было другое? Просто Астра засобиралась в неведомую дорогу, еще не осознавая, что это за дорога и куда она ведет.
Она вскочила, что-то залопотала про то, что хочет пройтись. Она стала фальшива и неестественна, но ни Жорик, ни невестка этого не заметили. Суетится перед отъездом старуха – подумаешь! К тому же сама она ощущала в себе странную горе-радость побега. Оказывается, горе-радость гнездилась где-то глубоко и, видимо, гнездилась всегда, а вот сейчас взяла и расщеперила смятые, волглые крылышки и норовит взлететь, норовит взмыть эта ее птица побега.
Таким вот образом и оказалась Астраанна на тахане-мерказит, по-простому на автобусной станции, где можно было сесть на длинную лавку, а спиной прижаться к бетонному столбу. Очень хотелось вытянуть ноги, и она подняла их на свободное место. Подняла и удивилась, как далеки от нее оказались детские носочки на ее ногах, в какой-то такой необозримой дали, что ей теперь до них как бы уже и не добраться никаким живым путем.
Уже потом, потом была суета поисков, больница, бородатый доктор Хаим, думающий свою странную думу о еврействе вообще и о себе в частности… Были телеграммы Николаю Сергеевичу и полная тишина в ответ, пока Жорик не вызвонил какого-то приятеля, который и сообщил ему: а Николай-то Сергеевич канул! Был, был и канул. Ни куда, ни зачем – народ не в курсе. Были новые, уже израильские, приятели Жорика, хорошие ребята, которые сказали: хорони здесь. Как мать и как одинокую там, в России. Тут-то и пригодились выправленные под знаменем шинкаря бумажки, и легла Астраанна в землю обетованную, как того и хотела. В конце концов все было правильно. Это она, а не кто другой, запевала в хоре песню: «Все мечты сбываются, товарищ, если только сильно пожелаешь, если только захотеть, если только не робеть…» и так далее в том же напористом темпе, с большим количеством вложения души в горло.
18
Майка мерзла в пуховом платке. Она не знала, что носит подарок уже покойницы, она как раз обижалась, что тетка не написала ни словечка, откуда было ей знать, что Жорик звонил, но по ее старому телефону – попробуй уследи за нашими переменами, – и его послали куда надо, послали даже с некоторым перебором чувств, мол, пошел ты, жидовская твоя морда, нету тебе тут знакомых. Это был сын Филиппа, пасынка исчезнувшей Лилии Ивановны. Парень просто был пьян и зол. А тут по телефону голос издалека, со специфической синкопической мелодией. Да кто ты такой? А? Чтоб меня тревожить?
Жена Жорика криком закричала, что в «эту страшную страну» она не пустит мужа, даже если маме (именно так было сказано об Астре единственный раз в жизни) придется лежать в холодильнике всю оставшуюся жизнь. Или смерть? Или жизнь после смерти? Или смерть после жизни? Но последнее – глупая глупость, потому как и есть истина. Хотя разве истина может быть глупостью? Именно она и может!
Сама же мысль душу саднит. Что есть пребывание человека в холодильнике? Он уже там или еще тут? Трудно же как-то вообразить душу, на которую мы так стали рассчитывать, что она, как беспутная дочь, отлетит от еще вчера согревавшего ее дома с нахальным вскликом: «Да разбирайтесь сами с вашим грубым материализмом! Меня заждались в четвертом измерении».
Нет, мысль о лежащих в холодильниках людях (?), и, как известно, в большом количестве, саднит.
Невестка сомкнула несмыкаемые колени и закричала:
– Хороним здесь!
И это было хорошо и окончательно.
Майка же мерзла, мерзла и мерзла. И только когда прошли все сроки возвращения тетки, сама вызвонила Жорика по справочному. И тот ей оскорбленно (за телефонное хамство Филиппова сына) сказал, что маму похоронили по всем правилам. Случился инсульт, можно сказать, в последний день, как раз собирались идти покупать сувениры.
Майка плакала в пуховый платок, ощущая себя, как на юру. Дуло, сквозило со всех сторон, а пуще всего со стороны запертой двери, где сидел у ухмыляющегося компьютера сынок Димочка. Дорогая машина смеялась над женщиной, потому как была бессмертна и не отягощена мелкостью человеческих чувств. Тоже мне смерть. «Все сдохнут», – глядя в лицо Димочке, сказала машина, но он, юный, не понял ее, потно держась за «мышку». Повелитель мышей, он верил в машину больше, чем в маму, одиноко стоящую за дверью.
Только психическим нездоровьем можно было объяснить, что Майка позвонила бывшему мужу-кавэенщику.
Тот был рад. Ему нравилось собственное участие в судьбе бывшей жены. Ему нравилось и то, что она теперь жила квартирно совсем хорошо, и иногда иногда! – он видел себя в тех стенах, и вариантность жизни, возможность выбора делала судьбу терпкой и даже пьяноватой. Только случай – какая-то вонючая презентация помешал ему приехать к бывшей жене сейчас и сразу. А у Майки таким образом оказалось время, чтобы написать письмо Марии. В конце концов при более внимательном рассмотрении обнаруживалось: смерть тети Астры могла заинтересовать Марию больше, чем ее бывшего мужа.
И та примчалась из Киева.
На это расчета не было. Нет, не в том смысле, что Майка была ей не рада, но, скажем, и не настолько рада. Мария – родственница приблудная, иначе не скажешь. Тетка она ничего себе, но чтоб вот так явиться-не запылиться… Мария начала с дурного: покойницу надо перевезти на родину, туда, где лежат бабушки и дедушки, что только так, по-людски, а не иначе.
– А где они, могилы? – спросила Майка. Вопрос на засыпку. Мария не знала, где лежит ее матушка, до сих пор ничего не знала об исчезнувшей матери и Майка. Она кричала всем: «Она уехала от меня на лифте!» Некоторые спрашивали: «Вверх или вниз?» «Вниз!» – отвечала Майка, и люди как-то загадочно переглядывались, как бы намекая на бесконечность движения лифта вниз вплоть до…
Майка отвергла глупость перезахоронения. «Тоже мне Шаляпин», – сказала она, имея в виду незначительность Астриного праха. Мария как-то сразу согласилась, проявив бессмысленность напора своих предыдущих слов. «Да, да, она же осталась с сыном», – согласилась Мария.
Майка уже жалела, что Мария приехала; она не облегчает внутреннюю смуту, а надсаживает душу еще сильнее и больнее.
Утром Мария вышла из комнаты с новой идеей. Они все – она, ее дочь Лайма, Майя, сын Димочка – должны съездить на могилу Астры. Это их долг.
«Боже! Какая она идиотка! – подумала с тоской Майка. – Какая законченная и клиническая идиотка».
Она так и сказала: «Это чушь, тетя Маша, чушь! У нас просто нет денег».
– Тогда я поеду одна, – ответила Мария.
– Воля ваша, – буркнула Майка.
Они раздраженно пили чай. Нет, не так. Раздраженно пила Майка, а Мария сидела замолкшая, отстраненная. В этот момент она мысленно предлагала поездку дочери Лайме, и та ей отвечала так, как она отвечала всегда: «Мать, надо думать, прежде чем…»
Ну да, ну да… Русско-балтийские скорости у них не совпадали. И чем дальше, тем больше Лайма становилась дочерью своего отца Франца и внучкой потомственной рижанки. Отделение от матери было мягким и холодным. Мария слабела от несправедливого хода вещей, а слабость делала ее покорной. Разве она имеет что-то против своей свекрови? Боже сохрани! Одна любовь и благодарность, но получалось – именно на этих замечательных чувствах уплывала вдаль единственная доченька. «Надо думать, прежде чем…»
19
Стремление на могилу Астры стало ее манией.
Поездка на ту могилу закрывала для Марии какие-то внутренние пустоты. С точки зрения ходового здравого смысла, это, конечно, дурь. Но при чем тут смысл? Более того, отодвигание здравого смысла в сторону – посторонись, дескать, – и было главным в поездке. Поди ж ты, какая чушь! Но с некоторых пор все больше краешком ума касаешься этой весьма небогоугодной идеи – не эта ли последняя, что на букву «Ч», и движет солнце и светила? Крутись они от другой буквы, стало бы с людьми то, что стало?
Мария написала письмо Жорику. Представилась. Двумя фразами очертила общее детство с его матерью. Попросилась приехать. Она не знала, что в доме Жорика возник скандал из-за тетки, про которую никто не слышал.
Жорик позвонил Майке. Та сказала: «Не бойся. Она хорошая, только забубенная. А кто сейчас без прибабаха? Или ты хочешь, чтобы я ее отговорила? Сказала, что у вас там бомбят или тропическая болезнь?»
Но Жорик оскорбился: он вынесет на своих широких плечах неизвестную родственницу, если не больше недели. «Вот об этом предупреди ее обязательно, скажи, что у нас человеческий перегруз».
И Мария получила приглашение.
На нее обиделась прибалтийская родня. Не было сказано никаких таких слов, но мимика и жесты были. Мария приехала в Ригу приодеться на далекую дорогу, чтоб Лайма научила ее, как ей лучше выглядеть. «Если бы я их не знала, думала Мария, бродя по кромке воды Юрмалы, – я бы решила, что они антисемиты. Но это не так! Они спасали в войну еврейскую семью. Это все знают».
Могло ли ей в голову прийти, что тут другое? Что само желание Марии слепить прошлое их раздражает как действо бессмысленное, никчемное и даже в чем-то богопротивное. «Нельзя вернуть ушедшую воду», – сказала ей свекровь.
Мария чуть было не ляпнула, как она возвращала ушедшую воду, ездя в Кемерово и обратно, как держала на руках сомлевшую на Рижском вокзале их бабушку, но смолчала. Куда бы привело выпячивание этой истории? Ведь для нее это было счастье, которое уже само по себе награда. Она смолчала, потому что совсем недавно как-то сами собой сложились слова: «Не надо спорить. В споре не рождается истина. В споре рождается склока».
Конечно, ушедшую воду не вернуть, но поставить свечу на могилу Астры от них от всех – она поставит. Это бесспорно.