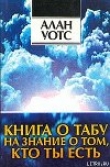Текст книги "Псалом"
Автор книги: Фридрих Горенштейн
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Фридрих Горенштейн
ПСАЛОМ
Роман-размышление о четырех казнях Господних
Посвящается моей матери
Не следуй за большинством на зло
и не решай тяжбы, отступая по большинству
от правды. И бедному не потворствуй в тяжбе его.
Вторая Книга Моисеева. Исход
Следовать за мыслями великого человека
есть наука самая занимательная.
Пушкин
Наслышался и про вашу живопись.
Бог дал вам одно лицо, а вы себе – другое.
Иная и хвостом, и ножкой, и языком,
и всякую Божью тварь обзовет по-своему,
но какую штуку ни выкинет,
всё это одна святая невинность.
Шекспир. Гамлет
I
«Увы! Шум народов многих! Шумят они, как шумит море. Рев племен! Они ревут, как ревут сильные воды!» Так изрек Исайя, сын Амосов, пророк, за восемь веков до Вифлеемской звезды предсказавший Рождество Младенца, Ребенка, Сына своему сердечно любимому, непослушному и упрямому народу. Народу, изнемогавшему среди рева и топота со всех сторон. Так изрек пророк, чутким ухом уловивший самый опасный, тяжелый топот с Севера.
Да, шумно и суетливо на земле. Но чем выше к небу, тем все более стихает шум, и чем ближе к Господу, тем менее жалко людей. Вот почему Господь, чтоб пожалеть человека, шлет на землю своих посланцев. Не сам по себе шлет их на землю Господь, не сам избирает, а шлет тех, кого изберут и обозначат пророки. Такое право дал человеку Господь лишь в самом начале бытия, при сотворении мира. «Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных и привел их к человеку, чтоб видеть, как он назовет их, и чтоб как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей». Этим заложил Господь в человеке силу Творца и приобщил человека к тайне искусства. На седьмой день творения было Рождество искусства, на седьмой день был человеку этот Божий подарок, и по сей день сохранил Господь его для избранных. Из среды этих избранных выделил Он пророков-предсказателей великих и малых, а из среды пророков выделил лишь трех – Моисея, создателя Божьего Закона, Исайю, предсказавшего Мессию, Христа из колена Иудина, и Иеремию, предсказавшего Антимессию, Антихриста из колена Данова.
На смертном одре своем Иаков, зачинатель Израиля, сообщил каждому из двенадцати сыновей своих его будущее, чтоб не было у сыновей любопытства к своей судьбе и все силы свои они отдали лишь на исполнение Завета. Четвертому сыну Иуде он сказал:
– Иуда! Тебя восхвалят братья твои. Твоя рука на хребте врагов твоих. Поклонятся тебе сыны отца твоего. Молодой лев Иуда, с добычи сын мой поднимается. Преклонился он, лег, как лев и как львица, кто поднимет его? Не отойдет скипетр от Иуды и законодатель от чресел его, доколе не придет Примиритель и Ему покорность народов…
Шестому сыну своему Дану он сказал:
– Дан будет судить народ свой, как одно из колен Израиля. Дан будет змеем на дороге, Аспидом на пути, уязвляющим ногу коня, так что всадник его упадет назад…
От полноты силы и похода льва родился Мессия-Христос, от Аспида, змеи, заменявшей древним палачам и самоубийцам орудие смерти, родился Антимессия-Антихрист. И в великий день Благословения и Проклятия, когда Моисей из колена Левия учил народ любить Бога и страшиться злословия, они стояли порознь. Колено Иудино на горе Благословения Геризим, колено Даново на горе Проклятия – Гевал.
Далеко тогда ушло уж время от седьмого дня Творения, святого дня Рождества искусства. Уж муки мысли, самая страшная земная пытка, которой впоследствии подвергся Шекспир, гений, тесно прижавшийся к земле и отринутый Небесами, ибо тот, кто силен в помыслах человеческих, всегда слаб в помыслах Божьих, уж мука мысли пытала человека, мука, за которую он был изгнан из Эдема и проклят на вечный труд. Уж и искусство, святой Подарок Господа, научился человек обращать против Того, Кто Подарил. И первое проклятие, которое было произнесено на горе Гевал по Заповеди Моисея, было:
– Проклят, кто сделает изваяние или литой кумир, мерзость пред Господом, произведение рук художника и поставит его в тайном месте!
Но человек, терзаемый желаниями и стыдом, порожденными от Древа познания Добра и Зла, продолжал не знать пределов своих и не имел страха. Он создавал кумиры уже не тайно, а открыто, возносил к небесам таких же, как он, грешных и себе подобных… Тщетно, подобно гласу в пустыне, взывал великий пророк-страдалец Иеремия:
– Язык их выстроган художником, и сами они оправлены в золото, но ложны и не могут говорить. И ничем иным они не делаются, как тем, чем желали их сделать художники. Видя толпу спереди и сзади их, поклоняющуся перед ними, скажите в уме: «Тебе должно поклоняться, Владыко…»
Однако с Иеремией за пророчество поступили по традиции, его били и посадили в подвал Ионафана-писца, превращенный в народную темницу. Когда же страдания Иеремии стали таковы, что он мог умереть, царь проявил к нему милость и перевел его в свою царскую темницу, во двор стражи, где ему давали хлеба.
Царь дал приказание Авдемелеху Ефиоплянину, сказал: «Возьмите с собой отсюда тридцать человек и вытащите Иеремию-пророка, доколе он не умер». Авдемелех взял старых негодных тряпок и старых негодных лоскутьев и опустил их на веревках в яму к Иеремии. И сказал Авдемелех Иеремии: «Положи эти старые брошенные тряпки и лоскутья под мышки рук твоих, под веревки». И сделал так Иеремия. И потащили Иеремию на веревках и вытащили его из ямы, и оставался Иеремия во дворе стражи.
Так страдал великий еврейский пророк, предсказавший Антихриста из среды братьев своих из колена Данова и создавший легендарное учение о непротивлении нечестивцу злом и насилием, которое через семь веков было заимствовано у него и стало всемирно известным. Ибо всякий пророк проповедует против царя и против народа и ими преследуется и казнится. Потому Господь, который не мог всеобщим наказанием погубить многих грешных, дабы при том не погибли немногие праведные, ибо жизнь его Рукопись Божья, а даже земной творец, если только он не работает в стиле социалистического реализма, не может погубить злое, оставив доброе, а может лишь, подобно Гоголю, бросить всю рукопись в огонь, казнив ее целиком. Итак, Господь, который еще со времен Ноя отказался от всеобщей казни, создал против казней царских и казней народных четыре тяжких казни Господни. Вот они, как изложил их пророк изгнания Иезекииль.
Первая казнь – меч, вторая – голод, третья – зверь, толкуемый как похоть, четвертая – болезнь, моровая язва…
Иногда приходят эти казни вместе, иногда порознь, иногда усиливается одна, иногда другая… Но в тот год, когда свершилось предсказание мученика-пророка Иеремии и Дан из колена Данова, Аспид, созданный не для благословения, а для суда и проклятия, Антихрист явился на землю, особенно усилилась вторая казнь Господня – голод. Сбылось сказанное пророком Иезекиилем:
– И пошлю лютые стрелы голода, которые будут губить, пошлю их на погибель вашу и усилю голод между вами и сокрушу хлебную опору у вас…
Тогда пришел на землю Дан из колена Данова, Антихрист… Было это в 1933 году, осенью, неподалеку от города Димитрова Харьковской области… Там было начало первой притчи. Ибо когда приходят казни Господа, обычные людские судьбы слагаются в пророческие притчи.
ПРИТЧА О ПОТЕРЯННОМ БРАТЕ
– Пришла жатва, кончилось лето, а мы не спасены, – так говорил пророк Иеремия в пасмурный, как ныне, день, глядевший на пустые поля земли обетованной, которые в осенние сумерки были необжиты и страшны, как и темное, грозное небо над ними. – Смотрю на землю, и вот она разорена и пуста, на небеса, и нет на них света.
И действительно, из окна бывшего кабака, ныне народной чайной колхоза «Красный пахарь», видна была та же самая земля и то самое небо, которые терзали сердце еврейского пророка, проникнутое состраданием, сердце пессимиста-человеколюбца, печальника-псалмопевца.
Надо попутно заметить, что если более чем две тысячи лет нынешней цивилизации почти не изменили характер оптимиста, не убавив у него ветреных легких восторгов и не прибавив ума, то пессимист изменился полностью… Утратив лиричность, он приобрел философскую остроту и надменное презрение к жизни… Впрочем, из всех собравшихся в тот вечер в народной чайной колхоза «Красный пахарь» обо всем этом имел понятие только один человек, да и тот подросток, почти что мальчик, причем явно не из местных, так что на него остальные посетители первое время довольно часто поглядывали. Мальчик этот сидел в стороне от общества, в самом неудоб-ном месте, за столиком у окна. Одет он был по-городскому и вида был явно еврейского, но так как в этот год коллективизации и неурожая из города приезжало множество уполномоченных и среди них немало евреев, то мальчик-подросток вскоре примелькался посетителям и о нем забыли. К тому же от окна, частично заколоченного фанерой, сильно дуло, и столиком у окна никто из опытных посетителей не пользовался.
Посетители чайной были в тот вечер из самой зажиточной по нынешним временам части местного населения – трактористы-ударники, собравшиеся после районного слета. По случаю слета в буфет привезли селедку и булочки, а в чайную семечки и монпансье-леденцы. И потому с раннего еще утра ударникам-трактористам начали досаждать нищие. Да еще полбеды, если только из своего села Шагаро-Петровского. Шли отовсюду – из Ком-Кузнецовского, и из поселка Липки, и с хуторов…
– Господи! Иисусе Христе… Сыне Божий…
Этот припев, исполняемый то звонким детским голосом, то старческим заплетающимся шепотком, испокон веков сопровождал традиционный русский неурожай и голод. И во времена Бориса Годунова, и во времена более поздние, описанные Львом Толстым и Короленко, отцы и матери и все работящее население в разорении и голоде становилось нахлебниками детей своих и стариков, живя Христовым именем. Когда-то Короленко назвал нищенство на Руси грандиоз-ной народной силой. Однако ныне к неурожаю и голоду прибавились страхи и волнение, и эта сила, последняя сила в беде, начала изнемогать. Церковь за грехи ее стала прахом, а о народе без пастыря давно еще с тоской сердечной сказал Иеремия:
– Неразумные они дети, и нет в них смысла, они умны на зло, но добра делать не умеют.
И ранее не все подавали с охотой, не по доброму сердцу, а из страха перед грехом. Ныне же все грехи небесные были отменены новой властью, а в церквах, где еще недавно священники равнодушными устами превращали живые истины в мертвые побрякушки, в церквах ныне пахло сырым погребом, спиртной запах стоял от преющей соломы и дурно хранящейся картошки. Иисус Христос из колена Иудина был повсюду отменен и заменен, снят со стен в местах общественных, соскоблен и заклеен. Но нищенствовали по-прежнему Христовым именем, хотя бы потому, что ничего другого для нищих придумано не было, ибо нищий, испокон веков стоящий на самой низкой ступени общества, для пропитания своего может пользоваться лишь самым высоким, чтобы воздействовать на черствость братьев своих. Мог ли кто додуматься нищенствовать именем Совета Народных Комиссаров и при этом не сойти за провокатора, караемого ГПУ? Поэтому Христово имя для нищенства было сохранено как анахронизм, подобно некоторым маркам дореволюционных папирос.
Итак, к вечеру, когда в народной чайной раздался обычный припев: «Господи! Иисусе Христе… Сыне Божий», – мало кто поднял голову от беседы, или от питья морковного чая с леденцами-монпансье, или от настоящего застолья, что шумело вокруг стола бригадира. Там стоял штоф разбавленного спирта и лежало на тарелках рядом с селедкой настоящее розовое сало…
Незадолго перед этим подали двум мальчикам-братьям, которые пели и плясали цыганочку, потом старику, потом женщине с грудным младенцем… Нищета назойлива, у нищеты нет ни такта, ни совести, ее желание – побольше урвать для себя, опередив своего же брата нищего…
Вошедшая в чайную девочка явно не желала знать о том, что люди устали за день, что они ели и пили свое, добытое тяжким трудом, а также счастливым везением и привилегией, что нищие надоели им, как слепни, сосущие кровь рабочей лошади.
Вообще, в нищенстве детей есть нечто наглое и требовательное, в отличие от нищенства взрослых и особенно стариков. Во-первых, ребенок-нищий редко плачет, стараясь разжалобить, а если плачет, то явно фальшиво, видно, что его научили плакать, а не сам он плачет. Во-вторых, благодарит он за подаяние без удовольствия, а часто и вовсе не благодарит, берет как должное, словно все вокруг должны ему и словно все вокруг ему родные отец и мать. К тому ж в народ-ной чайной женщин не было, а мужчина в чайной подаст скорей, если нищий его не разжалобит, а, наоборот, развеселит, как щедро подали двум братьям, плясавшим цыганочку. Но девочка, видно, нищенствовала недавно, она не веселила публику, просто шла меж столиков, заученно произнося Христово имя звонким голоском, как детскую считалку. Лицо у девочки было типично бабье, спокойное, в серых глазах нечто меж глупостью и добротой, а в губах уже женское, припухлое, но понятное не ей, а более со стороны и лишь опытному глазу. Такие лица обычно бывают круглы и сыты и от малого, от кусочка хорошего хлеба и ломтика сала, но, видать, малого этого не было давно. Малое это щедро лежало на столе бригадира, но от того богатого стола ее прогнали, а у других столов, победнее, на нее никто и внимания не обратил, даже леденца не подал или горстки семечек. Тому, как известно, были причины – народ жил трудно, устал от нищих и не боялся греха. Девочка, обойдя все столики, направилась было к последнему, самому дальнему, где сидел городской мальчик еврейского облика. Но вдруг остановилась в нерешительности. Надо заметить, что все нищие, посещавшие чайную в этот вечер, не подходили к дальнему столику, наверное, опасаясь городского чужака. Девочка тоже сразу признала в нем чужака, но не потому она остановилась в нерешительности. Свои не подали, и она как раз решилась попросить у чужака в надежде, что тот подаст. Взгляд остановил ее, мгновение, словно вспышка огня межзвездного из темных глаз. Она, конечно, не знала, что это взгляд Аспида, Антихриста, предсказанного пророком.
Нет, не того Антихриста, о котором кликушествуют христианские живописцы и проповеду-ют философы, не Антихриста – врага Христа, и не того Антихриста, которым балуются мисти-ки-модернисты, называющие Антихриста Творцом и ставящие его выше Бога, а Антихриста, который вместе с Братом своим делает Божье… Один послан для Проклятья и Суда, другой для Благословения и Любви… Один с горы Проклятия Гевал, другой с горы Благословения Геризим… Лишь на мгновение, подобно блеску молнии, не сдержал своих чувств Дан из колена Данова, предсказанный Иеремией, но тягостно вдруг стало в народной чайной, затих говор, и все головы, даже и бригадира трактористов, человека влиятельного, втянуты были в плечи невольно и бессознательно, что случается, когда мимо проносится нечто тяжелое или острое, несущее смерть…
Причиной несдержанности чувств у Дана была тоска по дому своему, которая была свежа, как недавно вырытая могила. Ненастный вечер с дождем, столь нередкий осенью на Харьков-щине, еще более усилил эту тоску, которая доходила до крайности при виде чужих, далеких сердцу его лиц, к тому ж веселивших друг друга и друг другу приятных, что подбавляло последние капли к жгучей тоске чужака… Весь вечер Дан, Антихрист, впечатлительный, как все еврейские дети, старался найти для глаз своих, умных и злых глаз Аспида, покойный предмет, чтоб если не развеселить душу, то хотя бы дать ей передохнуть. Но обращал ли он взор внутрь народной чайной, повсюду были темные головы отступников, и на унылых лицах не было ни тени лиризма, на наглых – ни тени величия, а на добрых – ни тени ума. Обращал ли он своей взор вне народной чайной, и за окном являлась та российская, осенняя, провинциальная безнадежность с мокрыми тополями у дороги, с собачьим лаем, с двумя-тремя мигающими вдали огоньками, что хоть закричи, хоть заплачь, ничего против нее не действует, кроме стакана бурякового самогона. Но славянский рецепт был непригоден сыну Иакова, в забвении видевшему подобие смерти. Смерть же, столь возвеличенная во многих восточных религиях и философских системах, была ненавистна народу его, смерть ли физическая, смерть ли в буддийском созерцании… «Ибо в смерти нет памятования о Тебе, во гробе, кто будет славить Тебя. Обратись, Господи, избавь душу мою, спаси меня ради милости Твоей». Так сказано в псалме номер шесть. Смерть лишает человека возможности исполнять долг свой – сознательно любить Господа. В буддийской же нирване он любит не Господа, он любит себя… Всякому посланцу Неба, идущему земным путем, не избежать человеческого. Дан помнил это наставление, оно было записано на повязках его рядом с изречениями из Закона Моисеева, Повязках, прикрепленных к запястьям. Но здесь, на Харьковщине, в первые часы свои все человеческое было еще чуждо Дану, и потому он обратил взор свой внутрь себя и увидел город свой, освещенный солнцем месяца Авив.
Овечьи ворота, и Рыбные ворота, и ворота Источника у водоема Селах против Царского сада у ступеней… И Печную башню… И Оружейную на углу близ гробницы Давидовой. И выкопанный пруд у дома Елиашива, первосвященника. И верхний дом царский возле двора темничного, где страдал великий провидец Иеремия. И стену Офел. И Конские ворота против дома торговцев. И Водяные ворота на площади Торговцев, где с деревянного возвышения великий книжник Ездра от рассвета до полудня читал народу, павшему духом в Вавилонском угнетении, Книгу Закона Моисея, и уши народа были приклонены к Книге. Ездра из колена Левия читал, а священники поясняли. Дан знал, что Ездра пережил самое счастливое, что может пережить пророк, – редкую покорность народа добру. «И открыл Ездра Книгу перед глазами всего народа, потому что он стоял выше всего народа. И когда он открыл ее, весь народ встал».
Дан помнил, что, приобщаясь к великому, слушая слова Закона, весь народ стоя плакал от счастья. Тот самый народ, который несколькими веками ранее сжег проповеди Иеремии, а несколькими веками позже отверг царя своего Иисуса из колена Иудина. Дан знал, что Брат его Иисус мечтал об успехе, выпавшем на долю Ездры, Брат мечтал подняться с рассветом на деревянное возвышение среди площади Торговцев у Водяных ворот и увидеть в глазах народа радостные слезы раскаяния. Ибо он любил народ свой так же страстно, как великий книжник Ездра свой народ с медными лбами упрямства и железными жилами в шее, жилами непокорнос-ти Господу. Он любил свой народ так, что порой даже терял благородство в словах. Это ведь Он, Иисус, Брат Дана, сказал, что живет ради своих злых детей, а не ради чужих добрых псов. Но эту его мысль, которую весьма бегло и неполно, но по сути ясно изложил евангелист Матфей, христианские проповедники, начиная с Савла из колена Вениаминова, впоследствии апостола Павла, первого выкреста на земле, христианские проповедники как-то ухитрились не заметить… Брат его жил и боролся ради своего народа и умер от рук тех, кто сотрудничал с римскими оккупантами, кого по нынешним временам именуют коллаборационистами. Так же, как свои угнетенные братья не поняли его любви к ним, так же и чужие угнетатели не поняли его ненависти к ним. В истории с римлянином Пилатом, пытавшимся выручить Иисуса, повторяется история с Навузарданом, начальником телохранителей царя Вавилонского, выручившего Иеремию из темницы, куда он был посажен своими братьями как пораженец. Ибо и Иеремия, и Иисус указывали на путь непротивления злу, который кажется идеалистическим только тем, кто не понимает основы еврейской мысли – крайняя практичность в бытии при предельной метафизичности в Небесном. Путь непротивления злу перед лицом сильного нечестивца возможен, однако при одной важной оговорке, указанной у Иеремии. В принципе она звучит так: пусть нечестивец берет все, но и ты должен взять у нечестивца в качестве добычи своей душу свою… Главное – перед лицом нечестивца сохранить как добычу душу свою, ибо нечестивец душу свою рано или поздно потеряет, а любовью твоей, которой ты полюбишь его за зло его, воспользоваться Не сумеет. Ты же сам ею и воспользуешься. Вот она, предельная еврейская практичность мысли о непротивлении злу насилием… Но перед лицом современного нечестивца, созданного движением цивилизации, все менее возможна оговорка пророка Иеремии, Оговорка, которую знал и на которую рассчитывал Брат Дана, Иисус из колена Иудина, Брате горы Благословения Геризим…
Ох, как далеко в мыслях своих и видениях своих ушел Дан от осеннего дождливого вечера села Шагаро-Петровское Димитровского района Харьковской области к тому моменту, когда девочка-нищенка направилась было к нему в надежде, что он ей подаст милостыню. В первые секунды, когда он обратил к ней не остывший от Нездешнего взор, она сильно испугалась, так испугалась, что и хотела бы закричать, да сил не было. Когда же силы начали к нищенке возвращаться, Дан уже протягивал ей кусок хлеба, который достал из своей пастушьей сумки грубой необработанной кожи. Хлеб этот был нечистый хлеб изгнания, завещанный Господом через пророка изгнания Иезекииля. Испечен он был из смеси пшеницы и ячменя, бобов и чечевицы. За грехи завещал Господь печь этот нечистый хлеб изгнания на человеческом кале, но пророк Иезекииль выпросил у Господа право печь его на коровьем помете…
И тот, кто подавал, и милостыня его пугали девочку, но она была голодна и взяла кусок нечистого чужого хлеба. Гул прошел по народной чайной. Общество было уязвлено. Что-то старое, полузабытое всколыхнулось сперва в наиболее добрых лицах, затем перешло к лицам унылым, а затем своеобразно, в виде негодования, коснулось и лиц наглых. Они, местные люди, своя кровь, отказали девочке-нищенке, в то время как чужак, городской еврей, подал ей. Сперва сидевший ближе всех над морковным чаем худой мужик, еще не старый, но уже без передних зубов, так что хлебные корки ему приходилось мочить в кипятке, а уж потом не жевать, а сосать, что было, кстати, и экономней, – сперва этот беззубый протянул девочке такую размокшую корку, потом другой поодаль дал ей два леденца-монпансье, кто-то сыпанул горсть семечек и, наконец, от самого богатого стола, где сидел бригадир трактористов, девочку поманил сам «ваше благородие».
– Иди, дура, – шепнул ей беззубый мужик, – не робей… Петро Семенович теперь добрый. Ты сальца проси…
И точно, едва подошла девочка к столу, как бригадир Петро Семенович торжественно и на глазах всей публики, как вручают награду ударнику – отрез полотна в два метра или сапоги, – вручил ей кусочек сала на газетной бумажке…
– Вот так, – сказал Петро Семенович, – а ты к чужим обращаешься за помощью… Чужой, он, может, еще и из враждебного лагеря, кулак или подкулачник… Это еще треба уразуметь…
Петро Семенович был в данный момент человек выпивший, и его тянуло на разные политические высказывания. Девочка же, не смея возражать и будучи испугана второй раз за короткое время, правда, по другому поводу, молча взяла сало и начала его заворачивать в газету.
– А что же ты не ешь, дитятко, – спросил Петро Семенович, на которого вдруг нашло новое и он прослезился, – кому ж ты бережешь, такая малая? Разве ж есть у тебя дети?
– Меня на крылечке брат Вася дожидается, – робко сказала девочка.
– Брат Вася, – сказал Петро Семенович, – то добре. А тебя ж как звать?
– Мария, – сказала девочка.
– А отчего ж это, Мария, брат твой Вася тебя просить посылает, а сам на крылечке прохлаждается?
– Он малый еще… Боится.
– Отчего не бояться, – обиделся Петро Семенович, – здесь не звери… Свой народ… Село… Другое дело посторонние люди… Их следует бояться, ежели они без мандата… Ты, видать, местная, что тебя в такой поздний час отец просить пускает…
– Отец прошлый год помер, – сказала Мария.
– А как звали отца? – спросил Петро Семенович.
– Не знаю, – сказала Мария.
– Это как же понять, – удивился Петро Семенович, – а мать твою как звать?
– Не знаю, – сказала Мария, – мать и мать.
– Э-э, – сказал Петро Семенович и по-хохлацки вытер большим указательным пальцем концы губ своих, – да тебя, дитя, кто-то дурному научил…
– Брось, Петро, – сказал чернявый, сидевший от бригадира по правую руку, – хай ее идет…
– Нет, подожди, Степан, – сказал Петро Семенович, – тут что-то нечисто… А фамилие твое как?
– Не знаю, – сказала девочка, уже едва не плача.
– Тикай, – шепнул ей беззубый мужик, шепнул едва слышно.
Но Петро Семенович, который разом возбудился и попал в свою колею, уловил и засек шептуна.
– Я тебе пошепчу, – сказал он, прихватив девочку за руку, – в сибирские переселенцы захотел? Я знаю, что по хуторам скрываются многие семьи кулаков и подкулачников, чтоб не переселяться в Сибирь… Ты ж с хутора, – сказал он, приблизив к Марии свое страшное лицо с сабельным шрамом от гражданской войны.
– С хутора, – едва живая от испуга, отвечала Мария, – с хутора Луговой.
– Вот сейчас ты дело говоришь, – сказал Петро Семенович, несколько успокаиваясь, – продолжай показания свои по порядку.
– Дяденька, – сказала Мария, – фамилию свою я не знаю, не знаю, как звать отца и мать, потому что с нами родители никогда не занимались, да и было им не до нас, так как они всегда заняты колхозной работой, а теперь, как отец помер, и вовсе мать то в доме, то в огороде, прибирать надо, пахать, сеять и прочей работой заниматься, а нас ничему не обучила. Есть у меня большие брат Николай и сестра Шура, и маленький брат Вася, и Жорик, тот еще в люльке.
– Молодец, – сказал Петро Семенович, – вот теперь ты не придуриваешься. А только как же вас кличут? Вот меня, например, сыном Семена в детстве все соседи звали… Вон, сын Семена пошел… А вас как?
– А мы гражданкины дети, – сказала Мария.
– Это как же понять «гражданкины»? Это в Димитрове или в Харькове «граждане». А здесь крестьянство… Что ж, вас «гражданкины дети» кличут? Мать у тебя, выходит, городская?
– Нет, – опустив голову, сказала Мария.
– Врешь, – сердито сказал Петро Семенович, – Врешь, в глаза не смотришь. – Речь его вдруг почти утратила украинский акцент и украинские словечки, стала сухой, русской, протокольной. – Почему ж вас «гражданкины дети» называют, если вы не из города?
– Ну называют и называют, – снова пытался вставить слово чернявый, сидевший от бригадира по правую руку, – что ты, Петро, не знаешь деревенских кличек?
– А ты молчи, заступник… В адвокаты, что ли, записался? Так ты не жид, чтоб тебя в адвокаты приняли… Ну, продолжай, – обратился он к Марии.
– Говори, девочка, не бойся, – сказал ей чернявый.
– Прошлый год помер наш отец, год был голодный.
– Это я уже слышал, – сказал Петро Семенович, – дальше…
– Нас с матерью осталось пять душ детей, один одного меньше, – сказала Мария, – после отца у нас завалилась хата, и нам управление колхоза дало другую хату, возле тамбы… И наша мать оставалась в этой хате, так как у нас почти все пухлые и большая часть наших детей лежат больные. Менять у нас не осталось ни единой тряпочки, что на нас, что под нами и только кроме лохмотьев ничего…
Мария замолчала. Молчал и Петро Семенович. Молчали все. Эта девочка-нищенка рассказывала о том, что все знали и что многие сами перенесли, но почему-то, произнесенное сейчас вслух детским голосом, да еще по принуждению, оно прозвучало словно молитва-жалоба о тяготах и горестях своих. И может, оттого, что давно уж не молились, у многих на глазах показались слезы, а Петро Семенович сидел с побелевшим от тоски и гнева лицом, лишь сабельный шрам его налился кровью.
– Вот что они с нами, буржуазные пиявки, делают, – сказал он тяжело, сквозь зубы, – капиталистическое окружение… Ничего, выдюжим… Не позволим позлорадствовать… В гроб вгоним, – вдруг он рывком поднял голову, – а где же тот, который у окна сидел, который хлеб подал? Ну-ка, предъяви подачку свою, – сказал он Марии и протянул к ней огромную ладонь, из которой торчали железные пальцы-прутья, способные в секунду сжать горло до смерти.
И в эту намозоленную орудиями труда и оружием ладонь лег кусок нечистого темно-коричневого хлеба изгнания, изготовленного по рецепту пророка Иезекииля.
– Так и знал, – сказал Петро Семенович, – не наш хлеб, заграничный хлеб… Эх, не проявили бдительности…
И верно, место у окна было пусто. Никто не видел, как ушел чужак.
– Надо бы в сельсовет, – крикнул Петро Семенович. – Степан, – обратился он к чернявому, – мотай в сельсовет, звони Максиму Ивановичу, уполномоченному ГПУ… А мы пока здесь пошукаем… Ну-ка, пять человек айда со мной… Ты, ты, ты, ты… – И он на ходу совал пальцем в лица посетителей народной чайной, отбирая из них подходящих для поиска и преследования.
Так же на ходу вытащил он из тужурки видавший виды наган с облупившейся краской и много раз чиненный собственными руками умельца-самоучки. Редкой цепью по грязи и лужам побежала группа преследования вдоль сельской улицы – вдоль темных хат и собачьего лая.
Между тем дождь прекратился, дожидаясь, видать, рассвета, чтоб уж зарядить на целый день, когда голодные жители выйдут из своих хат по делам личным и общественным. Явилась луна, украинский месяц, который здесь, на Харьковщине, где была сильная примесь России, может быть, и не был так маслянист, как полтавский, но все же отличался от рязанского меньшей строгостью и большей лучистостью и игрой. В свете этого месяца и выбежали на тамбу, как называли здесь почему-то большую дорогу в город Димитров.
– Видать, в заказ побежал, – сказал беззубый мужик, также попавший в преследователи, – и в заказе не споймаешь, ночь…
А заказом на местном наречии именовался лес, темневший вдали за полем.
– Ты чего, Охрименко, народ дезорганизуешь, – по-революционному, как в восемнадцатом году, заиграл желваками Петро Семенович, – да я контру не то что из заказа, из-под собственной шкуры своей, если она туда спрячется, ногтями выцарапаю. Многих я уже так преследовал и от многих социалистическую землю очистил…
И верно, многих преследовал на своем веку Петр Семенович, нынешний бригадир. Интеллигентов-деникинцев, кстати, жестоко замучивших в плену лучшего и единственного друга, пулеметчика и тезку – Петра Лушно, и мужиков-петлюровцев, оставивших на лице сабельную отметину до самой смерти. Помнит Петро Семенович, как неподалеку от села Ком-Кузнецовское, или попросту Кузнецовки, перехватил он на тамбе петлюровскую подводу, груженную награбленным еврейским барахлом из города Димитрова. Петлюровцев тут же, невзирая ни на какие мольбы, шашкой порубал, – Петро Семенович любил шашкой рубать, из нагана он стрелял реже, а из карабина и вовсе редко, больше любил врукопашную, – итак, петлюровцев шашкой, а потом и до еврейского барахла очередь дошла. Пух из перин выпустил, бархатные платья с кружевами, платки, простыни, какие-то кацавейки тоже в куски, а серебряные рюмки и подсвечники в речку выбросил, поскольку бессребреник… Был случай, кое-кто из его отряда пытался еврейское барахло присвоить, так он его мигом к стенке. Тоже плакал, тоже умолял, вошь кобылья. Но зачем такому на свете жить? Если уж вор, не умеешь жить честно, воруй свое, полушубок укради или коня. А на что мужику еврейская перина или бархат-ное платье с кружевами? От него дух неприятный в хате – не мочеными яблоками и коровьим дерьмом пахнет, а сладкими конфетками воняет. Вот такой человек был Петро Семенович, бригадир. Воевал крепко, но соблюдал принцип – руки хоть и в крови, но чистые… И в прошлом году, когда Митька-кулак, сын мельника, поджег колхозную конюшню, преследовал его Петро Семенович вместе с уполномоченным ГПУ Максимом Ивановичем и настиг в заказе, схватил за горло, а когда Максим Иванович подбежал со своим обычным «Руки вверх», сдаваться уже некому было… Составили акт, заверили в сельсовете, направили в Димитров, а удавленного Митьку выдали старику мельнику для похорон. Многих преследовал и многих настиг Петро Семенович, но никогда еще не бежал он по следам Антихриста, как бежал он сейчас под своей харьковской луной, более постной, чем полтавская, но более игривой, чем рязанская.