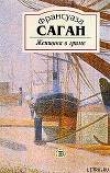Текст книги "И переполнилась чаша"
Автор книги: Франсуаза Саган
Жанр:
Зарубежная классика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 10 страниц)
Алиса и Шарль сидели на ковре перед камином и играли в кункен. Смех Алисы поначалу успокоил Жерома, опасавшегося последствий давешней сцены, но затем, тотчас почти, вызвал новый приступ ярости.
Да что же с ним такое происходит? Только что он десять минут терзался от стыда и угрызений совести, перебирая в уме свои идиотские обвинения. В эти ужасные минуты он был готов отдать все, лишь бы не видеть Алису расстроенной, не думать, что понапрасну причинил ей боль – для него не существовало худшей муки. Но теперь, когда он слышал ее смех – доказательство того, что она не расстроена, – он не только не успокоился, но и готов был отдать все, лишь бы найти ее рыдающей где-нибудь в углу и утешить самому. Попросту он не мог перенести, что Алиса смеялась, в то время как они, можно сказать, находились в ссоре.
– Вы плохо выглядите, Жером, – сказала Алиса, оборачиваясь к нему и глядя на него совершенно спокойно, будто ничего не произошло. Он поспешно опустил глаза, дабы она не поймала его взгляд, как ему представлялось, взгляд ненормального, психически больного.
Они продолжили кункен, не обращая больше внимания на его бледность, и смех Алисы звучал теперь каждые три минуты в ответ на вздор, изрекаемый окончательно потерявшим голову Шарлем: опасный игрок, прославившийся в Альпах и Дофинэ своей бесстрастностью и дерзостью при игре в покер (и вообще в карты), он играл сейчас, как четырехлетний ребенок, притом не слишком способный для своих лет. Он, разумеется, проигрывал, но это его нисколько не огорчало, потому что Алиса смеялась, а для того, чтобы соблазнить женщину, как он полагал, ее надо сперва рассмешить. Средство в самом деле эффективное, хотя Шарль при своей наружности мог бы обойтись и без него. Тем не менее он продолжал строить из себя смешного чудака, представая в своих рассказах этаким простачком, которого бросают и обманывают женщины и обставляют мужчины и который вечно остается в дураках. Такой образ придавал ему особый шарм по контрасту с его внешностью, и в его наигранной невезучести было что-то неотразимо привлекательное.
Итак, Алиса смеялась, она потягивалась, как кошка у огня, ложилась на ковер, скидывала туфли, будто находилась в доме, где провела свое детство. Жером, привыкший видеть ее забившейся в угол комнаты и проходящей по коридору с затравленным видом побитой собаки, Жером дивился ее повадкам довольной кошки, беззаботной, игривой, кошки, что гуляет сама по себе, словом, что там говорить, счастливой кошки. Он никогда ее такой не видел. Трудно поверить, чтоб этот дом с его псевдодеревенской и псевдостилизованной мебелью, собиравшейся родителями, дедами и прадедами Шарля с неизменным катастрофическим отсутствием вкуса, мог хоть в какой-то степени стать для Алисы уютным коконом. Здешняя обстановка представляла собой уродливую и претенциозную коллекцию хлама, которая хранила некоторую прелесть разве что для того, кто, подобно Шарлю и ему самому, знал ее с детства, то есть хранила прелесть воспоминаний, но никоим образом не могла внушить сегодня очарование новизны. Между тем Алиса с самого утра не переставала меняться: Алиса не боялась, Алиса не стучалась к нему в комнату, не приникала больше к его плечу, не брала его руку, не держала ее чуть дрожащими руками, время от времени сжимая изо всех сил, как сжимает бревно или доску утопающий, цепляясь за жизнь. Алиса больше не боялась войны и не говорила о ней, Алиса изменилась, изменилась до неузнаваемости в один день. Но могут ли сутки, проведенные в деревне, преобразить чувствительную, напуганную, скрытную, мягкую и нежную женщину? Могут ли они сделать ее другой женщиной, еще более скрытной, но дерзкой, веселой, ироничной и независимой? Нет, не могут, ни этот дом, ни Шарль Самбра, уже с уверенностью твердил себе Жером, невзирая ни на что, невзирая на инстинктивную ревность, примитивную ревность самца, – нет, Шарль не может изменить Алису, самое большее, он может ей понравиться, может взять ее у него в один прекрасный вечер, но не здесь и не сейчас, когда Жером живет у него в доме. Этого и Алиса не допустит из уважения к нему. И где-нибудь в поле не может, потому что Алиса не из тех, с кем спят в поле. Следовательно, он ничем не рискует, не рискует ничем, кроме недостатка внимания со стороны Алисы. А внимание – оно возвратится само собой, как только они снова погрузятся в борьбу, в угрюмую ночную схватку, в сточные канавы и тоннели, словом – в Сопротивление, куда, как он теперь понял, он обязан был ее вовлечь: не для себя, а для нее, для того, чтобы она снова стала самой собой, такой, какой должна быть, какой была все эти три года, когда он любил ее любовью, которую сегодня, возможно, ощущал еще сильней. Он поведет ее за собой, он сумеет уберечь ее от всего. Кроме как от нее самой… разумеется, хотя именно от нее самой он ее уже однажды спас. Жером спас Алису от тоски – неужели не сможет он спасти ее от легкомыслия?
Жером не учел одного: тоска и тягость жизни, от которых он излечил Алису, были знакомы ему с детства, а знакомые болезни лечить куда проще: иное дело незнакомые. Сам Жером никогда не был ни легкомысленным, ни беззаботным, не знал безумной жажды жизни. Ликование было для него пустым словом, словом, почерпнутым из книг, в то время как Алиса до своей болезни, в детстве и в юности, была влюблена в жизнь. Она знавала взлеты, минуты умопомрачительного счастья и необъяснимой эйфории, которыми жизнь иной раз одаривает человека. Жером, выпади ему такой благодатный миг, не узнал бы его, а вот Алиса бы его не упустила. Так человек, слепой от рождения, повстречав человека, ослепшего по несчастью, поймет его и даже поможет сносить увечье, но никогда не сможет, если тот обретет зрение, помешать ему запрыгать от радости и побежать навстречу солнцу.
– Бог мой! – воскликнул Шарль. – Блиц!
Он прервался и посмотрел на дверь. Оттуда появилась одна из его собак, бедняга семенила к нему, хромая, с жалобным видом. В ту же секунду Шарль оставил карты, Алису, Жерома и все на свете и склонился над несчастным псом. Он положил его на спину, взял лапу и стал ощупывать ее кончиком пальца, пока пес не заскулил. При этом Шарль приговаривал нараспев:
– Что с тобой стряслось, дурила ты эдакий? Бедненький глупышка, подожди, где, здесь, здесь больно? Нет? Дальше? Ага, вот здесь.
А потом сказал ему:
– Да, здесь, старина. Погоди. Опять по зарослям бегал! Очень умно! Замечательно! Хм, извините, это не заноза, это… Что ж это такое? Вроде как гвоздь… Ты теперь еще и гвозди себе в лапы всаживаешь? Как в шину? Ай-ай-ай! Блиц, старина, надо быть осторожней! Потерпи минутку! Секунду, одну секунду!
Шарль достал из кармана маленький перочинный нож – ну прямо бойскаут, подумал Жером, – и открыл в нем что-то вроде пинцета для выдергивания волос. Затем наклонился над собакой, но та взвыла так душераздирающе, что Алиса вздрогнула и бросилась к ним.
– Держите ему лапы, задние лапы, – приказал Шарль отрывистым властным тоном, какого трудно было от него ожидать. Алиса ухватила дрожащие собачьи ляжки и сжала их. Она увидела, как Шарль наклонился, подцепил что-то черное в розово-черной лапе и резким движением вытащил. Собака дернулась и вскочила. Побежала к двери, потом пристыженно вернулась, положила морду на колени Шарлю и на секунду, перед тем как выйти, на ходу уже – на колени Алисе.
– Собака знает, как себя вести, – саркастически прокомментировал Жером. – На первом месте хозяин, затем медсестра. Могла бы и мне, как ассистенту, раскошелиться на чаевые.
– Ты никогда не любил животных, – неприязненно отозвался Шарль.
– Ну почему, – возразил Жером, – я люблю животных, но предпочитаю людей. И с подозрением отношусь к тем, кто предпочитает животных.
– Значит, не ко мне, – заметил Шарль, смеясь.
Смех разрядил обстановку.
– Между прочим, с твоей английской физиономией, – добавил Шарль, – ты должен был бы питать слабость к животным. Не правда ли, Алиса?
– Мне никогда не приходило в голову, что у Жерома английская физиономия, – улыбнулась Алиса. – Кстати, к вопросу об Англии, Шарль, вы не могли бы поймать здесь радио-Лондон?
– Радио-Лондон? Да сколько угодно! В определенный час все французы, задвинув поплотнее шторы, садятся семьей вокруг стола, локоть к локтю, и слушают, как французы обращаются к французам. Нынче никто не крутит столы, чтоб вызывать умерших, – вызывают живых, так веселей! Впрочем, ты и сам знаешь!
– Увы, я в этом не уверен! – сказал Жером.
– А я тебя уверяю! – Шарль смеялся. – Радио-Лондон не слушают только истинные участники Сопротивления – из осторожности! Пройдись вечерком хоть по нашей деревне, где ставни держат открытыми из-за жары, – только это и услышишь! Короче, – прибавил он, – приемник у меня в библиотеке, и в нужное время мы туда поднимемся. Ты слушаешь каждый вечер?
– Да, если могу, – ответил Жером. – Но сегодня это совершенно необходимо, мы можем получить сообщение, услышать кое-что, касающееся непосредственно нас, я, во всяком случае, буду слушать, даже если вы продолжите кункен…
Его последняя колкость осталась незамеченной.
Глава 6
Итак, в назначенный час они собрались втроем перед булькающим приемником, откуда доносились голоса свободных людей, говорящих из свободной страны. Шарль расположился в своем кресле, утомленный велосипедными подвигами, и смотрел на близкий и далекий силуэт Алисы. Он курил какую-то старую сигару, обнаруженную в подвале, и, как всякий вечер, находил, что время тянется слишком медленно, пока всегда один и тот же юный голос издалека посылает вам идиотско-поэтические сообщения, которые, кажется, слава богу, удовлетворяли непритязательному вкусу его сегодняшних гостей. Он был чрезвычайно изумлен, когда Жером вскочил и сделался таким бледным, каким Шарль его никогда не видел. Голос в радиоприемнике повторял монотонно и как бы незаинтересованно: «Пастухи ушли, и стадо его ждет. Пастухи ушли, и стадо его ждет. Мы повторяем: пастухи ушли, и стадо его ждет… Голубка раскинула сеть на деревьях. Голубка…»
Для Жерома речь шла, очевидно, не о голубке. Он так и стоял, Алиса стояла рядом с ним. Она была рядом с Жеромом, и Шарль, по-видимому, для нее больше не существовал. Тошнота подступила ему к горлу, не от ревности, скорее от чувства отвергнутости; он тоже медленно поднялся, из вежливости, как если б вдруг у него в доме за чашкой кофе заиграли «Марсельезу», не сказать – неуместную, но, во всяком случае, неожиданную.
– Боже мой! Боже мой! – прошептал Жером. – Вы слышали, Алиса? Вы тоже слышали?
– Да, – тихо отвечала Алиса.
Она медленно опустилась в кресло и закрыла лицо руками, а Жером, повернувшись к ней спиной, стал перед камином и принялся яростно стучать кулаком по мраморной облицовке.
– Они ведь ясно сказали… – повторял он, будто переспрашивая, – ведь сказали ясно: стадо, пастухи… – И, не дожидаясь ни от кого ответа, он развернулся к неподвижно и изумленно уставившемуся на него Шарлю. Бледное, тонкое, рафинированное и, по мнению Шарля, вяловатое лицо Жерома вместе с покрывшей его мертвенной белизной обрело мужественность: сжатые челюсти, жесткий взгляд, проваленные щеки, к неудовольствию Шарля, делали его красивым. Он был красив в гневе, красив в действии, возможно, даже красив в постели, думал Шарль с обидой обманутого мужчины. Между тем Жером вцепился рукой в его пиджак и тряс его с силой, которую тоже трудно было в нем заподозрить.
– Послушай меня, Шарль, мне нужна твоя машина. Мне надо позвонить, но не отсюда. Я обернусь за час, ну за два. Алиса, вы останетесь здесь. Вручаю ее тебе, Шарль; если через пять часов я не вернусь, забудьте обо мне на некоторое время. Вручаю ее тебе. Но я вернусь раньше.
Поймав на лету брошенные Шарлем ключи, Жером вышел. Машина отъехала тотчас.
Как только треск выхлопной трубы растворился в ночи, сверчки возобновили прерванный концерт. Алиса смотрела в огонь. Смотрела печально и отрешенно.
– Вы можете мне объяснить… – робко начал Шарль.
– Да, – отвечала Алиса с грустью, глядя на Шарля и не видя его. – Да, я могу объяснить. Фраза, которую вы слышали, означает, что трое из сети арестованы, находятся у немцев в руках, и, может быть, сейчас их уже пытают или ведут на расстрел, не знаю. Это наши друзья, в первую очередь друзья Жерома, но немного и мои. И еще это означает, – продолжила она медленней, будто рассуждала вслух, – это означает, что евреи – или не евреи, – которые ждут нас, меня или Жерома, которые нас знают и верят нам и никому другому, могут прийти на встречу, никого не найти, всполошиться и попасться. Если же кто-то другой, кроме меня или Жерома, назначит им новую встречу, они подумают, что это ловушка, и не пойдут, а поскольку Жером не может теперь ехать в Париж, где его, должно быть, уже ищут, это означает… это означает… что я поеду туда сама. Поеду на встречу, чтобы предупредить их и назначить другой день и другого связного. Вот. Вот что это значит. Я должна сама ехать в Париж, немедленно, ну, то есть завтра. Полиция меня не знает, гестапо тоже, я ни в чем не была замешана и ничем не рискую, – добавила она, улыбаясь, потому что теперь побелел Шарль.
К ее великому удивлению, он заорал:
– Ехать туда вместо него? Так вы видите свою роль? Думаете, Жером пошлет женщину туда, где эти маньяки могут ее схватить, истерзать, убить? Если он так сделает, то он безумец и подлец! Роль женщины, я вам уже говорил, Алиса, для меня не в том, чтобы шить и плодить детей, роль женщины в том, чтобы жить, быть красивой, молодой, такой, как вы, Алиса, Алиса… Мужчины не посылают женщин умирать вместо себя! Я б убил Жерома, если б он вас отпустил! Я этого не допущу, Алиса, вы не поедете в Париж вместо него!
Они смотрели друг на друга. Смотрели не дружески, а словно двое посторонних: мужчина и женщина.
– Послушайте, Шарль, – сказала она, – мне и без вас нелегко будет убедить Жерома. Он вот уже полгода отказывается давать мне задания. Но в данном случае мне известно и место встречи, и время. И поверьте мне, Шарль, хочет он того или нет, хотите ли вы того или нет, я поеду. Я никакая не героиня, просто мне ничего не грозит. И потом, там женщины, дети, мужчины ждут, чтоб кто-нибудь их увез, спас от уничтожения. Все очень просто, поверьте мне, поверьте, – и она засмеялась. – Поверьте мне, я впервые в жизни могу заняться кем-то, кроме меня самой, впервые могу быть полезна, могу помочь, а не принимать помощь, впервые вместо того, чтобы портить жизнь влюбленному в меня мужчине, я могу спасти от смерти незнакомых мне людей, поверьте мне, Шарль, и оставьте меня в покое. Я подожду возвращения Жерома у себя в комнате. Прошу прощения, Шарль, – сказала она уже с порога и оставила его ошарашенным, изумленным, раскрасневшимся, кипящим яростью; взгляд его блуждал, руки сжимали угол камина.
В какое-то мгновение Алиса подумала, что Шарль Самбра, движимый праведным гневом, должен быть опасным противником или ценным союзником. Вот уже сутки она наблюдала за этим соблазнителем, которого ей надлежало соблазнить, за этим симпатичным парнем, немного чересчур красивым и слишком откровенным волокитой, наблюдала с эстетическим удовольствием, лишенным всякой чувственности. Сейчас она впервые увидела в нем не актера из гротескного и старомодного водевиля, а возможного соратника по борьбе. И она сама не поняла, почему в дверях, когда она уходила, ее объяла и захлестнула волна желания, острого, непристойного и настолько конкретного, что она пошатнулась на пороге и тоже залилась краской.
Когда Жером вернулся три часа спустя, в середине ночи, Шарль поджидал его в дверях. Они долго спорили, мешая оскорбления с излияниями дружбы. В результате наутро, когда Алиса спустилась вниз и наткнулась на Жерома, тот сообщил ей спокойно и ясно, что роль подруги фабриканта кожаных изделий, направляющегося в столицу на поиски инженера, в самом деле была идеальным прикрытием для начинающей подпольщицы и что он, Жером, будет признателен и благодарен Шарлю, если тот сопроводит ее в Париж и обратно. Шарль молчал, он слушал Жерома и даже не смотрел на Алису, но от него исходило невидимое сияние, знакомая Алисе неуловимая вибрация воздуха, которую ей случалось прежде улавливать вблизи иных людей и даже излучать самой – то был подобный солнцу над Аустерлицем бледный и светящийся шлейф счастья.
Глава 7
Путешествие в переполненном поезде вышло изнурительным, и Париж, куда они прибыли наконец к вечеру да еще под дождем, показался Шарлю темным, мрачным, громыхающим эхом мерного шага немецких патрулей. Даже его излюбленная гостиница на улице Риволи, исполненная для него прежде духом роскоши и фривольности восемнадцатого века, представилась ему теперь угрюмой, обветшалой, старомодной. Может, Жером и в самом деле прав, что жаждет ускорить уход этих гуннов. За всем тем, коль скоро адюльтер был и впрямь наилучшим прикрытием для начинающей подпольщицы, Шарль попросил для себя и для Алисы две смежные комнаты с видом на Тюильри. Но когда в первое утро радужное солнце озарило парк, свежий воздух и едва заметный ветерок, какой не встречается больше нигде, вернули Шарлю ощущение любимого им летнего Парижа с уличными кафе, длинными-предлинными днями, теплыми синими вечерами, пустынными улицами, деревьями, статуями – сообщниками его утех и мечтаний.
Сегодня вечером он покажет Алисе свой Париж, он будет ее слушать, говорить с ней, забавлять ее, постарается отвлечь от всего: от войны, евреев, нацистов, Жерома, ее прошлого и даже от себя самого. Сегодня вечером он скроет от нее свое желание, отдаст ей все и ничего не попросит взамен. Подобного рода планы на вечер зарождались в воображении Шарля впервые: до сих пор он больше заботился о том, чтобы доставить женщине удовольствие, а не о том, как сделать ее счастливой. Возможно, потому, что полагал себя способным скорее на первое, нежели на второе; и еще потому, что галантность и чувственность, привычки и инстинкт так прочно соединились в нем, что он не отличал одно от другого. Понадобилась встреча с Алисой, чтобы разделяющая их пропасть стала для него очевидной. «Она мне не просто нравится, я мог бы ее полюбить», – говорил он себе, и ликование, страх, недоверчивость и возбуждение сменяли друг друга в его душе. Неужели он, как школьник, отважится на нелепое в его возрасте сентиментальное путешествие? Посетит ли снова райский край любви, позабытый, как ему казалось, со времен девственного отрочества? Помолодеет – или же впадет в детство?
Он тщательно оделся, напялил дорогой приталенный костюм из альпаги, приобретенный как раз перед войной и оттого почти новый. Открыв дверь, Алиса вознаградила его старания быстрым смеющимся взглядом, в котором он, увлекшись своими мечтаниями, усмотрел восхищение. До сих пор она держала его за провинциала, так вот, теперь он ей покажет!
– Как вам спалось? – спросил он.
Он подошел к окну, окинул Тюильри многоопытным взглядом и только потом обернулся к Алисе.
– Боже мой… вы великолепны, – произнес он изменившимся голосом.
Входя, он против света не разглядел Алису, теперь же она предстала перед ним в лучах солнца и оказалась совсем не той женщиной в юбке и свитере, с которой он познакомился в Дофинэ. На ней было бледно-желтое платье из тонкого шелка, она была сильнее накрашена и выглядела старше и желанней. Ее рот был краснее, глаза еще более раскосы, тело более явно обозначено. Шарль вспомнил вдруг, что находится в комнате любовницы Жерома и что Жером отсутствует. Он встретился взглядом с Алисой, и она, подхватив сумочку, на удивление ненатурально прошествовала к двери.
– Вам нравится мое платье? – спросила она. – Это платье от Гре, кажется… или от Айма. Оно очень легкое, очень… удобное по нынешней жаре, – продолжала она, будто оправдываясь за свои обнаженные руки, обнаженную шею, обнаженное почти что тело под платьем. – Вы куда-нибудь идете, Шарль?
Вне комнаты Шарль почувствовал себя уверенней и ответил:
– Да, мы идем. Уж не думаете ли вы, что я вас выпущу одну в Париж в таком платье и с таким цветом лица… Вы хорошо выглядите. Вы там у меня загорели.
Он болтал невесть что, запинался, но в нем чувствовалось такое упоение жизнью, что оно передалось и Алисе. Она стерпела и даже оценила безмолвную комедию, которую он разыграл перед швейцаром, возвращая ему оба ключа и со скромной покорностью на лице и в голосе отвечая на немой вопрос последнего: «Да, мы оставляем за собой обе комнаты».
Он действительно трогателен, подумала Алиса в приливе нежности, даже и в этом странном костюме, в котором он похож на разбогатевшего берейтора. Как бы он был хорош, если б его прилично одеть, скажем, в твидовый пиджак, черно-коричневый, как его глаза, или в смокинг прямого покроя, который подчеркнул бы его силу, стройность, прямизну осанки, манеру держать голову. Ей казалось, что, в отличие от прочих мужчин, проскальзывающих в двери, Шарль в них входит и выходит. Она удивлялась, что нисколько не боится идти на встречу, которую назначила утром и где, как знать, могла и попасть в ловушку: в нынешних обстоятельствах ни в чем нельзя быть уверенной, ни в чем. Но присутствие Шарля делало нелепой саму мысль об опасности: их пребывание в Париже обещало быть чарующим, он в этом не сомневался и заражал ее своей уверенностью.
Он повел ее завтракать в большой ресторан, славившийся некогда роскошью, но теперь еда там оказалась отвратительной; Шарль, для которого понятие карточек оставалось вполне абстрактным в его «зеленой» сельскохозяйственной провинции, пожаловался добродетельному метрдотелю, тот обиделся, а Шарль вконец расстроился. Алиса смеялась, но он сказал себе, что вечером обязательно отведет ее в какое-нибудь злачное заведение черного рынка…
На улице они переглянулись и улыбнулись друг другу. Стоял один из прекраснейших дней, какие только случаются летом в Париже.
– Какие у вас на сегодня планы? – спросил он.
– Да так, кое-какая беготня, – уклончиво отвечала она. – Встретимся в гостинице?
– Да, разумеется. Не разоряйте магазины, – усмехнулся он.
Ведь еще до того, как расстаться с Алисой, он прекрасно знал, что свидание с подпольщиками состоится у нее в первый же день в неизвестном ему бистро. Каком именно? Из ее утреннего разговора по телефону он понял, что это то самое кафе, где Жером в последний раз праздновал день рождения со своими подручными – адрес не слишком точный; до того неточный, что придется ему выслеживать Алису, точно детективу из агентства Дюбли, которое так завораживало его в детстве. Итак, в три часа они расстались, дружески распрощавшись, и Алису даже шокировало слегка, что он так беспечно устремился по своим коммерческим делам, рискуя больше никогда ее не увидеть. До чего же легкомыслен наш милейший Самбра; он, конечно же, влюблен, но какой все-таки эгоист. Она попетляла по улицам, вернулась в гостиницу и вышла через черный ход, который показал ей Шарль. В конце концов она оказалась на террасе «Кафе Инвалидов», где они с Жеромом и друзьями так весело пьянствовали на его тридцатилетие. На террасе было спокойно, солнечно и очень жарко; несколько утомленных парижан, два провинциала и немецкий солдат сидели тут в этот майский день, одинаково отрешенные и поглощенные созерцанием своих теплых напитков. Странно, думала Алиса, до какой степени летний зной стирает различия национальности и социального положения. Немногочисленные клиенты составляли небольшую провинциальную семью, угнетенную палящим солнцем, а потевший вместе с ними юноша в серо-зеленой форме казался чуть ли не дальним родственником.
Она изнывала, медленно тянулись бесконечные минуты, и постепенно ее начинали терзать сомнения, а вместе с ними их неизбежный спутник – страх. Было двадцать минут пятого, Карно опаздывал на четверть часа, что в любой подпольной организации означало: «смывайся». Но Алиса все не решалась: ей нестерпимо трудно было смириться с мыслью, что она попусту приехала в Париж, зря спешила, собиралась, волновалась. Тьма, анонимность, безответственность, за которые она так отчаянно цеплялась до сих пор, больше ее не удовлетворяли. Она не желала больше жить бесцельно, биться понапрасну и понапрасну умереть на излете долгой молодости, которую она и без того уже сама себе испортила. Слезы подступили к глазам, и Алиса встала из-за стола из страха показаться смешной, а не из страха перед гестапо.
Она пошла наискось в сторону Военной школы; на солнце покачивалась сквозь слезы широкая эспланада. Алиса споткнулась. Чья-то ладонь коснулась ее плеча, остановила ее, и она в ту же секунду, не успев испугаться, узнала Самбра. Шарль стоял перед ней в своем дурацком светлом костюме, со своей дурацкой фатоватой физиономией и дурацкой самодовольной улыбкой. Шарль, понятно, таскался за ней повсюду и вспугнул того, кто, по указаниям Жерома и по заведенной тактике, должен был идти за ней и отслеживать слежку. Шарль сорвал ей первую встречу, и по его милости ей придется теперь идти на вторую и снова ждать двадцать минут, а потом, возможно, и на третью, если у связного не рассеются подозрения. Она ненавидела Шарля.
Тот же был вполне доволен собой. Мало того, что ему удалось выследить Алису издали и потом, сидя в кафе напротив, наблюдать за ее долгим ожиданием – ожиданием, покоробившим в нем джентльмена и приведшим в отчаяние влюбленного, – ко всему прочему он оказался рядом с ней в нужную минуту и теперь уведет ее в безопасное место подальше от всяких необязательных и компрометирующих типов. Внезапная бледность Алисиного лица под загаром и холодный взгляд сбили его с толку, а после болезненными ударами посыпались слова, произнесенные незнакомым ему голосом (таким в иных фильмах богатый злодей разговаривает с добрым бедняком или жестокий фабрикант – с преданным садовником), голосом, какого уж никак нельзя было ожидать от Алисы.
– Что с вами? – сказала она. – Вы с ума сошли?
Она опустилась на ближайшую скамейку, он в изумлении последовал за ней. Она глубоко вздохнула, прежде чем продолжить, с явным усилием сдерживая себя и все же не скрыв презрения:
– Как, по-вашему, может кто-нибудь ко мне подойти, если вы повсюду таскаетесь за мной, точно я шлюха? Идет война, Шарль, даже если вы не желаете этого замечать, несмотря на все, что видите вокруг: черноту ночей, людское горе, очереди на улицах и ужасные эти плакаты тут, там, везде!..
Она указала на деревянные щиты, исписанные немецкими словами, которые и в самом деле наводняли Париж и которых он в самом деле не заметил. Что ей ответить? Ничего. Как объяснить, что он видел только ее и что, случись ему завтра повезти ее в Канны, он бы точно так же не заметил море, как не заметил немцев в Париже.
– Но я же только хотел обезопасить вас, убедиться, что никто за вами не следит, что…
– Не лезьте в это дело, Шарль. Очень мило, что вы решили меня проводить, но вместо помощи это оказывается помехой, так что лучше я обойдусь без вас.
Она встала. Краски понемногу возвращались к ней, и на фоне парижского неба, на фоне купола Инвалидов ее элегантное тонкое тело вырисовывалось недосягаемым предметом грез. Снисходительная ирония, звучавшая теперь в ее голосе, нисколько не облегчала его участи.
– Идите, встречайтесь с этими вашими тюремщиками или с приятелями (могла бы сказать «приятельницами», и то заманчивей). А вечером мы с вами пойдем ужинать в дорогой ресторан, где под салатами прячут бифштексы и громко-громко смеются. Все остальное вас не касается, вы мне и сами это объясняли.
С тем она ушла, не обернувшись даже, уверенная, абсолютно уверенная, что больше он за ней не последует, что он раскаивается и против своей воли попустительствует ее опасным приключениям. Он возвратился в гостиницу пожинать в одиночестве горькие плоды преданности.
Вечер, в который он рассчитывал дать волю чувствам и даже любви, пришлось и в самом деле предоставить чувствам, но горестным. Ему оставалось только напиться, что он и попытался безуспешно сделать, приобретя у швейцара разорительно дорогой и преотвратный коньяк. Он лег рано и безнадежно трезвым, написал Алисе три письма с извинениями: одно страстное, другое саркастическое, третье жалобное, – разорвал все три и стал прислушиваться.
Алиса возвратилась около полуночи, к нему не зашла. Полчаса Шарль ждал в темноте, пока наконец все шорохи в соседней комнате не стихли. Тогда он поднялся и в халате пошел стучать в дверь из коридора, сам ужасаясь тому, что делает. Алиса не ответила, притворилась спящей, и он впоследствии был ей за это благодарен. В плохо освещенном коридоре, дрожа от холода и обливаясь пóтом под дверью женщины, которой он докучал, Шарль Самбра с отвращением представил себе, что такой вот Самбра мог бы в другую ночь ломиться в дверь и выкрикивать имя вместо того, чтобы, как сейчас, лечь спать и не шуметь. В такую ночь родился бы другой Самбра, которого Шарль не уважал, который даже был ему заранее противен.
Глава 8
К утру погода испортилась под стать настроению Шарля. Он проснулся грустным, удивился этому, несколько минут не мог вспомнить почему. «Мадам ушла сегодня очень рано, месье Самбра», – ответил ему по телефону швейцар театральным голосом, оттенки которого Шарль смог бы оценить по достоинству, не будь он так поглощен своими мыслями. Само слово «мадам», просто «мадам», вместо обычного «мадам Самбра», означало восхищение и даже почтение к Алисе, в которой швейцар интуитивно признал светскую даму, хотя ему и не часто доводилось встречать таковых. «Ушла сегодня очень рано» содержало в себе сомнение, сигнал тревоги и толику сарказма. Спутницы Самбра, то ли от избытка усталости, то ли от избытка восторга, обыкновенно покидали номер после него. Наконец, торжественное и напыщенное «месье Самбра» выражало сочувствие, сострадание проигравшему и на всякий случай немного соболезнования и сожаления о том, чего больше нет. Люди уважают несчастья и не прощают успехов; чужое счастье трудно выносить долго, а потому, несмотря на щедрость Шарля, швейцар всегда смотрел на него косо. Впрочем, нельзя сказать, что сами по себе его интонации были неверны: восхищение относилось к Алисе, сомнение – к Шарлю, к нему же и сострадание. (Так нередко случается с самыми, казалось бы, рискованными комментариями событий независимо от того, исходят ли они от знаменитых историков или газетных сплетников, от консьержей или людей высшего света: в них всегда содержится некая схема, с истиной весьма схожая и в то же время от нее далекая, поскольку истина, как известно, слагается из нюансов; иными словами, те, кто обвиняет Кола Портера в том, что его «Ночь и день» заимствована из Пятой симфонии Бетховена – до, ре, до, до, до, ре, до, ре – бесспорно правы и абсолютно неправы.) Единственной ошибкой швейцара, но ошибкой капитальной, была игривость его тона, создающая образ легкомысленной женщины, беспечной, в коротеньком платье убежавшей выбирать себе в Париже драгоценности и меха. Дело обстояло иначе: Алиса спала очень скверно, ей снились кошмары, ей было страшно; не столько легок, сколько поспешен был ее шаг, уносящий ее, может статься, навстречу року. Тем не менее она в точности исполнила все указания Жерома: после несостоявшегося, сорванного по вине Шарля первого свидания позвонила в другую ячейку другой подпольной сети, назначила новое, встретилась-таки с членом организации – другом Жерома – и объяснила ему ситуацию. Они договорились, что он будет ждать ее на следующий же день неподалеку от конспиративной квартиры, и, если там не окажется ловушки, она приведет его и представит тем, кто их ждет. К сожалению, когда речь идет о людях, претерпевших столько злоключений, неисповедимыми путями пробравшихся сюда через объятую пламенем Европу, людях с истрепанными нервами и зачастую с разбитыми сердцами, недостаточно было просто представить, надо было, чтоб они поверили; Алиса не знала, добьется ли она успеха и удастся ли ей убедить их ехать дальше. Отсутствие Жерома делало ее миссию трудноосуществимой и подозрительной для тех, кто знал его, общался с ним, но в ней, в Алисе, видел скорее подружку, нежели помощницу.