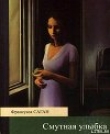Текст книги "Здравствуй, грусть (сборник)"
Автор книги: Франсуаза Саган
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 18 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Несколько дней спустя отец получил записку от одного нашего приятеля с приглашением встретиться в Сен-Рафаэле и выпить вместе аперитив. Отец немедля сообщил нам об этом, обрадованный возможностью вырваться ненадолго из нашего добровольного, но отчасти и вынужденного уединения. Я рассказала Эльзе и Сирилу, что в восемь часов мы будем в «Солнечном баре», и, если они приедут туда, они нас там застанут. На беду, Эльза была знакома с упомянутым приятелем, и это подогрело ее желание явиться в бар. Я стала опасаться осложнений и сделала попытку ее отговорить. Все напрасно.
– Шарль Уэбб меня обожает, – объявила она с детским простодушием. Если он меня увидит, он тем более уговорит Реймона вернуться ко мне.
Сирилу было безразлично – ехать или не ехать в Сен-Рафаэль. Для него важно было одно – находиться там, где я. Я прочла это в его взгляде и не могла подавить горделивого чувства.
Мы выехали из дому около шести. Анна повезла нас в своей машине. Мне нравилась ее машина, большая открытая американская машина, отвечавшая не столько вкусу Анны, сколько требованиям рекламы. Зато моим вкусам она соответствовала вполне – в ней было множество блестящих мелочей, она была бесшумная, обособленная от всего мира и кренилась на крутых поворотах. К тому же мы все трое помещались на переднем сиденье, а я нигде не чувствовала такой тесной связи с другими людьми, как в машине. Все трое на переднем сиденье, чуть прижимая друг друга локтями, во власти общего наслаждения скоростью, ветром, а может быть – и общей смерти. Машину вела Анна, словно символизируя уклад нашей будущей семьи. Я не ездила в ее машине с того пресловутого вечера в Каннах, и это пробудило во мне воспоминания.
В «Солнечном баре» нас ждали Шарль Уэбб с женой. Он занимался театральной рекламой, его жена просаживала заработанные им деньги, причем с головокружительной быстротой и – на молодых мужчин. Он был просто одержим мыслью, как свести концы с концами, и вечно охотился за заработком. Было в нем от этого что-то беспокойное, торопливое, почти неприличное. Он долго был любовником Эльзы – несмотря на свою красоту, она не отличалась корыстью, и ее беспечность в денежных делах привлекала Шарля.
Его жена была злюкой. Анна прежде с ней не встречалась, и я тотчас подметила на ее прекрасном лице презрительное и на-смешливое выражение, какое обычно у нее появлялось в обществе. Шарль Уэбб, как всегда, болтал без умолку, по временам сверля Анну испытующим взглядом. Он явно недоумевал, что у нее может быть общего с юбочником Реймоном и его дочерью. Меня распирало от гордости при мысли, что еще минута, и он это узнает. Воспользовавшись паузой, отец склонился к нему и напрямик объявил:
– А у меня новость, старина. Пятого октября мы с Анной собираемся пожениться.
Остолбенев от изумления, тот переводил взгляд с одного на другого. Я была в восторге, его жена озадачена – она питала давнюю слабость к отцу.
– Поздравляю, – завопил наконец Уэбб во все горло. – Отличная мысль! Мадам, вы изумительная женщина! Посадить себе на шею такого шалопая! Официант! Мы должны это отпраздновать.
Анна улыбалась непринужденно, спокойно. И вдруг лицо Уэбба расплылось в улыбке – мне не было нужды оборачиваться.
– Эльза! Господи, да ведь это Эльза Макенбур, она меня не замечает! Реймон, ты только погляди, как она похорошела!
– Еще бы, – сказал отец тоном счастливого обладателя.
Потом все вспомнил, и его лицо омрачилось.
Анна не могла не уловить интонации отца. Она быстро отвернулась от него в мою сторону. Она уже собиралась заговорить на первую попавшуюся тему, когда я наклонилась к ней:
– Анна, ваша элегантность производит опустошение в сердцах; поглядите, вон тот мужчина не сводит с вас глаз.
Я сообщила это доверительным тоном – то есть достаточно громко, чтобы услышал отец. Он живо обернулся и заметил человека, о котором я говорила.
– Мне это не нравится, – заявил он и взял руку Анны в свою.
– Как они очаровательны! – с ироническим умилением заметила мадам Уэбб. – Шарль, вам не следовало нарушать покой этой влюбленной парочки. Достаточно было пригласить малютку Сесиль.
– Малютка Сесиль не приехала бы, – без обиняков заявила я.
– Почему? Завели себе дружка среди рыбаков? Она однажды видела, как я болтала с кондуктором автобуса, и с той поры относилась ко мне как к деклассированной особе – как к тем, кого она считала «деклассированными».
– А как же, – ответила я, делая над собой усилие, чтобы казаться веселой.
– И кого же вы поймали в свои сети? Хуже всего было то, что она находила себя остроумной. Я начала злиться.
– Морские коты не моя специальность, но в остальном улов у меня недурен.
Воцарилось молчание. Его прервал невозмутимый, как всегда, голос Анны:
– Реймон, попросите пожалуйста, официанта подать соломинки. Без них нельзя пить апельсиновый сок.
Шарль Уэбб тут же подхватил разговор о прохладительных напитках. Моего отца душил смех – я это угадала по тому, как он уткнулся в свой стакан. Анна бросила на меня умоляющий взгляд. И как это принято у тех, кто был на волоске от ссоры, мы тотчас решили, что вместе пообедаем.
За обедом я много пила. Я хотела во что бы то ни стало забыть выражение лица Анны – встревоженное, когда она вглядывалась в отца, и затаенно благодарное, когда взгляд ее задерживался на мне. На все шпильки мадам Уэбб я улыбалась лучезарной улыбкой. Эта тактика сбивала ее с толку. Она стала выходить из себя. Анна знаком просила меня' быть сдержанной. Она чувствовала, что мадам Уэбб готова закатить публичный скандал, а Анна не выносила скандалов. Но мне было не привыкать – в нашем кругу такие вещи считались делом обычным. Поэтому я с самым непринужденным видом слушала болтовню мадам Уэбб.
После обеда мы отправились в один из сен-рафаэльских ночных кабачков. Вскоре после нашего прихода появились Эльза с Сирилом. Эльза остановилась на пороге, громко заговорила с гардеробщицей и в сопровождении бедняжки Сирила стала пробираться между столиками. У меня мелькнула мысль, что она ведет себя не как влюбленная, а как уличная девка, но при ее красоте она могла себе это позволить.
– Это что еще за прощелыга? – спросил Шарль Уэбб. – Совсем еще молокосос.
– Это любовь, – залепетала его жена. – Счастливая любовь…
– Вздор, – резко сказал отец. – Просто очередная интрижка. Я посмотрела на Анну. Она разглядывала Эльзу спокойно, не-принужденно, как рассматривала манекенщиц, демонстрировавших ее модели, или просто очень молоденьких женщин. Без тени недоброжелательства. Я почувствовала прилив пылкого восхищения таким отсутствием мелочности и зависти. Впрочем, я вообще считала, что ей нечего завидовать Эльзе. Анна была в сто раз красивее, утонченнее ее. И так как я выпила, я ей высказала это напрямик. Она с интересом взглянула на меня.
– Вот как? По-вашему, я красивее Эльзы?
– Еще бы!
– Что ж, это всегда приятно слышать. Но вы опять слишком много пьете. Дайте сюда стакан. Вас не очень огорчает, что здесь сидит ваш Сирил? Впрочем, видно, что ему скучно.
– Он мой любовник, – весело сказала я.
– Вы совсем пьяны. К счастью, пора домой!
Мы с облегчением распрощались с Уэббами. Состроив самую серьезную мину, я назвала мадам Уэбб «дорогая сударыня». Отец сел за руль, я уронила голову на плечо Анны.
Я думала о том, что она мне милее Уэббов и всех наших обычных знакомых. Что она лучше, достойнее, умнее их. Отец говорил мало. Наверняка вспоминал появление Эльзы.
– Она спит? – спросил он Анну.
– Как дитя. Она вела себя довольно сносно. Если не считать несколько слишком прямолинейного намека на котов…
Отец рассмеялся. Воцарилось молчание. И потом снова раздался голос отца:
– Анна, я люблю вас, люблю вас одну. Вы мне верите?
– Не повторяйте мне этого так часто, я начинаю бояться…
– Дайте мне руку.
Я хотела было выпрямиться и предостеречь: «Нет, только не сейчас, когда машина идет над пропастью». Но я была навеселе. Запах духов Анны, морской ветер в моих волосах, на плече царапинка – след нашей с Сирилом любви. Достаточно причин, чтобы быть счастливой и молчать. Меня клонило в сон. Эльза и бедняжка Сирил, наверное, трясутся на мотоцикле, который мать подарила ему в прошлый день рождения. Эта мысль почему-то растрогала меня до слез. Машина Анны была такая уютная, с таким мягким ходом, в ней так хорошо спалось… А вот кому, должно быть, сейчас не спится, так это мадам Уэбб! Быть может, в ее годы я тоже буду платить мальчишкам, чтобы они меня любили, потому что любовь самая приятная, самая настоящая, самая правильная вещь на свете. И неважно, чем ты за нее платишь. Важно другое – не озлобиться, не завидовать, как она завидует Эльзе и Анне. Я тихонько засмеялась. Анна чуть согнула руку в плече. «Спите», – повелительно сказала она. И я уснула.
Глава восьмаяНаутро я проснулась в прекрасном настроении, чувствуя только небольшую усталость и легкую тяжесть в затылке от вчерашних излишеств. Как всегда по утрам, солнечный свет заливал мою кровать; я сбросила одеяло, скинула пижамную куртку и подставила голую спину солнечным лучам. Положив щеку на согнутую руку, я видела прямо перед собой крупное плетение простыни, а подальше на плитках пола неуверенно копошившуюся мушку. Лучи были теплыми и ласковыми, казалось, они проникают до самых костей и прилагают особые старания, чтобы меня согреть. Я решила, что все утро пролежу вот так, не шевелясь.
Мало-помалу вчерашний вечер все отчетливей оживал в моей памяти. Я вспомнила, как сказала Анне, что Сирил мой любовник, и рассмеялась: если ты пьян, можешь говорить правду – никто не поверит. Вспомнила я и мадам Уэбб и мою стычку с ней; я привыкла к женщинам подобного сорта: в этой среде в таком возрасте они зачастую бывали отвратительны из-за своего безделья и стремления взять от жизни побольше. Рядом со сдержанной Анной она показалась мне еще более убогой и надоедливой, чем всегда. Впрочем, этого и следовало ожидать: я не представляла себе, какая из приятельниц отца способна была долго выдерживать сравнение с Анной. В обществе людей подобного рода приятно провести вечер можно либо в подпитии, когда ты для забавы затеваешь с ними спор, либо если ты состоишь в интимных отношениях с кем-либо из супругов. Отцу было проще – для них с Уэббом это был спорт. «Угадай, кто сегодня ужинает и спит со мной? Малютка Марс, которая снималась у Сореля. Захожу я к Дюпюи и как раз…» Отец с хохотом хлопал его по плечу: «Счастливчик! Она почти так же хороша, как Элиза». Мальчишество. Но мне нравилось, что они оба вкладывают в него запал, увлеченность. И даже когда нескончаемо долгими вечерами Ломбар на террасе кафе уныло исповедовался отцу: «Я любил ее одну, Реймон! Помнишь весну, перед тем как она уехала… Глупо, когда мужчина всю свою жизнь посвящает одной женщине!» – в этом было что-то непристойное, унизительное, но человечное – двое мужчин изливают друг другу душу за стаканом вина.
Друзья Анны, должно быть, никогда не говорили о самих себе. Да они наверняка и не попадали в такого рода истории. А если уж они говорили о чем-либо подобном, то, наверное, посмеивались от стыдливости. Я чувствовала, что готова разделить с Анной снисходительное отношение к нашим знакомым любезную и прилипчивую снисходительность…. И однако, я понимала, что к тридцати годам буду скорее похожа на наших друзей, чем на Анну. Я задохнулась бы от такой неразговорчивости, равнодушия, сдержанности. Наоборот – лет этак через пятнадцать, уже немного пресыщенная, я склонюсь к обаятельному и тоже уже немного уставшему от жизни мужчине и скажу:
– Моего первого любовника звали Сирил. Мне было неполных восемнадцать, на море стояла такая жара…
Я с удовольствием представила себе лицо этого мужчины. С крошечными морщинками, как у отца. В дверь постучали. Я проворно накинула пижамную куртку и крикнула: «Войдите». Это была Анна – она осторожно держала в руках чашку.
– Я решила, что чашка кофе вам не повредит… Ну как вы – не слишком скверно?
– Превосходно, – ответила я. – Кажется, вчера вечером я немного перебрала.
– Как всегда, когда вы бываете на людях… – Она засмеялась. Впрочем, должна признаться, что вы меня развлекли… Этот вечер был бесконечным.
Я уже не замечала ни солнца, ни вкуса кофе. Разговор с Ан-ной всегда полностью поглощал мои мысли, я переставала наблюдать себя со стороны, хотя только она и заставляла меня сомневаться в себе. Рядом с ней я переживала насыщенные и трудные минуты.
– Сесиль, вам интересно с людьми вроде Уэббов или Дюпюи?
– Вообще-то их манеры несносны, но сами они забавны. Она тоже следила за копошившейся на полу мушкой. Наверное, эта мушка – калека, подумала я. У Анны были тяжелые веки с длинными ресницами – ей было легко казаться снисходительной.
– Вы никогда не замечали, насколько однообразны и… как бы это выразиться… тяжеловесны их разговоры? Вам не надоедает слушать все эти рассуждения о контрактах, о девицах, о светских увеселениях?
– Видите ли, – сказала я, – я десять лет провела в монастыре, а эти люди ведут безнравственный образ жизни, и для меня в этом все еще таится какая-то приманка.
Я не решалась признаться, что это мне просто нравится.
– Но вот уже два года… – сказала она. – Впрочем, тут бесполезно рассуждать или морализировать, это вопрос внутреннего ощущения, шестого чувства…
Как видно, я была его лишена. Я явственно сознавала, что в этом плане мне чего-то не хватает.
– Анна, – сказала я внезапно. – Как, по-вашему, я умная? Она рассмеялась, удивленная прямолинейностью вопроса.
– Ну конечно же! Почему вы спросили?
– Если бы я была набитой дурой, вы все равно ответили бы то же самое, вздохнула я. – Я иногда так остро чувствую ваше превосходство…
– Это всего лишь вопрос возраста. Было бы весьма печально, если бы у меня не было чуть больше уверенности в себе, чем у вас. Я могла бы подпасть под ваше влияние.
Она засмеялась. Я была уязвлена.
– А может, в этом не было бы ничего страшного!
– Это была бы катастрофа, – сказала она.
Она вдруг отбросила шутливый тон и в упор взглянула на меня. Мне стало не по себе. Есть люди, которые в разговоре с тобой непременно смотрят тебе в глаза, а не то еще подходят к тебе вплотную, чтобы быть уверенными, что ты их слушаешь, – я и по сию пору не могу свыкнуться с этой манерой. Кстати сказать, их расчет неверен, потому что я в этих случаях думаю лишь об одном – как бы увильнуть, уклониться от них, я бормочу: «Да-да», переминаюсь с ноги на ногу и при первой возможности убегаю на другой конец комнаты; их навязчивость, нескромность, притязания на исключительность приводят меня в ярость. Анна, по счастью, не видела необходимости завладевать мною таким способом – она ограничивалась тем, что смотрела мне прямо в глаза, и мне становилось трудно сохранять в разговоре с ней тот непринужденный беспечный тон, какой я на себя напускала.
– Знаете, – как обычно кончают мужчины вроде Уэбба?
Я мысленно добавила: «И моего отца».
– Под забором, – отшутилась я.
– Наступает время, когда они теряют свое обаяние и, как говорится, «форму». Они уже не могут пить, но все еще помышляют о женщинах; только теперь им приходится за это платить, идти на бесчисленные мелкие уступки, чтобы спастись от одиночества. Они смешны и несчастны. И вот тут-то они становятся сентиментальны и требовательны… Скольких я уже наблюдала, когда они совершенно опускались.
– Бедняга Уэбб! – сказала я.
Мне было не по себе. И в самом деле – такой конец угрожал и моему отцу! Во всяком случае, угрожал бы, не возьми его Анна под свою опеку.
– Вы об этом не задумывались, – сказала Анна с едва заметной сострадательной улыбкой. – Вы редко думаете о будущем – правда ведь? Это привилегия молодости.
– Пожалуйста, не колите мне глаза моей молодостью, – сказала я. – Я никогда не прикрывалась ею – я вовсе не считаю, что она дает какие-то привилегии или что-то оправдывает. Я не придаю ей значения.
– А чему вы придаете значение? Своему покою, независимости?
Я боялась подобных разговоров, в особенности с Анной.
– Ничему. Вы же знаете, я почти ни о чем не думаю.
– Я немного сержусь на вас и вашего отца… «Никогда ни о чем не думаю… ничего не умею… ничего не знаю». Вам нравится быть такой?
– Я себе не нравлюсь. Я себя не люблю и не стремлюсь любить. Но вы иногда усложняете мне жизнь, и за это я почти злюсь на вас.
Она, задумавшись, стала что-то напевать, мелодия была знакомая, но я не могла вспомнить, что это.
– Что это за песенка, Анна, это меня мучает…
– Сама не знаю. – Она снова улыбнулась, хотя не без некоторого разочарования. – Полежите, отдохните, а я буду продолжать изучение интеллектуального уровня семьи в другом месте.
«Еще бы, – думала я. – Отцу-то это легко». Я так и слышала, как он отвечает: «Я ни о чем не думаю, потому что люблю вас, Анна». И как ни умна Анна, этот ответ наверняка кажется ей убедительным. Я медленно, со вкусом потянулась и снова уткнулась в подушку. Вопреки тому, что я сказала Анне, я много размышляла. Конечно, она сгущает краски: лет через двадцать пять мой отец будет симпатичным седовласым шестидесятилетним мужчиной, питающим некоторую слабость к виски и красочным воспоминаниям. Мы будем выезжать вместе. Я стану поверять ему свои похождения, он – давать мне советы. Я сознавала, что вычеркиваю Анну из нашего будущего: я не могла, мне не удавалось найти ей место в нем. Я не могла представить себе, как в нашей беспорядочной квартире, то запустелой, то заваленной цветами, в которой снуют посторонние люди, звучат чужие голоса и вечно валяются чьи-то чемоданы, воцарится порядок, тишина, гармония – то, что Анна вносила повсюду как самое драгоценное достояние. Я страшно боялась, что буду умирать от скуки. Правда,
с тех пор как благодаря Сирилу я узнала настоящую, физическую любовь, я гораздо меньше опасалась влияния Анны. Это вообще избавило меня от многих страхов. Но я больше всего боялась скуки и покоя. Нам с отцом для внутреннего спокойствия нужна была внешняя суета. Но Анна никогда бы ее не потерпела.
Глава девятаяЯ подробно рассказываю об Анне и о самой себе и почти не говорю об отце. Но не потому, что не он был главным действующим лицом в этой истории, и не потому, что он мало меня интересует. Никого в жизни я не любила так сильно, как его, и из всех чувств, какие обуревали меня в ту пору, чувства к нему были самыми стойкими, глубокими, и ими я особенно дорожила. Но я слишком хорошо его знаю, чтобы с легкостью болтать о нем, да и слишком мы похожи друг на друга. Однако именно его характер я в первую очередь должна объяснить, чтобы как-то оправдать его поведение. Его нельзя было назвать ни тщеславным, ни эгоистичным. Но он был легкомыслен – неисправимо легкомыслен. Я не могу даже сказать, что он был не способен на глубокие чувства, что он был человек безответственный. Его любовь ко мне не была пустой забавой или просто отцовской привычкой. Ни из-за кого он так не страдал, как из-за меня. Да и я сама – я потому и впала в отчаяние в тот памятный день, что он как бы отмахнулся от меня, отвратил от меня свой взгляд… Ни разу он не пожертвовал мною во имя своих страстей. Ради того чтобы проводить меня вечером домой, он не однажды упускал то, что Уэбб называл «роскошной возможностью». Но в остальном – не стану отрицать – он был во власти своих прихотей, непостоянства, легкомыслия. Он не мудрствовал. Он все на свете объяснял причинами физиологическими, которые считал самыми важными. «Ты сама себе противна? Спи побольше, поменьше пей». Точно так же он рассуждал, если его страстно влекло к какой-нибудь женщине, – он не пытался ни обуздать свое желание, ни возвысить
его до более сложного чувства. Он был материалист, но при этом деликатный, чуткий, и, по сути дела, очень добрый человек.
Желание, которое влекло его к Эльзе, тяготило его, но отнюдь не в том смысле, как можно предположить. Он не говорил себе:
«Я собираюсь обмануть Анну. А значит, я ее меньше люблю». Наоборот: «Экая досада, что меня так тянет к Эльзе. Надо побыстрее добиться своего, иначе мне не миновать осложнений с Анной». При этом он любил Анну, восхищался ею, она внесла перемену в его жизнь, вытеснив череду доступных неумных женщин, с какими он имел дело в последние годы. Она тешила одновременно его тщеславие, чувственность и чувствительность, потому что понимала его, помогала ему своим умом и опытом; но зато я далеко не так уверена, сознавал ли он, насколько серьезно ее чувство к нему! Он считал ее идеальной любовницей, идеальной матерью для меня. Но приходило ли ему в голову смотреть на нее как на «идеальную жену» со всеми вытекающими отсюда обязательствами? Сомневаюсь. Убеждена, что в глазах Сирила и Анны он, как и я, был неполноценным в эмоциональном отношении. Однако это вовсе не мешало ему кипеть страстями, потому что он считал это естественным и вкладывал в это все свое жизнелюбие.
Когда я замышляла изгнать Анну из нашей жизни, я не беспокоилась о нем. Я знала, что он утешится, как утешался всегда: ему куда легче перенести разрыв, чем упорядоченную жизнь. По сути дела, его, как и меня, подкосить и сокрушить могли только привычка и однообразие. Мы с ним были одного племени, и я то убеждала себя, что это прекрасное, чистокровное племя кочевников, то говорила себе, что это жалкое выродившееся племя прожигателей жизни.
В данный момент отец страдал – во всяком случае, изнывал от досады. Эльза стала для него символом прошлой жизни, молодости вообще, и прежде всего его собственной молодости. Я чувствовала, что он умирает от желания сказать Анне: «Дорогая моя, отпустите меня на один денек. С помощью этой девки я должен убедиться, что еще не вышел в тираж. Стоит мне вновь почувствовать усталость ее тела, и я успокоюсь». Но он не мог этого сказать. И не потому, что Анна была ревнивицей, твердыней добродетели и к ней нельзя было подступиться с подобными разговорами; просто, согласившись жить с отцом, она, несомненно, поставила условия: что с бездумным развратом покончено, что он не школьник, а мужчина, которому она вручает свою судьбу, и, следовательно, он должен вести себя соответственно, а не быть жалким рабом собственных прихотей. Кто мог бы упрекнуть за это Анну? Это был вполне естественный, здоровый расчет, но это не могло помешать отцу желать Эльзу. Желать ее чем дальше, тем больше, желать ее вдвойне, как всякий запретный плод.
И конечно же, в эту пору в моей власти было все уладить. Достаточно было посоветовать Эльзе, чтобы она ему уступила, и под любым предлогом на один вечер увезти Анну в Ниццу или еще куда-нибудь. Дома нас встретил бы отец, успокоенный и снова преисполненный нежности к предмету узаконенной любви или любви, которая, во всяком случае, станет узаконенной по возвращении в Париж. Ведь и с тем, чтобы остаться такой же любовницей, как другие – то есть временной, Анна тоже никогда бы не примирилась. Ох, как усложняло нам жизнь ее чувство собственного достоинства, самоуважения!…
Но я не советовала Эльзе уступить отцу и не просила Анну съездить со мной в Ниццу. Я хотела, чтобы скрытое желание выплеснулось наружу и толкнуло отца на ложный шаг. Я не могла снести высокомерия, с каким Анна относилась к нашей прошлой жизни, того, что она походя презирала все, что составляло наше с отцом счастье. Я хотела не то чтобы унизить ее, но заставить принять наш взгляд на жизнь. Пусть узнает, что отец ее обманул, и трезво оценит это событие как чисто плотскую прихоть, а не как покушение на ее личное достоинство и честь. Если уж ей хочется любой ценой оказаться правой, пусть позволит нам быть виноватыми.
Я даже делала вид, что не замечаю мучений отца. Главное нельзя было допустить, чтобы он вздумал мне исповедоваться, пытался превратить меня в свою сообщницу, заставил вести переговоры с Эльзой и удалить Анну.
Мне приходилось делать вид, что я считаю его любовь к Анне священной, как и саму Анну. И должна признаться, что для меня это не составляло труда. Мысль, что он может обмануть Анну, наполняла меня ужасом и смутным восхищением.
Тем временем мы проводили счастливые дни, я не упускала случая подогреть страсть отца к Эльзе. Лицо Анны больше не пробуждало во мне укоров совести. Иногда я начинала думать, что она смирится с происшедшим и наша совместная с ней жизнь сложится в соответствии не только с ее вкусами, но и с нашими. С другой стороны, я часто виделась с Сирилом, и мы тайком любили друг друга. Запах сосен, шум моря, прикосновение его тела… Его начало мучить раскаяние, роль, которую я ему навязала, была ему противна, он соглашался на нее только потому, что я убедила его, будто это необходимо ради нашей любви. Все это требовало от меня двоедушия, игры в молчанку с самой собой, но почти никаких усилий и лжи. (А ведь я уже говорила, что никогда не судила себя ни за что, кроме поступков).
Я не задерживалась на этом периоде, потому что, перебирая воспоминания, боюсь наткнуться на такие, от которых на меня накатывает тоска. И так уже, стоит мне вспомнить счастливый смех Анны, то, как она была мила со мной, и я чувствую, что меня словно ударили – нанесли удар ниже пояса, – мне больно, я задыхаюсь от злости на самое себя. Я так близка к тому, что называют муками нечистой совести, что мне приходится искать спасения в простых жестах – закурить сигарету, поставить пластинку, позвонить приятелю. Мало-помалу мысли мои отвлекаются. Но мне не нравится, что я вынуждена цепляться за свою короткую память, за легковесность своего ума, вместо того чтобы с ними бороться. Я не люблю признаваться в этих своих свойствах даже тогда, когда могла бы порадоваться им.