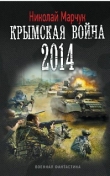Текст книги "Избранное"
Автор книги: Франсиско де Кеведо-и-Вильегас
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 39 страниц)
Глава VI
о жестокостях ключницы и о моих изворотах
Пословица говорит, и говорит правильно: с волками жить, по-волчьи выть. Глубоко вдумавшись в нее, пришел я к решению быть плутом с плутами, и еще большим, если смогу, чем все остальные. Не знаю, преуспел ли я в этом, но уверяю вас, ваша милость, что сделано мною для этого было все возможное. Прежде всего я заранее присудил к смертной казни и подвергал ей всех свиней, попадавших в наш дом, и всех цыплят, заходивших со двора в мою комнату. Однажды случилось, что к нам завернули два кабана столь совершенных статей, каких я не видывал в моей жизни. Я в это время резался в карты с другими слугами и, услыхав хрюканье, сказал одному из них:
– Пойди посмотри, кто это хрюкает у нас в доме.
Он посмотрел и доложил, что это два борова. Узнав об этом, я столь разгневался, что пошел к ним, назвал безобразием и нахальством привычку являться хрюкать в чужие дома и с этими словами, закрыв двери, проткнул грудь каждого из них шпагою. Тут же мы их прикончили, а чтобы не было слышно их визга, сами орали во все горло, как будто бы пели хором, и они испустили дух на наших руках. Потом мы их выпотрошили, собрали кровь и поджарили их на соломенных подстилках на заднем дворе, так что, когда явились хозяева, осе уже было проделано, хоть и плохо, только вот из кишок мы не успели наделать кровяных колбас, хотя торопились так, что, по правде говоря, оставили в них половину содержимого. Об этой проделке узнали дон Дьего и домоправитель и так разозлились, что другим жильцам, которые не могли удержаться от смеха, пришлось за меня заступиться. Дон Дьего спрашивал, что я скажу, если меня притянут к ответу и я попаду в руки правосудие, я же отвечал, что сошлюсь на голод – прибежище всех студентов, а если это не поможет, то расскажу, как свиньи без спроса влезли к нам, как к себе домой, и я принял их за наших собственных. Эти оправдания вызвали общий смех, и дон Дьего заметил:
– Поистине, Паблос, ты за словом в карман не лезешь!
Нужно заметить, что хозяин мой был благочестив и честен, я же – изворотлив и плутоват, так что добродетели одного оттенялись пороками другого, и наоборот.
Ключница наша души во мне не чаяла, ибо мы с ней стакнулись, составив заговор против запасов провизии. Я стал настоящим Иудой – хранителем казны[43]43
…Иудой – хранителем казны… – Согласно евангельской легенде, Иуда был у апостолов казначеем.
[Закрыть] и в этой должности воспылал невероятной страстью к утайке хозяйского добра. В руках ключницы мясо не соблюдало правил риторики, ибо из большего делалось меньшим,[44]44
…не соблюдало правил риторики, ибо us большего делалось меньшим… – Одно из правил риторики гласило, что в речи убедительнее переходить от меньшего к большему.
[Закрыть] и если ей это удавалось, то вместо баранины она подсовывала козлятину или овечье мясо, а если имелись под рукой кости, то о мясе не было и речи. Она варила какие-то чахоточные, совсем тщедушные похлебки, бульоны, из которых, если бы они застыли, можно было бы сделать хрустальные четки. На рождество и на пасху, дабы отметить праздники, она, стараясь сделать похлебку пожирней, подбрасывала туда огарки сальных свечей. Хозяину в моем присутствии она говорила:
– Вот уж верно, не найти другого такого слуги, как Паблос, не будь он только так плутоват. Берегите его, ваша милость, ибо плутовство его можно терпеть за его преданность. Он всегда приносит с рынка все самое лучшее.
А я говорил про нее то же самое, и так мы надували весь дом. Когда покупалось сразу много угля или сала, половину всего этого мы припрятывали, по мере надобности заявляя:
– Умеряйте, господа, ваши расходы, ибо при такой расточительности нам не хватит и королевского состояния. Вот уже нет ни угля, ни масла – так поторопились они исчезнуть. Надо прикупить еще, и тогда все пойдет по-иному. Прикажите дать денег Паблосу.
Деньги я получал, и мы им продавали удержанную нами часть, а из вновь купленного снова утаивали половину. Так мы поступали решительно со всем, а если мне случалось купить что-нибудь на рынке за настоящую цену, то мы с ключницей нарочно спорили и ссорились. Она восклицала, будто бы в сердцах:
– Не говори мне, Паблос, что тут на два куарто салата!
Я притворялся, будто плачу, поднимал крик и шел жаловаться моему хозяину, требуя, чтобы он послал домоправителя на рынок проверить цены и тем самым заткнуть рот ключнице, которая, дескать, нарочно наговаривает на меня. Домоправитель шел на рынок, устраивал проверку, все убеждались в моей честности и оставались довольны моими стараньями и усердием ключницы.
– Вот если бы Пабликос был столь же добродетелен, сколь и предан, – говорил дон Дьего домоправителю, весьма мною довольный, – все было бы очень хорошо. Что вы о нем скажете?
Мы же продолжали делать свое дело и сосали хозяина, как пиявки. Готов биться об заклад, что вы, ваша милость, пришли бы в изумление от той суммы денег, какую мы выручили к концу года. Сумма эта была весьма велика, но никто и не думал ее возвращать законным владельцам. Хотя ключница исповедовалась и причащалась каждую неделю, но ей никогда не приходило в голову вернуть что-либо, и поступков своих она не стыдилась. Такой уж была она святой человек. На шее у нее висели столь большие четки, что вместо них легче было таскать на себе вязанку дров. К четкам этим было прицеплено множество образков, крестиков, встречались там и зерна крупнее других – они служили для молитв за души в чистилище. Она уверяла, что еженощно перебирает их все, молясь за своих благодетелей. Среди святых она насчитывала сто с чем-то своих заступников, и, вправду сказать, ей нужна была помощь их всех, чтобы очищаться от своих прегрешений. Спала она в комнате над помещением моего барина и на сон грядущий бормотала больше молитв, чем какой-нибудь нищий слепец. Начинала она с «Судьи праведного», а заканчивала «Cunqui-bult»[45]45
Всякий, кто хочет (лат., искаж.).
[Закрыть] и «Salve, Regina».[46]46
Радуйся [дословно: будь здорова], царица [небесная] (лат.).
[Закрыть] Читала она молитвы по-латыни, – нарочно, чтобы выставить напоказ свою простоватость, так как она их безбожно коверкала, отчего мы чуть не лопались со смеху. Обладала она и иными талантами: потрафить всяким желаниям и угождать разным вкусам, то есть, попросту говоря, быть сводней. Передо мной она оправдывалась тем, что это у нее наследственное свойство, подобное дару французского короля исцелять от золотухи.
Ваша милость, быть может, решит, что мы с нею жили всегда в добром согласии. Но кому не ведомо, однако, что друзья, коль скоро они корыстные, будут стремиться обмануть один другого? Ключница наша разводила на дворе кур. Мне захотелось полакомиться одной из них. У этой курицы было двенадцать или тринадцать уже порядочных цыплят, и вот однажды ключница стала созывать их на кормежку, крича: «Пио, пио!» Услыхав этот зов, я закричал, в свою очередь:
– Черт побери, хозяйка, убей вы человека или обворуй короля, я бы еще промолчал, но промолчать о том, что вы тут делаете, нельзя! Горе и мне и вам!
Узрев меня в столь крайнем и как будто бы непритворном волнении, ключница несколько встревожилась.
– А что же, Паблос, я такого сделала? – спросила она. – Брось шутки и не огорчай меня.
– Какие тут шутки, черт возьми! Я-то ведь не могу не дать знать обо всем этом инквизиции, иначе меня отлучат от церкви!
– Инквизиции? – переспросила она и начала дрожать. – А разве я сделала что-нибудь во вред нашей вере?
– Похуже того, – отвечал я. – Лучше не шутите с инквизиторами, лучше признайтесь им, что вы оговорились по глупости, но не отпирайтесь от богохульства и дерзости.
– А если я покаюсь, Паблос, меня накажут? – со страхом спросила она.
– Нет, – успокоил я ее, – тогда они дадут вам отпущение.
– Как я каюсь, – сказала она, – только объясни мне – в чем, ибо сама я этого не знаю, клянусь спасением души моих покойников.
– Неужели вы этого не знаете? Уж не знаю, как и сказать вам, дерзость-то ваша меня прямо в ужас приводит. Разве вы не помните, что позвали цыплят: «Пио, пио», а Пио – это имя пап, викариев господа бога и глав церкви! Разве это малый грех?
– Я и в самом деле так сказала, Паблос, – помертвев, призналась она, – но пусть не простит меня господь, если это было по злому умыслу. Я каюсь, а ты подумай, нет ли какого способа избегнуть обвинения; ведь я помру, коли попаду в инквизицию.
– Если вы поклянетесь перед святым алтарем, что не имели злого умысла, я, пожалуй, на вас и не донесу, но нужно, чтобы вы отдали мне тех двух цыплят, что вы кормили, подзывая святейшим именем первосвященников, а я отнесу их на сожжение одному слуге инквизиции, ибо они уже осквернены. Кроме того, вы должны будете присягнуть, что никогда не повторите ничего подобного.
– Забирай же их, Паблос, сейчас же, – возрадовалась она, – а присягу я принесу завтра.
– Плохо только то, Сиприана (так звали ключницу), – сказал я ей для вящего правдоподобия, – что в этом деле я сам подвергаюсь большой опасности. А вдруг инквизиция решит, что провинился-то я, да и наделает мне неприятностей? Лучше отнесите вы их сами, а то я, ей-богу, боюсь.
– Пабло, – взмолилась она, – бога ради, смилуйся надо мной и отнеси их сам, с тобой ничего не может приключиться.
Я дал ей время как следует попросить меня и наконец сделал так, как хотел: забрал цыплят, спрятал их в своей комнате, прикинулся, что ушел со двора, а затем вернулся и сказал:
– Все обошлось лучше, чем я думал, он было хотел пойти со мною, чтобы взглянуть на виновную, но я его ловко обдурил и все устроил.
Она наградила меня тысячей поцелуев и еще одним цыпленком, а я направился туда, где были уже спрятаны его товарищи, и заказал одному харчевнику приготовить из них фрикасе, которое и было съедено в компании других слуг. Ключница и дон Дьего, однако, дознались об этой проделке. Весь наш дом был от нее в восхищении. Владелица же цыплят расстроилась чуть не до смерти и с досады едва не выдала все мои покражи и утайки, но ей все же пришлось умолчать.
Видя, что отношения мои с ключницей ухудшаются, я, не имея больше возможности надувать ее, стал приискивать новые способы развлекать себя и принялся за то, что студенты называют «хапаньем на лету».
Тут со мной приключились забавнейшие происшествия. Шествуя как-то около девяти часов вечера, когда прохожих уже бывает мало, по главной улице города, увидел я кондитерскую, а в ней на прилавке корзину с изюмом. Я вскочил в лавку, схватил корзину и пустился наутек. Хозяин кинулся за мною, а за ним его приказчик и соседи. Таща тяжелую добычу, я понял, что хотя расстояние между нами и порядочное, но они меня непременно догонят, а потому, завернув за угол, уселся на корзину, поспешно прикрыл ногу плащом и, держась за нее обеими руками, прикинулся нищим и начал причитать:
– Ой, как он отдавил мне ногу! Но, господи, прости ему.
Преследователи, услыхав это, подбежали ко мне, а я стал бормотать «Ради царицы небесной» и то, что обычно говорят попрошайки, о недобром часе и об отравленном воздухе. Они попались на удочку и стали допытываться:
– Не пробегал ли тут один человек, братец?
– Пробежал до вас, – отвечал я, – и чуть не раздавил меня, хвала всевышнему!
Тут они бросились дальше в погоню, а я, оставшись один, дотащил корзину до дому, рассказал о своей проделке, и, хотя все весьма ею остались довольны, никто, однако, мне не поверил. Поэтому я пригласил всех на следующий вечер полюбоваться моим налетом на такой же короб, и они собрались, но, увидев, что короба стоят в глубине лавки и что их нельзя достать с улицы руками, решили, что представление не состоится. К тому же хозяин, наученный горьким опытом владельца изюма, был начеку. Подойдя на двенадцать шагов к лавке, я выхватил порядочных размеров шпагу, вбежал туда с криком «Умри!» и сделал выпад, целясь прямо в торговца.
Тот повалился на землю, моля отпустить его душу на покаяние, а я пронзил шпагой один из коробов, подцепил его и был таков. Приятели мои обомлели от этой выходки и чуть не померли со смеху, когда лавочник стал просить их освидетельствовать его, ибо он, дескать, вне всякого сомнения, ранен человеком, с которым только что повздорил. Но, оглядевшись и увидев, что при похищении короба соседние с ним оказались смещенными, он догадался, что стал жертвой надувательства, и начал без конца осенять себя крестным знамением.
Признаюсь, редко что выходило у меня столь удачно. Приятели мои уверяли потом, что хватило бы меня одного, чтобы пропитать весь дом моими набегами, или, выражаясь более грубо, кражами.
Будучи молод и видя, как восхваляют мои таланты и умение ловко выпутываться из всяких переделок, я пускался и на другие подвиги. Каждый день я притаскивал полный пояс кувшинов, которые выпрашивал у монахинь, чтобы напиться воды, но не возвращал обратно. Кончилось это, правда, тем, что мне перестали их одалживать без залога.
Однажды я дошел до того, что пообещал дону Дьего и всем моим приятелям как-нибудь украсть шпаги у ночного дозора. Мы сговорились и вышли все вместе во главе со мною. Обнаружив дозор, я вместе с другим слугой подошел поближе и спросил с весьма встревоженным видом:
– Стражи закона? Они ответили, что да.
– А где коррехидор?
Они сказали, что здесь. Тогда я преклонил колена и обратился к нему с речью:
– Сеньор, в руках вашей милости – мое спасение, мое отмщение и великая польза для государства. Соблаговолите, ваша милость, выслушать два словечка наедине, и вам будет обеспечен изрядный улов.
Он отошел в сторону, корчете[47]47
Корчете – прозвище полицейских-фискалов, означающее крючок.
[Закрыть] уже схватились за шпаги, а альгуасилы – за свои дубинки, и я сказал ему:
– Сеньор, я прибыл из Севильи следом за шестью величайшими злодеями на свете, грабителями и человекоубийцами. Один из них лишил жизни мою мать и моего брата, дабы их ограбить, чему я имею доказательства. Все они находятся в сообществе – и это я слыхал от них самих – с каким-то французским шпионом, коего подослал, – тут я совсем понизил голос, – Антонио Перес.[48]48
Антонио Перес (1539–1616) – секретарь испанского короля Филиппа II. Был обвинен в убийстве, организованном по тайному приказу короля, бежал за границу, где напечатал компрометирующие испанскую политику документы; пользовался покровительством Франции и Англии.
[Закрыть]
При этих словах коррехидор даже подскочил и заорал:
– Где они?
– В публичном доме, сеньор! Не медлите, ваша милость, души моей матери и брата воздадут вам молитвами, а король – само собою…
– Господи Иисусе! – заторопился тот. – Какое тут может быть промедление! Следуйте все за мною, дайте мне щит!
– Сеньор, – тут я снова отвел его в сторону, – коли вы так будете себя вести, то у вас ничего не получится. Сначала пусть все по одному войдут туда без шпаг, ибо они сидят по комнатам с пистолетами и, заметив, что у вас шпаги, какие бывают только у стражников, примутся стрелять. Лучше было бы напасть на них с кинжалами и похватать всех втихомолку, у нас для этого народу предостаточно.
План этот встретил одобрение коррехидора, жаждавшего схватить преступников. Мы подошли к указанному месту, и он велел всем попрятать шпаги в траву, что росла на лугу у самого дома. Стражники так и сделали и двинулись дальше. Я пошел вслед за ними, предварительно научив своего спутника, как только шпаги останутся без присмотра, схватить их и тащить домой, что и было сделано в один миг. Когда дозор входил в дом вместе с другим людом, я нарочно замешкался, а затем дал тягу и помчался по переулку, ведущему к монастырю святой Анны, с такой быстротою, что меня не догнала бы и гончая собака. Войдя в дом и никого там не обнаружив, кроме студентов и всякого сброда, что, впрочем, одно и то же, стражники принялись искать меня, однако нигде не нашли и, заподозрив, в чем тут дело, бросились к своим шпагам, но тех уже и след простыл! Кто изобразит волнение, которое пережили в ту ночь ректор и коррехидор? Они обошли все дворы, всматривались во все лица, обыскивали все кровати, побывали и в нашем доме, а я, дабы меня не опознали, улегся в постель в ночном колпаке, взял в одну руку свечку, а в другую – распятие, а рядом поставил вместо духовника одного из товарищей, который как бы помогал мне переселиться в другой мир. Остальные же запели отходную. Явились ректор и стражники и, увидев подобное зрелище, ушли прочь. Им и в голову не пришло, что и на этот раз их провели за нос. Они никуда не заглянули, а ректор даже прочитал надо мною несколько слов молитвы и осведомился, могу ли я еще говорить. Ему ответили, что нет. После этого они удалились в полном отчаянии, что не нашли никаких следов воровства. Ректор клялся и божился, что предаст в руки правосудия того, кто ему попадется, а коррехидор – что повесит его, будь он хоть сыном гранда. Я воскрес из мертвых, и в Алькала до сих пор удивляются этой моей проделке.
Дабы не удлинять рассказа, я не буду повествовать о том, как я превратил городской рынок в место столь небезопасное для торговцев, словно это был густой лес, и как изъятым у стригачей сукон, у ювелиров и у зеленщиц – ибо не мог я забыть обиды, нанесенной мне, когда я был королем петухов, – поддерживал почти целый год наш очаг. Умолчу я и о той дани, которую я наложил на все окрестные огороды и виноградники. Все эти подвиги стяжали мне славу самого ловкого и пронырливого пройдохи. Ко мне благоволили все кабальеро, и каждый из них стремился переманить меня к себе на службу, но я оставался верным дону Дьего, коего неизменно чтил за его ко мне великую благосклонность.
Глава VII
об отъезде дона Дьего, об известиях о смерти моих родителей и о решениях, которые я принял на будущее
В это время дон Дьего получил от своего отца письмо, в которое было вложено послание ко мне моего дяди Алонсо Рамплона, человека, украшенного всеми добродетелями и весьма известного в Сеговии своею близостью к делам правосудия, ибо все приговоры суда за последние четыре года исполнялись его руками. Попросту говоря, был он палачом и настоящим орлом в своем ремесле. Глядя, как он работает, хотелось невольно, чтобы и тебя самого повесили. Этот самый дядя и написал мне из Сеговии в Алькала нижеследующее письмо.
Письмо
Сынок мой Паблос! (Он очень меня любил и так меня называл.) Превеликая занятость моя в должности, препорученной мне его величеством, не дала мне времени написать раньше это письмо, ибо если и есть что плохое на коронной службе, то разве только обилие работы, вознаграждаемой, однако, печальной честью быть одним из королевских слуг. Грустно мне сообщать малоприятные вести. Батюшка твой скончался неделю тому назад, обнаружив величайшее мужество. Я свидетельствую это как человек, самолично ему в этом помогавший. На осла он вскочил, даже не вложив ногу в стремя. Камзол шел ему, точно был сшит на него, и никто, видя его выправку и распятие впереди него, не усомнился бы, что это приговоренный к повешению. Ехал он с превеликой непринужденностью, разглядывая окна и вежливо приветствуя тех, кто побросал свои занятия, чтобы на него поглазеть. Раза два он даже покручивал свои усы. Исповедников своих он просил не утомляться и восхвалял те благие напутствия, коими они его провожали. Приблизившись к виселице, он поставил ногу на лестницу и взошел не столь быстро, как кошка, но нельзя сказать, чтобы медленно, а заметив, что одна ступенька поломана, обратился к слугам правосудия с просьбой велеть ее починить для того, кто не обладает его бесстрашием. Могу сказать без преувеличения, что всем он пришелся по душе. Он уселся наверху, откинул складки своего одеяния, взял веревку и набросил ее себе на кадык. Увидев же, что его собирается исповедовать некий театинец,[49]49
Театинец – член ордена, названного по итальянскому городу Теато. В обязанность монахов этого ордена входило исповедовать и утешать людей, приговоренных к смертной казни.
[Закрыть] он обернулся к нему и сказал: «Я уже считаю себя отпетым, отче, а потому скорехонько прочтите „Верую“ и покончим со всем этим», – видно, ему не хотелось показаться многоречивым. Так оно и было сделано. Он попросил меня сдвинуть ему набок капюшон и отереть слюни, что я и исполнил. Вниз он соскочил, не подгибая ног и не делая никаких лишних движений. Висел же он столь степенно, что лучшего нельзя было и требовать. Я четвертовал его и разбросал останки по большим дорогам. Один господь бог знает, как тяжело мне было видеть, что он стал даровой пищей для ворон, но думаю, что пирожники утешат нас, пустив его останки в свои изделия ценою в четыре мараведи. О матушке твоей, хоть она пока и жива, могу сообщить примерно то же самое, ибо взята она толедской инквизицией за то, что откапывала мертвецов, не будучи злоречивой.[50]50
…откапывала мертвецов, не будучи злоречивой. – Матери Пабло для колдовства нужны были зубы повешенных, но, откапывая их, она мертвецам «косточек не перемывала».
[Закрыть] Говорят также, что каждую ночь она прикладывалась нечестивым лобызаньем к сатане в образе козла. В доме у нее нашли ног, рук и черепов больше, чем в какой-нибудь чудотворной часовне; наименее же тяжкое из предъявляемых ей обвинений – это обвинение в подделывании девственниц. Говорят, что она должна выступить в ауто в троицын день и получить четыреста смертоносных плетей. Весьма печально, что она срамит всех нас, а в особенности меня, ибо в конце концов я слуга короля и с такими родичами мне не по пути. Тебе, сынок, осталось кое-какое наследство, припрятанное твоими родителями, всего около четырехсот дукатов. Я твой дядя, и все, что я имею, должно принадлежать тебе. Ввиду этого можешь сюда приехать, и с твоим знанием латыни и риторики ты будешь неподражаемым в искусстве палача. Отвечай мне тотчас же, а пока да хранит тебя господь и т. д.
Не могу отрицать, что весьма опечалился я нанесенным мне новым бесчестием, но отчасти оно меня и обрадовало. Ведь родительские грехи, сколь велики бы они ни были, утешают детей в их несчастьях.
Я поспешил к дону Дьего, занятому чтением письма своего отца, в котором тот приказывал ему вернуться домой и, наслышавшись о моих проделках, велел не брать меня с собою. Дон Дьего сообщил, что собирается в путь-дорогу, рассказал об отцовском повелении и признался, что ему жаль покидать меня. Я жалел еще больше. Предложил он устроить меня на службу к другому кабальеро, своему другу, а я на это только рассмеялся и сказал:
– Другим я стал, сеньор, и другие у меня мысли. Целю я повыше, и иное мне нужно звание, ибо если батюшка мой попал на лобное место, то я хочу попытаться выше лба прыгнуть.
Я рассказал ему, сколь благородным образом помер мой родитель, как его разрубили и пустили в оборот и что написал мне обо всем этом мой дядя-палач, а также и о делах моей матушки, ибо ему, поскольку он знал, кто я такой, можно было открыться без всякого стыда. Дон Дьего весьма опечалился и спросил, что я намерен предпринять. Я поделился с ним своими замыслами, и после всего этого на другой день он в глубокой скорби отправился в Сеговию, а я остался дома, всячески скрывая мое несчастье. Я сжег письмо, дабы оно не попало кому-либо в руки, если потеряется, и стал готовиться к отъезду с таким расчетом, чтобы, вступив во владение своим имуществом и познакомившись с родственниками, тотчас же удрать от них подальше.