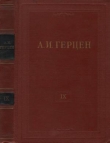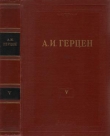Текст книги "Русское народничество (ЛП)"
Автор книги: Франко Вентури
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 4 страниц)
Трудно точно определить насколько хорошо молодые люди знали Сен-Симона. Они могли больше знать о том, что было написано о культе Сен-Симона, чем о том что он действительно делал. Герцен, например, цитирует Олинда Родрига и главным образом упоминает памфлеты и суд над последователями Сен-Симона.
Наверное это были критицизм «Просвещения», философия истории и заря новой эры в органической науке и религии, которые в начале так поразили Герцена и его друзей. Это обсуждалось в некоторых произведениях Герцена конца 1832-го года, под названием «О месте человека в природе». Даже позже, он главным образом писал о религиозном аспекте сен-симонизма и о «réhabilitation de la chair» .
И хотя это было наиболее очевидное влияние сен-симонизма на Герцена, желание «палингенезии» уже было изменено его критическим духом. Он говорил, что если идеология сен-симонизма станет новым христианством, то она будет подвержена тому же риску, что и все религии, отхода от «чистых оснований» и «великого и возвышенного» к «невразумительной мистике». Еще в 1833 году развитие сен-симонизма подтвердило его сомнения. Он писал Огареву:
«Ты говоришь верно. Мы правы, что интересуемся этим. Мы чувствуем ( и я писал это тебе два года назад, когда идея была еще нова), что мир ожидает перерождения; что революция 89-го поломана и должна прийти новая эра через палингенез. Европейскому обществу должен быть дан новый фундамент, основанный на праве, морали и культуре. Это настоящее значение нашего опыта – это Сен-Симонизм. Но я не имею в виду его декаданс, как я называю его религиозную форму.» (перевод с английского переводчика)
По этим причинам Герцен не прекратил своего исследования социалистической доктрины Фурье и других. («Ее странность», говорил он, «оправдывается ее целями») Но он не ограничил себя этими теориями. Он был поглощен желанием получить знания и имел большие планы по чтению – Мишле, Вико, Монтескье, Гердер; римское право и политическая экономия Сэя и Мальтуса; обо всех них он пишет Огареву.
Но что же заставило Герцена искать в сен-симонизме основу своему романтическому видению? Для его дальнейшего развития это было даже важнее социализма. Это был его разрыв с французской революцией – его критицизм демократии, который он сам разработает после 1848 года, но который он уже нашел в основах сен-симонизма. Странно, что даже на этом раннем этапе мы находим следы духа Эбера в политических идеях Герцена. Дух, чей источник трудно проследить, но который наверно происходит, или по-крайней мере похож на ранние истоки сен-симонизма. Не случайно, что герой французской революции, который часто появлялся в его работах – это космополит Анахарсис Клоотс.
Но эти политические исследования в рамках романтической культуры были резко прерваны арестом Герцена и его кружка 21 июля 1834 года. Группа расширялась и ее члены планировали выпустить журнал. Их политические и социальные идеи стали отличать их от философских групп их современников.
Герцен оставался в тюрьме до апреля следующего года. Его приговорили к ссылке, сначала в Пермь, а потом в Вятку, на северо-востоке европейской России.
Его изоляция усилила религиозные и сентиментальные аспекты его романтизма. Его критика последователей сен-симонизма за искажение доктрины их учителя (критика, которая была наиболее личным вкладом его молодости) уступила форме романтизма, похожего на христианство. Для того чтобы жить более интенсивно и избежать убогой провинциальной атмосферы, окружавшей его, он стал интроспективным. Не случайно, что именно здесь он начал писать свою автобиографию, которую продолжит писать всю жизнь.
Романтическая интроспекция привела его, также как и многих его современников и друзей, к смирению и желанию принять действительное существование как рациональное. Однако это примирение с миром не содержало в себе доктринерскую ярость, которая позже появилось у Бакунина и Белинского. В Герцене преобладало желание внутреннего мира, потому что он понял, что бессильный и одинокий и отрезанный от знакомого общества его московских друзей, он ничего не сможет достигнуть.
Политически, это примирение выразилось в нескольких «Отдельных замечаниях о русском законодательстве» написанных в Вятке в 1836 году. В них он дал более благосклонное суждение, чем раньше или когда-либо даст в будущем, цивилизующей роли царского государства. Правительство, думал он, уже выполнило задачу просвещения и образования, и это может быть продолжено в будущем. Он видел плохое и хорошее, и продолжал критиковать привилегии дворянства и крепостничество. Но он рассматривал все это с точки зрения умеренного реформатора. Эти записки заслуживают внимания только лишь потому, что в тот самый момент примирения с миром они содержат намек на то, что будет интересовать Герцена больше всего – крестьянский социализм. При более спокойном рассмотрении ситуации в России, он видит периодическое перераспределение земли в крестьянских общинах. Он упоминает о своих идеях по этому вопросу в записи « Это lex agraria Юбилейный Год ».
Это был лишь намек. Чтобы продвинуться дальше, Герцен должен был стать ближе к социальной реальности. Он сделает это, когда покинет Вятку, и опять присоединится к интеллектуальным кругам Москвы и Санкт-Петербурга. Правду, которую он откроет заново, после того как отбросит свой религиозный романтизм, он назовет «реализмом».
Во Владимире в 1838 году, Герцен все-еще мог писать: «Современная немецкая философия [Гегеля] очень удобна; слияние мысли, откровения и концепции идеализма и теологии». (перевод с английского переводчика) Это было похоже на точку зрения Бакунина, который написал в это же время несколько длинных писем, в которых сочетались гегельянство и пиетизм. В течении последующих десяти лет Герцен избавился от этих «удобных гармоний» и нашел в политике также как и в философии их настоящие противоречия.
Его контакт со столицей был короткий. Почти сразу же его выслали в провинцию, в Новгород, за то что он осмелился критиковать в частном письме управление общественного порядка в Санкт-Петербурге. Но этот короткий контакт опять поставил его перед проблемой Государства и его функции в России. Он вернулся к исследованиям о Петре Великом, которые начал в ранние годы. Он больше не вдохновлялся юношеским преклонением, но желанием интерпретировать историю на базе знаний русских источников и современных ему французских историков – Тьерри, Мишле, Гизо. Его попытки понять Петра Великого убедили его в том, что тот период, который царь начал, сейчас уже заканчивался. «Его эпоха заканчивается с нами. Мы заканчиваем великую задачу гуманизации старой России. После нас придет эпоха органического развития, озабоченная содержанием, а не формой и поэтому чисто человеческая по своему характеру.» (перевод с английского переводчика)
Поэтому юношеские идеи «палингенеза» трансформируются в веру в начало новой исторической эпохи – эпохи, созревшей для развития и для замены деспотичной эпохи Николая I. Долг Герцена был подготовить себя к ней.
Принятие им того, что Россия должна быть подвергнута европеизации – процессу, который он рассматривал как начало новой эпохи – привело его к конфликту с двумя наиболее активными представителями русского гегельянства, с Белинским и Бакуниным. В 1837 году они приняли правильность теорий Гегеля в политическом и философском смысле и превозносили абсолютное Государство как воплощение «объективного духа». Они пришли к такому парадоксальному выводу в отчаянном поиске «реальности», в то время, когда правительство лишало интеллигенцию всякой политической активности. Герцен говорил об «отречении от прав интеллекта, непонятном и неестественном самоубийстве».
Белинский продолжал защищать свои теории до начала 1840 года, в открытом конфликте с Герценом и другими, которые верили в свободу. Белинский яростно поддерживал то, что сознание русского народа всегда находило полное выражение в действиях царя – воплощением русской цивилизации и свободы. Но эта ярость, которая казалась Герцену формой самоубийства, содержала элемент спасения, так как она раскрывала тот же политический дух, который дал современникам Белинского возможность поверить во французские утопии. Белинский лишь построил наиболее странную и наиболее интеллектуальную из всех утопий – абсолютизм российских императоров. Он не мог, конечно, долго оставаться сторонником этой позиции. Вскоре он тоже начал интересоваться западными теориями и нашел в них удовлетворение, которое он тщетно искал в абсолютизме. В итоге, пока Герцен и Огарев посвящали себя более или менее изучению Гегеля и немецкой философии, Белинкий начал знакомиться с более современными социальными теориями. Из сочетания философского и политического энтузиазма родилось западничество 40-х.
Это западничество было в прямом конфликте со славянофильскими тенденциями, которые (главным образом в Москве) развились в политическое движение. «Абсолютистский период» Белинского сам по себе был крайней реакцией на славянофилов; защита функции российского государства против сторонников чистого националистического духа церкви и деревни. Также как Белинский нелепо пытался видеть в правлении Николая I просвещенный деспотизм, так и славянофилы приняли в равной степени романтический взгляд на русский народ. Славянофилы обратились к далекому прошлому – к Фридриху II и Гердеру, к немецкой культуре 18 века и началу 19-го. Они были под глубоким влиянием немецкой интеллектуальной атмосферы и фактически были его поздним продуктом.
Но их обсуждения не могли оставаться привязаны к традициям Петра Великого и романтической идеализации российского прошлого. Это было бы слишком стерильно и непрактично; с одной стороны официальное оправдание абсолютизма, с другой – сентиментальная реакция на него. Это могло быть лишь академическим обсуждением философии русской истории и духа, и институтах, в которых это выражалось. Нужна была исключительна живая культура 40х, для того чтобы расширить это обсуждение. Это расширение заставило, по крайней-мере некоторых западников, скорее задуматься о развитии, чем об отрицании абсолютизма; в то время как славянофилы пытались лучше понять народ и прошлое, о котором они говорили.
Сам Герцен, человек блестящего интеллекта, играл немалую роль в этих изменениях. Он один появится с полной и эффективной политической программой.
В 1842 году он смог вернуться в Москву, которая стала центром его деятельности. Наконец-то он освободился из провинциальной ссылки; освободился и от чиновничьей карьеры, которой он занимался в ссылке, и в которой он почти преуспел. Он вступил во вторую молодость, более зрелую, но с таким же энтузиазмом и с таким же интересом к европейской культуре как и вначале. Он быстро избавился от смирения, скуки и религии, которые он приобрел во времена одиночества. В своем дневнике он оставил прекрасную запись освобождения от романтических мечтаний – возрождение более конкретных и политических и философских интересов. Запись духовного процесса, который он разделял со всей современной ему Европой – Европой , которая двигалась к революции 1848 года.
На первый взгляд идеи славянофилов кажется воплощают те самые идеи и эмоции, которые Герцен как-будто отрицает. «С славянофилами столько же мало можно говорить, и они так же нелепы и вредны, как пиетисты.» (из дневника Герцена 29 Июля 1842 http://az.lib.ru/g/gercen_a_i/text_0400.shtml ). Два года спустя в 1844 году он провел историческую аналогию со славянофильскими идеями.
«Славянофильство имеет подобное себе явление в новой истории западной литературы. Появление национально-романтической тенденции в Германии после наполеоновских войн – тенденция, которая находила слишком всеобщею и космополитическою науку и мысль, шедшие от Лейбница, Лессинга до Гердера, Гёте, Шиллера. Как ни естественно было появление неоромантизма, но оно было не более как литературное и книжное явление без симпатии масс, без истинной действительности; не трудно было угадать, что через десять лет об них забудут. Точно такое же положение занимают славянофилы. Они никаких корней не имеют в народе, они западной наукой дошли до своих национальных теорий, это болезнь литературная и больше никакого значения не имеющая.» ( из дневника Герцена 10 декабря 1844 года http://az.lib.ru/g/gercen_a_i/text_0400.shtml )
Это заставило Герцена изучить немецкие истоки славянофильской культуры, и самому разобраться в идеалистической философии. Он следил за действиями левого крыла гегельянства в Берлине, и за новыми статьями в журнале Руге «Deutsche Jahrbucher». Он читал Фейербаха, но ему больше всего помогали личные размышления о Гегеле. «Нет ничего смешнее,», – пишет он, – «что до сих пор немцы, а за ними и всякая всячина, считают Гегеля сухим логиком, костяным диалектиком вроде Вольфа, в то время как каждое из его сочинений проникнуто мощной поэзией, в то время как он, увлекаемый (часто против воли) своим гением, облекает спекулятивнейшие мысли в образы поразительности, меткости удивительной. И что за сила раскрытия всякой оболочки мыслью, что за молниеносный взгляд, который всюду проникает и все видит, куда ни обернул бы взор!» (Дневник Герцена 15 сентября 1844 года http://az.lib.ru/g/gercen_a_i/text_0400.shtml ) Именно там он искал суть гегелевской мысли. Он пришел к выводу, что «философия истории» самая слабая часть системы, искусственная конструкция, которая скорее скрывает, чем раскрывает историю.
Он был поражен тем, что Гегель признавал существование внешнего духа над человеческими событиями. Гегель остался, как он писал тогда, «Колумбом для философии и человечественности». Но в чем же смысл, спрашивает он: «...что за странные два концентрические круга, которыми он определяет дух человечества: история – это поприще духа, одействотворение его, его истина, его полное бытие; потом дух сам по себе, в своей области,– эти круги то имеют одинакий радиус – и тогда один круг, то радиус духа самого по себе получает какую-то бесконечную величину – и тогда опять круг один, а он в обоих случаях считает два круга. Человечество знает дух – так, как дух себя знает,– во всем этом есть таутологическая бифуркация, затрудняющая смысл истины для того, чтоб ее высказать глоссологией века.» (Дневник Герцена 6 декабря 1843 года
http://az.lib.ru/g/gercen_a_i/text_0400.shtml )
Поэтому проблема была в том, чтобы освободить историческое развитие от теологии, в которую ее окутал Гегель. Но этого можно было достигнуть только ставя на первое место практическое действие, а не теорию.
«Гегель лишь намекнул, а не разработал теорию действия ... Он исследует области духа, он говорит об искусстве и науке, но забывает о действии, которое однако вплетено во все исторические события.» (перевод с английского переводчика)
Из-за своих сомнений Герцен не пытался переработать философию Гегеля, чтобы включить в нее эту новую проблему. Это стало пределом, после которого он уже не был больше настоящим гегельянцем. Вместо того, чтобы пересмотреть диалектику, он увидел ошибку в системе, которая возникла из-за исторического развития Германии, где наука была отделена от жизни, а философия от политики. Но презираемый мир действия отомстил. Это время пришло после смерти Гете и Гегеля. «Сфера практического не нема; когда пришло время она заявила о себе» (Перевод с английского переводчика)
«Буддистами в науке» называл Герцен людей, которые настаивали на созерцании в то время, когда надо было действовать.
«Они цепляются за каждый момент как за истину; какое-нибудь одностороннее определение принимают за все определения предмета; им надобно сентенции, готовые правила; пробравшись до станции, они – смешно доверчивые – полагают всякий раз, что достигли абсолютной цели и располагаются отдыхать.» (из статьи «Буддизм в науке» 1843г. http://az.lib.ru/g/gercen_a_i/text_0174.shtml#DIL04 )
То что осталось у него от философии Гегеля, так это вера в развитие, интерпретация диалектики не как философии истории, а как движение, которое имеет свою собственную ценность. Поэтому позже он говорил: «Эмбриология истории отличается от развития диалектики духа.»
По другому случаю, он описывает философию Гегеля как «алгебру революции».
Эти выводы были поэтому параллельны выводам, к которым пришли в тоже самое время левые гегельянцы в Германии. Герцен приветствовал симптомы политического и социального пробуждения. «Se muove, se muove» , – написал он по-итальянски, читая Deutsche Jahrbucher. «Германия двигается в сторону политической эмансипации.» Но он добавил: «И вот Германия, lancée {бросившаяся (франц.)} в эмансипацию политическую и с своим характером твердой мысли, глубины и притом квиетизма» (из дневников Герцена 15 августа 1842 года http://az.lib.ru/g/gercen_a_i/text_0400.shtml ) Как признак реакции против квиетизма, статья, подписанная французом Жюлем Элизаром, особенно порадовала его. Он еще не знал, что это был псевдоним Бакунина.
Его глубокая политическая страсть, его полное и революционное неприятие всего официального мира Российской Империи, могли отозваться в человеке, который как и он, лично был знаком с ситуацией в России. Превознося страсть разрушения, Бакунин выразил некоторые чувства самого Герцена. Немецкая культура, несмотря на всю ее энергию, уже не удовлетворяла его.
И для того чтобы противостоять немецкому идеализму, Герцен обратился к Франции 18-го века. Хотя Сен-Симон учил его рассматривать этот период как состоящий целиком из негативных и разрушающих сил, он и молодые гегельянцы в Германии заново открыли этот период. «Мы забыли XVIII век … При всем том эта ступень развития чрезвычайно важна и сделала существенную пользу.» ( из дневников Герцена 13 апреля 1842 года http://az.lib.ru/g/gercen_a_i/text_0400.shtml) Это привело его обратно к научным исследованиям – к защите научного метода от Бекона до энциклопедистов и к повторному открытию политической и социальной силы Англии и Франции 18-го века, которую он не мог найти в романтизме и немецкой философии. Он видел в энциклопедистах людей, которые достигли идей, которые мучили его в Вятке, когда он писал: «Мысль без действия – это мечта». Сейчас он чувствовал, что годами он только мечтал. Он обратился к Вольтеру и Дидро как к стимулам к действию и к «реализму», а также к переоценке социалистических идей, которые волновали его в Москве в 1831 году.
Белинский пришел к похожему выводу после своей «абсолютистской» фазы. Как реакция против гегельянства (которая привела его к парадоксальному оправданию царизма), он принял социалистические теории, которые пришли из Парижа в работах Кабе, Фурье, Леру и Прудона. И поэтому от открыл для себя социализм на 10 лет позже Герцена. Но эти десять лет были очень плодотворны для них обоих. Русский социализм 40-х имел твердое основание в философии Гегеля и это придало ему очень специфический характер. Это больше не было романтическим импульсом к палингенезу, а было, или по крайней-мере стремилось быть, поиском философской и политической правды.
Один из истоков этого социализма до 1848 года лежал в интерпретации, многие из авторов интерпретировали гегелевскую философию по-своему. Для Белинского и Бакунина – хотя и по разному – это кажется было объяснение курса индивидуальных человеческих жизней, а не самой истории. «Метафизика разума и воли» как метко назвал это Анненков в своем замечательном эссе «Замечательное десятилетие 1838-1848». Мельчайшие детали частной жизни – любви, ненависти, вкусов, антипатий – казались симптомами и в каком-то смысле откровениями «Идеи». Эта метафизика философии имела очевидный религиозный характер. Частично это было взято из предшествующих русских мыслителей, которые пытались применить к индивидуальным человеческим судьбам сложную мифологию масонства и гностического мистицизма, которые преобладали в русских ложах. В каком-то смысле это был обновленный пиетизм. «Способ понимания целей и задач жизни, ею усвоенный, заключал в себе много фантастичного элемента, но, конечно, стоял неизмеримо выше того грубого способа их представления, который царствовал у большинства современников.» (Анненков «Замечательное десятилетие 1838-1848».) Такое исследование совести, которое было сделано с глазами обращенными к гегелевской «Идее», помогло сформировать интеллектуалов, которые в 40-х принесли первый духовный расцвет после декабристов.
Такое очень личное применение гегельянства привело к важному результату. С некоторыми исключениями (в основном, конечно, защита абсолютизма Белинским и Бакуниным), интеллектуалы хотели отказаться от слов «прекрасные души» и гамлетовских сомнений. Теперь они взглянули на реальность внутри себя. Они пытались пройти духовное обновление и занять позицию независимую от власти в рассмотрении этических отношений интеллектуалов к народу; они не пытались применить философию истории к народам, группам и классам. Короче, они предпочитали «метафизику разума и воли» «метафизике политике», которая была так популярна у левых гегельянцев в Германии и Польше.
Французский социализм начала 19-го века, который очень тесно был связан с проблемам психологии и морали (смотрите например Фурье и Леру), естественно удовлетворял их. Романы Жорж Санд представляют собой связь между французами и русскими. Мы можем проследить ассимиляцию французских утопических идей с ранних обсуждений в группе Белинского в Санкт-Петербурге до кружка Петрашевского. Эти идеи впитались людьми, которые в основном искали правду, которая бы направляла их жизни. Они оставили работу по созданию философии истории, которая должна была включить Россию, славянофилам ( тем самым консервативным последователям немецкой философии).
Хотя Белинский принимал участие в социалистическом движении, он также был настоящим психологом с пророческим прозрением в темы, которые могли содействовать плодотворным дискуссиям среди читателей и расширить интеллектуальную полемику. Как и Бакунин, он полагался на свои инстинкты, защищал творческую страсть, и искал во французском социализме и за его пределами способы развить русскую интеллигенцию. Его современники восхищались серьезностью его работы, безжалостной логикой, которой он подвергал свои идеи, процесс, который во многих других писателях угрожал превратиться в игру или теологические спекуляции. Для него, как говорил Герцен: «Les vérités, les résultats n'étaient ni des abstractions, ni des jeux d'esprit, mais des questions de vie ou de mort».
Но для Герцена социализм означал возвращение к идеям своей молодости, продолжение и критика своего раннего ученичества у Сен-Симона. Опять, как и десять лет назад, он не смог полностью принять французские книги, которые он так жадно читал.
Конечно, сенсимонисты и фурьеристы дали самые важные предсказания будущего, но чего-то не хватало. Фурье, несмотря на колоссальный фундамент, ужасно прозаичен, слишком озабочен мелкими деталями. К счастья, его последователи заменили его работы своими. Последователи Сен-Симона уничтожили своего учителя. Люди останутся апатичными, пока пророчества будут излагаться таким образом. Коммунизм, конечно, ближе к массам, но на данный момент кажется больше отрицанием, штормовое облако заряженное громами, которое как и суд Божий, уничтожит нашу абсурдную социальную систему, если человек не покается.
Под коммунизмом, конечно, Герцен имел в виду наследие Бабефа и швейцарского коммунистического движения возглавляемого Вейтлингом. «Места из его писаний, приведенные комиссией, красноречивы и сильны...слова Вейтлинга иногда поднимаются до апостольской проповеди; прекрасно определяют они свое отношение к либералам. Есть нелепости (например, теория воровства), но есть зато резкая истина.» (из дневников Герцена 4 Ноября 1843 http://az.lib.ru/g/gercen_a_i/text_0400.shtml ) Связь Бакунина с этим движением заставила Герцена еще тщательнее исследовать его. Но предсказаний Вейтлинга было недостаточно.
Коммунизм был проблемой, а не решением. Только в социализме был ответ коммунистическому отрицанию. Поэтому социальный анализ Консидерана сильно интересовал его. Его «Разбор современности превосходен, становится страшно и стыдно.» (из дневников Герцена 17 Июня 1844 http://az.lib.ru/g/gercen_a_i/text_0400.shtml ) Но из всех социалистических писателей, именно Прудон привлек его наибольшее внимание. В своем дневнике он пишет:
«Наконец, я достал брошюру Прудона «О собственности». Прекрасное произведение, не токмо не ниже, но выше того, что говорили и писали о ней. Разумеется, для думавших об этих предметах, для страдавших над подобными социальными вопросами главный тезис его не нов; но развитие превосходно, метко, сильно, остро и проникнуто огнем. Он совершенно отрицает собственность и признает владение индивидуальное, и это не яичный взгляд, а вывод логический и строгий, которым он развивает невозможность, преступность, нелепость права собственности и необходимость владения.» (из дневников Герцена 3 декабря 1844 http://az.lib.ru/g/gercen_a_i/text_0400.shtml )
Годом позже он читает «De la création de l'ordre dans l'humanité» Прудона – «человека, который написал о собственности». Чтение этой книги вернуло ему его основные сомнения во всем современном французском социалистическом движении. Оно ему казалось отдельными фрагментами какой-то будущей социалистической доктрины или собрание материалов какой-то возможной творческой работы, а не системы, которая может противостоять атаке и критике. Его исследование немецкой философии и размышления о Гегеле и Фейербахе ясно показало ему непосредственность – «niaiserie» – в этих французских писателях. «Сквозь это надобно пробиться, надобно это принять за дурную привычку, которую мы терпим в талантливом человеке, и идти далее» (из дневников Герцена 28 февраля 1845
http://az.lib.ru/g/gercen_a_i/text_0400.shtml )
Общие мысли Герцена о французском социализме представляют большой интерес. Начиная с коммунистической традиции и видя в ней отрицание существующего общества, требование, которое было близко сердцам масс, но не являлось решением, он искал ответ в работах тех писателей, которое наиболее полно анализировали общество. Таким образом он все с большей определенностью двигался в сторону прудонизма и начал судить его критически в свете своего собственного опыта и своих собственных философских идей.
Вооруженный этим, он обратил свое внимание на современную ситуацию в России. Он больше не находил возможным продолжать изучать эпоху Петра Великого или продолжать оценивать заново функцию государства в истории цивилизации его страны. Он сконцентрировался все больше на крестьянах и на жизни русских людей.
Они привлекли его внимания из-за планов реформ, которые рассматривались правительством. Правда это были очень осторожные планы, но впервые со времен непримиримой реакции, которая последовала после восстания декабристов, официально рассматривался вопрос крепостничества. У Герцена не было иллюзий. «Замечателен циркуляр министра внутренних дел, объявляющий, что в этом указе (который давно был ожидаем) ничего нового нет, что он относится к желающим и чтоб не смели подразумевать иной смысл, мнимое освобождение крестьян etc., etc. Ne réveillez pas le chat qui dort! {Не будите спящего кота! (франц.).}» (из дневников Герцена 15 апреля 1842 http://az.lib.ru/g/gercen_a_i/text_0400.shtml )
Официальный интерес был только симптомом возрожденного интереса к этой проблеме во всем обществе. Даже движение славянофилов, которое он сначала рассматривал как состоящее в основном из нео-романтиков и пиетистов, сейчас казалось ему важным примером текущей озабоченности. Больше недостаточно было критиковать их религиозную позицию, и видеть в славянофилии просто еще один продукт бесчисленных философий истории. Сейчас, полемика станет гораздо более детальной и более политической. Москва была естественным центром славянофилов, и это был дух Москвы, в противоположность духу Санкт-Петербурга, который они желали представлять. Герцен жил и работал в их столице и там установились те сложные отношения из любви и ненависти, противодействия и поддержки, которые в различных формах продолжались через всю его жизнь и которые в конце концов привели его к народничеству.
Движение славянофилов было симптомом политического возрождения, главным образом потому что оно пыталось придать содержание и смысл народности, которая была одним из лозунгов правления Николая I. Само слово народ, означающее одновременно и 'людей' и 'нацию' (как и немецкое слово Volk), было взято из Volkstum, и имело похожую политическую интонацию, реакцию против французской революции, против последовавших национальных и в то же время либеральных движений. В это время, то есть в 1843 году, Уваров, министр народного просвещения при Николае I, провозгласил официальную троицу самодержавия православия и народности, естественный синтез которых, как заявлялось, лежал в первом из них – самодержавии. Поэтому абсолютистская система нашла необходимым связать себя с христианством и национализмом, как-будто ища законное основание в религии и народе.
За такой маскировкой лучше было любоваться издалека. Эта была типичная директива деспотизма, большая опасность и из-за тех, кто отверг ее, и из-за тех, кто воспринял ее серьезно и пытался дать ей полезный смысл, именно то, что стремились сделать славянофилы. Они хотели использовать настроение, чтобы вернуть церковь к жизни и почувствовать себя ближе к русскому народу – к крестьянам и народной традиции, как отличной от государства. Они возвышали патриархальную форму жизни и отвергали современную систему, которая была менее национальна по своему характеру.
Но, как заметил Герцен, «правительство подыскивается и приготовляет ловушки славянофилам. Оно само поставило знаменем народность, но оно и тут не позволяет идти дальше себя: о чем бы ни думали, как бы ни думали – нехорошо.» ( Из дневников Герцена 14 января 1843 http://az.lib.ru/g/gercen_a_i/text_0400.shtml) Герцен искал за границами фанатизма и эклектичных и реакционных свойств славянофильского движения, которые даже в эти дни он не уставал подчеркивать; и за пределами официальных лозунгов. Он искал живую силу, которая вдохновила эти идеи.
Он уважал личностные характеристики некоторых славянофильских писателей. Он считал Аксакова, Хомякова, Киреевского и Самарина людьми, которые искренне ищут правду и верят, что нашли ее. Не только из уважения к ним как к личностям, но прежде всего, из-за того деликатного уважения, которое так часто вдохновляло его суждения. «Таких людей нельзя не уважать, хотя бы с ними и был диаметрально противуположен в воззрении» ( Из дневников Герцена 23 ноября 1842 http://az.lib.ru/g/gercen_a_i/text_0400.shtml )