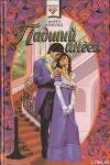Текст книги "Стражники Иерусалима"
Автор книги: Франциска Вульф
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 23 страниц)
– Стефано, что с тобой? – Голос отца Джакомо вывел его из раздумий. – Ты стоишь в оцепенении, и у тебя такие глаза, будто тебе только что явился ангел-провозвестник. Еще немного – и ты падешь на колени прямо на улице.
Под ироническим взглядом отца Джакомо щеки Стефано покрылись легким румянцем.
– Простите, святой отец, но...
– Хорошо, хорошо, сын мой. – Отец Джакомо потрепал его по плечу. – Я могу тебя понять. Ты еще молод. Но лучше прибереги свое благоговение и изумление до того момента, когда мы окажемся у Гроба Господня. Все это, – он обвел руками оставшиеся позади городские стены и ворота, убегавшую вперед узкую улочку и дома вокруг, – все это не более чем творение рук человеческих. И может быть так же легко разрушено, как и было построено. В то время как творения Господа нашего Иисуса Христа останутся в вечности. Пойдем, Стефано, продолжим наш путь.
Они шли по извилистому лабиринту улиц, проходили сквозь небольшие арки, пересекали площади и оказывались в переулочках, настолько узких, что плечи Стефано задевали стены домов справа и слева. Наконец улица стала немного шире. Они вышли к колоннаде, за ней открывалась площадь, на фронтальной стороне которой возвышалось большое здание.
– Вот мы и у цели, – с улыбкой возвестил отец Джакомо, вышагивая дальше. – Через несколько мгновений мы будем стоять у Гроба Господня.
Стефано замер в недоверчивом удивлении. Разве отец Джакомо не говорил ему, что сам впервые находится в Иерусалиме? И при этом нашел верный путь, пройдя через весь запутанный лабиринт улиц и переулков и ни разу не спросив дорогу? Нашел правильный путь с уверенностью и безошибочностью почтового голубя. Или это Господь вел его? Может, перед ними летел ангел, которого Стефано не видел лишь потому, что недостаточно крепка была его вера?
– Ну идем же, Стефано! – позвал отец Джакомо, уже почти достигший большой двустворчатой двери храма. – Иди же наконец!
От волнения у Стефано подступил комок к горлу. Со всей прытью, на которую был способен, он бросился догонять отца Джакомо.
Левая створка дверей была открыта. Медленно и степенно вошли они в притвор церкви. Свет, падавший через приоткрытую дверь и высокие узкие окна, скупо освещал притвор, все остальное пространство было погружено в темноту. И было тихо. Настолько тихо, что собственное дыхание казалось Стефано громким, как сопение разъяренного быка. Похоже, никого кроме них внутри не было. Тем сильнее он испугался, когда к ним вдруг подошел какой-то мужчина, словно возникший из небытия.
– Добро пожаловать в храм Гроба Господня, путники, – произнес он. На нем был головной убор, который Стефано до того видел только у мусульман. Мусульманским было и его одеяние, к тому же у него была волнистая борода, достававшая ему до самой груди. Он потер руки, как человек, в лавку которого они вошли и который предвкушает выгодную торговлю. Что ему было здесь надо?
– Добрый день, – ответил отец Джакомо и, нахмурившись, осмотрел араба с головы до ног. – Кто вы?
– Меня зовут Али аль-Нусейбек. – Тот вежливо поклонился. – Я привратник этого места паломничества христиан. Если вы желаете войти сюда, я вынужден просить вас о подобающей мзде.
Он улыбнулся и протянул им раскрытую ладонь. При этом он меньше всего походил на нищего, одежда его была чистой и отменного качества.
– Кто, ради всех небесных ангелов, дает тебе право?..
– Этим правом, паломник, и связанной с ним обязанностью блюсти сей храм моя семья обладает вот уже более двухсот лет, – парировал араб. – И каждый христианин обязан подчиняться. Или же покинуть это место.
Отец Джакомо с силой ударил посохом по полу. Дерево скрипнуло, еще немного – и палка бы раскололась. И все же паломник подчинился требованию, достал из небольшого кожаного кошелька несколько монет.
– Ну что ж, – произнес он, и Стефано в который раз удивился, как его учитель мог оставаться таким спокойным и любезным. Сам он пришел в ужас от дерзости привратника. – Ну что ж, отдадим султану султаново. Тридцать сребреников подошли бы лучше, но, к сожалению, у меня есть только пять.
Нусейбек рассмеялся и взял протянутые монеты. Потом поклонился и отступил на шаг в сторону.
– Прошу вас, благородные пилигримы, – насмешливо проговорил он. – Вы можете оставаться здесь так долго, как вам будет угодно. Правда, перед заходом солнца я запру дверь. Если вы не хотите провести здесь ночь, вам надлежит вовремя покинуть храм.
Он вернулся в свою нишу, уютно убранную подушками и шкурами, тут же стоял небольшой стол. Складывалось впечатление, что он и живет здесь.
Отец Джакомо стиснул зубы так, что Стефано даже услышал их скрежет. Кровь отлила от его лица. Таким взбешенным Стефано еще никогда не видел своего учителя.
– Эти наследники вельзевула требуют деньги, – прошипел он, клокоча от негодования. – Они берут с нас деньги за то, чтобы мы могли помолиться на том месте, где был погребен наш Господь и где воскрес. – Его била дрожь. – О, эти исчадия ада! Эти мерзостные сатанинские отродья! Но все изменится. Клянусь Господом и всеми святыми, что этому придет конец. Скоро все изменится, очень скоро.
Они прошли через несколько капелл и боковых нефов, поднялись и спустились по ступенькам. Стефано был рад, что рядом с ним шагал отец Джакомо, один он никогда бы не выбрался из этого лабиринта часовен, алтарей и колоннад. За всю свою жизнь он ни разу не был в таком запутанном храме. Ему казалось, что это была не одна церковь, а несколько пристроенных друг к другу капелл. И если сейчас здесь находились другие паломники-христиане, то они могли оставаться незамеченными в этом необозримом хаосе.
На своем пути они не встретили ни одной души. Оправившись наконец от испуга, вызванного дерзким поведением привратника и причудливым строением храма, Стефано даже начал наслаждаться тишиной и одиночеством. Это было истинное блаженство по сравнению с лихорадочной восточной толчеей перед вратами храма, где сновали животные и люди и где царила полная неразбериха и звучало больше языков, чем после падения Вавилонской башни.
И вот – наконец! – они дошли до цели. Меж других капелл и алтарей перед ними показалось маленькое скромное строение – ротонда Гроба Господня.
– Гроб нашего Господа, – благоговейно прошептал отец Джакомо и натянул на голову капюшон. – Покрой и ты голову, Стефано, чтобы оказать подобающую честь Господу.
Они вступили под своды ротонды, в центре которой находился камень. Это был простой серый валун, словно оставленный здесь каменотесом.
– Это тот самый камень, на котором сидел ангел, – пояснил отец Джакомо и стал цитировать слова Евангелия от Матфея: – «Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь: Он воскрес, как сказал. Подойдите, посмотрите место, где лежал Господь». – Голос патера пресекся. Затем он дрожащей рукой коснулся камня и погладил его, словно это был не холодный обломок скалы, а волосы любимого человека. Затем положил руку на плечо своего молодого спутника. – Пойдем, сын мой. Давай, подобно женщинам в Священном Писании, осмотрим место, где лежал Господь.
Медленно, шаркая по плитам, они подошли к узкому проходу. Им пришлось пригнуться, чтобы попасть внутрь гробницы. Повсюду горели свечи, десятки, сотни свечей: они стояли в нишах и на карнизе, опоясывавшем весь небольшой склеп. Прямоугольная каменная глыба, напоминавшая саркофаг, была накрыта белым полотном. Была ли то плащаница, которой Иосиф из Аримафеи обвил тело Иисусово? Охваченный внутренним трепетом, Стефано преклонил колена. Выросший в монастыре среди монахов и священников, он, сколько помнил себя, каждодневно посещал мессу. Молился, постился и так часто слышал слова из Библии, что выучил наизусть многие главы и псалмы. И все же никогда еще он не чувствовал себя ближе к Господу Иисусу Христу, чем здесь, в этой маленькой, скромной, безыскусной ротонде, освещенной множеством свечей.
Юноша не мог бы сказать, как долго он молился, стоя на коленях. Он очнулся лишь, когда чья-то рука опустилась на его плечо. Юноша изумленно посмотрел на отца Джакомо, преклонившего колена рядом с ним и теперь с трудом поднимавшегося с холодных плит. У Стефано тоже затекли ноги, он едва смог встать. Оба паломника не проронили ни слова. И только очутившись снова на храмовой площади, залитой солнечным светом, и окунувшись в городской шум, они вернулись в реальный суетный мир, и благоговейное оцепенение постепенно отпустило их.
– Жалкие глупцы! – произнес отец Джакомо. Голос его все еще дрожал. Впрочем, на сей раз Стефано отчетливо уловил и гневные нотки. – Ходят по святым камням, которых касались ноги Господа нашего, и не верят, что Иисус Христос – Сын Божий, посланный на землю, чтобы спасти людское племя от греха и смерти. – Он горестно покачал головой и тихо продолжил: – Для этих безбожников спасенья нет. Такая глупость, такое невежество и высокомерие должны быть наказаны.
– Что будем делать дальше, святой отец? Еды у нас почти не осталось. А наши деньги вы отдали человеку в храме. Как мы будем...
– Нас насытит Господь, как жаворонков в поле, – спокойно прервал юношу Джакомо. – Не волнуйся, сын мой. Сначала нам следует приискать себе прибежище в каком-нибудь христианском доме. А уж потом приступим к исполнению своей миссии. Для начала хватит и дома тех, кто приютит нас, когда мы созовем истинно верующих, дабы помолиться вместе с ними и преломить хлеб. Но вскоре нам понадобится более просторное место для собраний, оно должно быть потаенным, дабы мы могли встретиться там под покровом тайны с теми братьями и сестрами по вере, в душах которых наше послание зажжет ответную искру и упадет на благодатную почву.
– Под покровом тайны? Но я думал...
– Только вначале, сын мой, – перебил его отец Джакомо и обнял юношу за плечи. – Поначалу нам придется держать все в секрете, прежде чем мы сможем вступить в бой. В этом мире у нас много врагов. И я имею в виду не только безбожных мусульман с их янычарами. Это иудеи, руки которых обагрены кровью нашего Господа. Но недоброжелателей мы можем встретить и среди христиан. Они будут выслеживать нас, охотиться за нами, попытаются схватить нас, ибо мы наводим на них страх. Они боятся нас и нашей миссии, означающей конец их собственного владычества здесь. И все они не будут безучастно наблюдать за тем, как мы будем изгонять их из города.
Стефано содрогнулся. Только сейчас он осознал, что на всем пути в Иерусалим он ни разу не задумался о сути той миссии, о которой непрестанно толковал отец Джакомо. Теперь же, когда они прибыли в Иерусалим и он впервые осознал это, ему стало страшно. Отец Джакомо говорил о предстоящей битве. И какое бы оружие ни было пущено в ход – слово иль дело, все равно опасность подстерегала их в этом городе, порабощенном Османами. Сердце юноши сжалось, и он испытал сильное желание очутиться в маленьком монастыре в Умбрии, который был ему как дом родной.
– Но...
– Не переживай, сын мой. – Отец Джакомо ласково потрепал его по волосам и засмеялся. – Не забывай, что сам Господь простер над нами свою охраняющую длань. Он проведет нас через все опасности, Он пошлет своих ангелов с карающим мечом, дабы мы смогли очистить путь Ему.
Стефано покраснел. Отец Джакомо говорил с такой твердостью, вера его была настолько сильна, что юноша устыдился своей внезапной трусости. И все же крохи сомнения, зародившись, не покинули его душу.
– Пойдем, сын мой. – Отец Джакомо покрепче сжал свой посох. – Пошли. Господь в своей безграничной милости приведет нас к нужному дому, где мы сможем переночевать.
«Что я здесь делаю? – вопрошал себя Стефано, глядя вслед отцу Джакомо, большими шагами пересекавшему площадь. – Неужели я действительно хочу изгнать всех этих людей из их города? В конце концов, это их родина, это мы здесь чужие. Зачем я здесь? Какая у меня миссия?»
– Служи Господу!
Стефано вздрогнул и резко обернулся. Послышался ли ему этот голос или кто-то действительно произнес эти слова? А может, он звучал лишь в его голове, этот звонкий, добрый голос? Юноша шумно выдохнул воздух, озноб пробежал по его коже. Неужели... неужели это был голос ангела, обратившегося к нему? «Служи Господу!» – произнес голос. Служи Господу. Но как?
Отец Джакомо уже дошел до колоннады. Сколько Стефано помнил себя, он никогда не разлучался с учителем. От него он научился всему, что знал. Отец Джакомо наставлял его в вере, по его требованию юноша торжественно присягнул ордену. Служи Господу. Стефано не знал лучшего места, где он мог бы выполнить завет голоса, чем возле отца Джакомо. Да, это и была его миссия. Вместе с наставником он расчистит путь Господу и устранит все препятствия. Даже если при этом ему будет грозить опасность.
Стефано перекинул через плечо свой мешок с остатками скромной трапезы и побежал догонять учителя.
II
Взгляды шута
Раздался звонок.
Ансельмо с трудом разлепил глаза и в замешательстве огляделся по сторонам. Ему приснилось, что он был на базаре. Не на одном из тех рынков, которые нынче встречаются на каждом шагу во Флоренции, рынков, где ливийцы, тунисцы и чернокожие африканцы во всю глотку предлагают разложенные на шатких столах и пропыленных шерстяных одеялах одежду, ткани, обувь, сумки и солнечные очки – дешевый товар, срок службы которого едва ли дотянет до захода солнца. Нет, он был на базаре, знакомом ему еще по детским и юношеским воспоминаниям.
На базаре, где соблазнительно пахло копченостями, острым сыром, горячими колбасками и хрустящим хлебом, где торговцы наперебой расхваливали ценные ткани и изысканные пряности из невообразимо далекой Индии, а фокусники в пестрых одеждах за пару медных монет демонстрировали свои трюки. Во сне он видел себя в костюме Арлекина и делал то, что умел делать лучше всего. Веселил бедняков своими острыми шутками, выискивая при этом более крупную добычу, которую он мог бы освободить от тяжкого бремени набитого кошелька.
Снова позвонили. Ансельмо протер глаза, чтобы окончательно прогнать сон и вернуться в реальную жизнь. Увы, здесь над ним не вздымался купол бледно-голубого летнего флорентийского неба и отнюдь не пахло ароматными колбасами, салом и хрустящим хлебом. В нос ударил запах стирального порошка и ополаскивателя. Он уставился на выкрашенный в бежевый цвет потолок с десятком встроенных галогеновых светильников. Приходится расставаться со своими грезами: он был не на базаре. Он был...
– Дома, – тихо произнес он, удивившись, какой странный привкус оставило на его языке это слово. Пресное и пропыленное, словно неумелая ложь, слепленная дилетантом.
Снова прозвенел звонок, на сей раз уже гораздо настойчивей. Это был вполне мелодичный дверной гонг, который не шел ни в какое сравнение со звонком, висевшим раньше в палаццо Козимо. Тот был таким громким, что Ансельмо, услышав его, всякий раз вылетал из кровати, когда утренний посетитель дергал за шнурок. Но сегодня звук отозвался в его ушах отвратительным, визгливым треньканьем. И кто бы ни был тот человек, стоявший внизу и жаждавший войти, он с каждой минутой становился все нетерпеливее. Ансельмо спрыгнул с софы, на которой заснул. Широкая, мягкая, она все еще не отпускала юношу из царства сновидений. Но все же пришлось покинуть постель...
Он сбежал вниз по лестнице, увидел сквозь узкое матовое стекло посреди входной двери чей-то силуэт. Ансельмо отпер дверь. За нею стояла молодая женщина.
– О, кто-то все же здесь есть, – пробормотала она, пряча шариковую ручку в карман брюк и потянувшись к большой картонной коробке, полной писем, стоявшей перед ней. – А я уж хотела...
Она подняла глаза, и щеки ее запылали. Ансельмо стряхнул с себя остатки сна, окинул себя взглядом, чтобы проверить, не был ли он и в самом деле в костюме Арлекина. Но нет, на нем были обычные джинсы и футболка. Правда, он не успел обуться, но в хождении дома босиком наверняка не было ничего предосудительного. Однако девушка почему-то продолжала удивленно пялиться на него, словно никак не ожидала встретить здесь именно его.
– Добрый день, – сказал Ансельмо первое, что пришло на ум.
– Да, э... добрый день, – пролепетала девушка. На вид ей было лет двадцать, от силы двадцать два. Молодая, бесцветная и почему-то очень нервная. – Я только хотела... – Она смущенно убрала темную прядь с лица.
– Почта? – пришел ей на помощь Ансельмо и попробовал робко улыбнуться. Иногда это выручало. – Вы, наверное, принесли нам почту? А где Луиджи? – Луиджи был любезный пожилой человек, вот уже более двадцати лет каждый день забиравший почту из арендованного ящика и приносивший ее семейству Козимо. Никто, кроме него, не знал, какой адрес скрывался за пятизначным номером абонентного почтового ящика. За эти услуги Луиджи платили почти по-королевски – скорее, впрочем, за его молчание, нежели за саму работу. – А вы кто?
– О да, разумеется! – Почтальонша захихикала, как робкий подросток. – Я... воспаление легких. Ой, я хотела сказать, Луиджи – моя внучка... э... – Она смешалась и вновь покраснела так, что Ансельмо испугался, как бы не пришлось вызывать врача. Девушка сделала глубокий вздох. – Мой дедушка Луиджи заболел. Воспалением легких. Я должна вам сегодня доставить почту. – Она говорила так торопливо, словно боялась забыть слова, если чуть замешкается. Потом она подняла коробку, сунула ее Ансельмо в руки и развернулась так резко, что он в испуге отскочил на шаг назад.
– До свидания. Привет вашему дедушке, пусть выздоравливает! – крикнул он ей вдогонку. Девушка сбежала по ступенькам, вскочила на свой велосипед и стремительно помчалась к воротам, будто опасалась, что парень передумает и бросится за ней с топором.
Покачав головой, Ансельмо запер дверь. На короткое мгновение его лицо отразилось в матовом стекле – гладкое лицо молодого человека лет двадцати с небольшим. Он не принадлежал к числу тех мужчин, которые часами не могли оторваться от своего отражения в зеркале. И поскольку Козимо уже много лет назад изгнал все зеркала из своего дома, такая возможность ему представлялась нечасто. Однако иногда, случайно увидев свое отражение в витрине или зеркале бутика, он удивлялся, что выглядит так же, как и раньше. Как тогда, когда в костюме паяца кривлялся на базарах Флоренции и воровал у богатых горожан кошельки из карманов.
«Давно это было, – подумал Ансельмо, задумчиво потирая гладкий подбородок. – Пятьсот лет – чертовски длинный срок».
Поставив коробку на стол в холле, он открыл ее. Как он и предполагал, она до краев была наполнена письмами, адресованными синьору Козимо Медичи. Ансельмо вынул парочку дорогих конвертов и внимательно рассмотрел их. Скорее всего, это были обычные письма гостей, желавших поблагодарить хозяина за удавшийся праздник в субботу вечером. Ансельмо грустно вздохнул. Когда Козимо устраивал в палаццо маскарады, потом в течение нескольких дней им носили в дом письма мешками. И поскольку Козимо после такого праздника неизменно впадал в тяжелую меланхолию и депрессию и не удостаивал бесчисленные благодарственные письма ни единым взглядом, то отвечать на каждое письмо в отдельности всегда приходилось Ансельмо. Раньше, много-много лет назад, Ансельмо так гордился своим умением писать, что с необычайным рвением хватался за каждое письмо, ответить на которое его просил Козимо. С тех пор искусство сочинять ответы давно утратило для него прелесть новизны. Это была скучная, рутинная обязанность, отнимавшая уйму времени, от выполнения которой он отказался бы с величайшей охотой.
«Даже если он и не взглянет на них, я все же покажу ему почту, – решил Ансельмо, сложил письма обратно в коробку и подхватил ее под мышку. – Быть может, это развлечет его».
Ансельмо застал Козимо в библиотеке. Он сидел у окна в своем любимом кресле и смотрел на улицу. Отсюда открывался фантастический вид на флорентийские крыши. Эта панорама уже привела в полный восторг не одного художника и фотографа из числа друзей и вдохновила их на чудесные работы. Впрочем, Ансельмо мог бы держать пари, что в эти моменты Козимо не любовался современным городом – во всяком случае, в том виде, в каком представала Флоренция людям XXI века.
Козимо сидел в кресле неподвижным изваянием и неотрывно смотрел в окно. В руках он держал фарфоровую чашку – изящный предмет, готовый, казалось, разлететься вдребезги от одного лишь взгляда, в действительности, однако, оказавшийся почти пугающе прочным. Ансельмо тут же узнал чашку и ощутил, как у него на затылке волосы встали дыбом. Он ненавидел эту чашку из китайского чайного сервиза эпохи династии Мин. Остальные чашечки и такой же чайник стояли на подносе эбенового дерева на расстоянии вытянутой руки от Козимо, словно тот опасался, что кто-то может забрать их. На аукционах такие безупречно сохранившиеся изделия достигали едва ли не астрономических цифр. Ансельмо неоднократно пытался уговорить Козимо продать наконец сервиз, но все было напрасно. Тот же всегда парировал, что с этим сервизом связано слишком много воспоминаний. Воспоминаний чересчур дорогих, чтобы их можно было обменять на деньги.
Дорогие воспоминания. Ансельмо стиснул зубы. В голове не укладывалось, почему Козимо снова и снова по доброй воле предавался этим мукам, почему не хотел просто расстаться с фарфором и все забыть.
Сервиз был в некотором роде одним из последних сохранившихся современников славной династии. От всесильных китайских императоров, с иероглифами их имен на фарфоре, не осталось ничего, кроме сочинений историков. Точно так же, как от флорентийской фамилии Медичи, по заказу которой ровно пятьсот лет назад китайский фарфор был доставлен в Европу весьма авантюрным способом. Все они превратились в пыль и прах, погребены и забыты.
Ансельмо мечтал, чтобы и сервиз разделил наконец судьбу своих бывших владельцев. Ему уже не раз приходила в голову шальная мысль подкупить горничную, чтобы она во время уборки «по неосмотрительности» опрокинула поднос, однако он не посмел. Подозрение Козимо сразу бы пало на него, а на этом свете Ансельмо больше всего боялся гнева синьора. Если уж он не мог разбить этот злосчастный сервиз, то его следовало бы по крайней мере отдать под надзор какого-нибудь музея. Или в руки коллекционера, который не страдал бы от мучительных воспоминаний, рассматривая каждую трещинку на чашках.
– Ансельмо, – вдруг произнес Козимо, не отрываясь от панорамы города, – налей себе тоже чашку чаю. Ты пришел, чтобы попытаться вывести меня из меланхолии?
– Я знал, что найду тебя здесь. – Ансельмо порывисто подошел к креслу и налил себе из чайника в одну из тонких чашек ароматный напиток. Жасминовый чай. Еще один признак депрессивного настроения Козимо. Этот чай он пил исключительно в состоянии уныния и тоски. – Ты ведь любишь это место у окна, откуда открывается дивный вид на город.
– Да. И еще люблю это удобное кресло. Оно гораздо удобнее, чем все стулья, которые у нас были раньше. Я глубоко погружаюсь в него и чувствую себя таким же защищенным, как во чреве матери.
Он замолчал, чтобы сделать глоток из чашки, и Ансельмо быстро взглянул на него. На лице Козимо промелькнула улыбка, хотя и мимолетная и едва уловимая, однако Ансельмо почувствовал облегчение. Эта улыбка означала свет в конце туннеля. Быть может, на сей раз меланхолия не так цепко держала его в своих лапах.
– Скажи, Ансельмо, ты тоже видишь крыши такими, какими они были когда-то? Ты слышишь громыхание повозок на улицах, ощущаешь запах нечистот, притягивающий к себе крыс в переулках? – Он закрыл глаза и потянул носом, будто и в самом деле почувствовал тот средневековый запах.
Ансельмо передернуло. Некоторых вещей из далекого прошлого недоставало даже ему, но зловоние, исходившее от отходов, медленно гниющих в сточных канавах, явно не относилось к их числу. Однако он промолчал. Столетия, прошедшие с тех пор, многое преобразили. Быть может, кто-то мог тосковать даже по гнили и разложению, если ему не приходилось жить среди этого.
– За эти века многое переменилось, Ансельмо. Почтенные семейства исчезли. Многие палаццо, в которых я когда-то бывал в гостях, уже давно снесены либо так перестроены, что их невозможно узнать. Целые кварталы тоже неузнаваемо изменились. Город разросся. Там, где раньше стояли хижины ткачей, теперь под своды вокзала въезжают поезда. А там, где пасли наш скот, нынче высятся небоскребы.
Ансельмо пожал плечами:
– Ну и что? В конце концов мир преображается и развивается. Многое из того, что нас окружало, вряд ли достойно сожаления. А кое-что осталось неизменным, – произнес он с улыбкой. – Вот, к примеру, собор Санта-Мария дель Фьоре. И другие церкви. Понте Веккьо – Старый мост. Даже многие из старых зданий сохранились и стоят по-прежнему. Вспомни палаццо Медичи-Риккарди. Оно...
– Теперь там музей, – раздраженно перебил его Козимо. – Другие дома и церкви из тех, что ты упомянул, тоже постоянно перестраиваются. Инженеры-строители и реставраторы должны охранять и лелеять их, чтобы они не пришли в упадок. – Он горестно вздохнул. – Иногда я чувствую себя таким же домом. Пусть фасад покрашен заново, но все нутро, сердце – старое и прогнившее, изъедено плесенью и червями-древоточцами, жалкие остатки давно забытой эпохи. – Он медленно покачал головой. – Нет, Ансельмо, человек воистину не создан для вечности.
Ансельмо глубоко вздохнул и ничего не ответил. Тут он был полностью согласен с Козимо. Жизнь человека не задумана длиться вечно. Но какой смысл терзаться из-за этого? У них не было другого выбора, кроме как признать вечность. По крайней мере, пока еще не было.
Козимо задумчиво повертел чашку в руках и провел указательным пальцем по искусно выполненной глазури.
– Этот сервиз принадлежал одной из моих племянниц, может, ты еще помнишь ее. – Ансельмо кивнул. Как он мог ее забыть? – Я прекрасно помню, при каких обстоятельствах она получила в подарок этот сервиз. Ей тогда исполнилось пятьдесят. Перед моими глазами до сих пор стоят ее надутые от чрезмерных восторгов губы и сияющие от радости глаза. Как же она любила этот сервиз! Она так привязалась к нему, что даже на смертном одре попросила камеристку поставить его рядом на подносе, чтобы в последний раз полюбоваться им. Сколько ей было лет, когда она умерла? Восемьдесят три? Или восемьдесят пять?
– Восемьдесят шесть.
Козимо отпил еще глоток и с досадой покачал головой:
– А я забыл. Честно говоря, я не могу даже вспомнить ее имя.
– Это не мудрено, Козимо. Ведь столько лет прошло...
– Не только в этом причина, Ансельмо. На протяжении всех этих лет я вырастил и похоронил такое количество племянниц, в том числе внучатых и правнучатых, что едва могу отличить одну от другой. С годами их становилось все меньше. И под конец я остался один. Последний из когда-то славного рода Медичи. Некоторых представителей моей фамилии историки хотя бы удостоили пары строк упоминания в энциклопедиях. А все остальные, среди них и Франческа, превратились в пыль... и горстку отрывочных воспоминаний, застрявших в мозгу преданного проклятию, которому, по сути, уже давно нечего делать на этом свете.
– Козимо, это...
Не желая слушать, Козимо отмахнулся и принялся нежно поглаживать чашку. Он ласкал фарфор, словно живое существо, и на его лице отражалась боль, которую он явственно испытывал при этом.
– Просто их было слишком много, Ансельмо. Слишком многих я пережил за все эти годы. – Он вздохнул. – Когда они были живы, я не очень-то ценил большинство из них. Хочешь, я открою тебе одну странную вещь? С каждым днем, прошедшим со дня их смерти, я все больше грущу о них. Мне недостает их общества, когда-то нагонявшего на меня страшную тоску. Я тоскую даже по их узколобости и непроходимой глупости, по их скучным разговорам, которые всегда вертелись исключительно вокруг денег и их эффективного приумножения. Теперь их нет, все давно превратились в прах. И мое место там, я должен быть среди них. Нам обоим пора быть среди них.
Ансельмо стиснул зубы и сжал кулаки. Огромным усилием воли он подавил в себе желание выбить у Козимо из рук чашку и вместе со всем остальным сервизом превратить ее в груду осколков. Однако ему удалось сдержать себя. Вместо этого он осторожно взял чашку у Козимо и присел на корточки перед креслом, чтобы тот мог видеть его лицо, не поднимая глаз.
– Козимо, ты не должен допускать, чтобы хандра и мрак завладели твоим разумом и сердцем. Это всего лишь минутный каприз, который посещает тебя каждый год, печальный отголосок празднества. И это пройдет, как уже проходило много раз. Тебе всего лишь не нужно противиться этому.
Козимо посмотрел на него. Взгляд его был так безутешен и безнадежен, что у Ансельмо комок подступил к горлу.
– Быть может, ты и прав, Ансельмо. Но я устал, – он протер глаза, – безумно устал. Я мечтаю о тишине и прохладе, о покое и безмолвии склепа. Не знаю, сможешь ли ты меня понять. Не знаю...
Ансельмо выпрямился. Разумеется, он мог понять Козимо. Несмотря ни на что. Хотя его собственная жизнь была далеко не безоблачной, ему часто приходилось переживать тяжелые времена. Целую неделю он как-то был прикован к позорному столбу за то, что его поймали на воровстве. Однажды его приемные отцы до полусмерти отдубасили его за то, что принесенная им краденая добыча была меньше, чем они ожидали. Бывали дни, когда он от голода не держался на ногах, а его внутренности сморщивались в болезненный комок. Но он не унывал и не сдавался. Он боролся, пока не вырос и не пошел собственной дорогой. Стал вором, не зависевшим ни от кого, кроме самого себя. И он вовсе не собирался сдаваться теперь. Все они – его приемные папаши, безжалостные судьи, жирные купцы, предпочитавшие выбрасывать остатки пищи в канаву, нежели накормить голодных нищих под своей дверью, – все они сгинули и истлели. А он жил. Сейчас. Здесь. Прошлое было позади. И только настоящее что-то значило. Только дни, которые им еще предстояло прожить, независимо от того, сколько их осталось.
– Я полагаю, что до осуществления твоей мечты ждать осталось не так уж долго, – произнес он с твердым намерением вытащить Козимо из той глубокой пропасти, в которую тот загонял себя. – Ведь синьорина Анна была здесь. Она была в субботу на балу, и ты разговаривал с ней. Дело сдвинулось с мертвой точки.
– Да, Ансельмо, дело действительно сдвинулось с места. Наконец-то. Однако я не знаю, когда снова увижу ее. Когда смогу отправить в следующее путешествие. И тем более не знаю, когда ей удастся добыть для нас противоядие. Быть может, это произойдет через десять недель. Или даже быстрее. Но с таким же успехом это может длиться десять лет. А то и дольше.