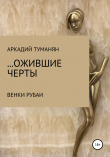Текст книги "Автобиографическая проза"
Автор книги: Франческо Петрарка
Жанр:
Прочая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 10 страниц)
Франциск
Против этого я не спорю, но нас сбивает с пути то, что мы упрямо держимся стародавних мнений и с трудом отрываемся от них.
Августин
Если бы ты так же здраво судил обо всем вопросе любви, как ты судишь об этом предмете!
Франциск
Коротко сказать, мое мнение кажется мне столь правильным, что тех, кто держится противного взгляда, я положительно считаю безумцами.
{155}
Августин
Застарелую ложь принимать за истину, а истину, дознанную недавно, считать ложью, то есть ставить существо дела исключительно в зависимость от времени есть верх безумия.
Франциск
Твои усилия тщетны, я ничему не поверю. Мне приходит на мысль изречение Туллия:
"Если я заблуждаюсь в этом, то заблуждаюсь охотно и не хотел бы, чтобы меня лишили этого заблуждения, пока я жив".
Августин
Он употребил эти слова, говоря о бессмертии души, что есть прекраснейшее из всех убеждений, и желал ими выразить, что на этот счет у него нет никаких сомнений и что противоположных мнений он не желает и слушать; ты же незаконно пользуешься его словами, защищая гнусное и в высшей степени ложное мнение. В самом деле, будь душа смертна, было бы все-таки лучше признавать ее бессмертною, и эта ошибка должна была бы считаться спасительной, так как она вселяла бы любовь к добродетели, к которой следует стремиться ради нее самой, хотя бы отнята была всякая надежда на награду; а если {156} бы душа была признана смертною, стремление к добродетели, несомненно, ослабело бы; и, наоборот, обетование будущей жизни, хотя бы ложное, по-видимому, весьма пригодно для того, чтобы подстрекать души смертных. А какие плоды принесет тебе это твое заблуждение,– ты увидишь; оно ввергнет твою душу во все безумия, где исчезнут и стыд, и страх, и разум, укрощающий неистовство страстей, и познание истины.
Франциск
Я уже сказал тебе, – твои старания тщетны; я твердо помню, что никогда не любил ничего постыдного, а любил только прекраснейшее.
Августин
Известно, что можно и прекрасное любить постыдно.
Франциск
Я не погрешил ни в существительных, ни в наречиях, поэтому перестань уж теснить меня.
Августин
Что ж ты хочешь, подобно буйным сумасшедшим, испустить дух среди шуток и смеха? Или ты предпочтешь подать какое-нибудь лекарство твоей, жалости достойной, больной душе?
{157}
Франциск
Я не отвергаю лекарства, если ты докажешь, что я болен; а здоровым усиленный прием лекарств часто бывает пагубен.
А в г у с т и н
Когда ты начнешь выздоравливать, ты сам, как это бывает со многими, признаешь, что был тяжело болен.
Франциск
В конце концов, я не могу отказать в уважении тому, чьи мудрые советы я и раньше не раз, и особенно в эти последние дни, изведал на деле. Итак, продолжай.
Августин
Прежде всего прошу тебя простить мне, если, принуждаемый существом дела, я, может быть, несколько резко буду нападать на предметы, обожаемые тобою, ибо я заранее предвижу, как неприятно будет звучать истина для твоих ушей.
Франциск
Повремени минуту, прежде чем начнешь: знаешь ли ты, о чем тебе предстоит говорить?
{158}
Августин
Я тщательно обдумал все заранее; речь наша будет о смертной женщине, на обожание и угождение которой ты потратил большую часть твоей жизни. Я сожалею об этом и сильно дивлюсь столь глубокому и долговременному безумию в человеке такого ума.
Франциск
Останови свою бранную речь, прошу тебя. Смертными женщинами были и Фаида и Ливия. Притом известно ли тебе, что ты заговорил о женщине, чей дух, чуждый земных забот, горит небесной жаждою, в чьих чертах, если только есть правда в мире, сияет отблеск божественной красоты, чей характер – образец нравственного совершенства, в чьем голосе и взоре нет ничего смертного, чья походка обличает существо высшее человека? Помни это хорошенько, и тогда ты поймешь, какие слова ты должен употреблять.
Августин
О безумный! Так-то ты уже шестнадцатый год питаешь пламя своей души лживыми обольщеньями? Поистине, не дольше властвовал над Италией знаменитый Ганнибал, не чаще выдерживала она натиски вооруженных полчищ, не {159} сильнее пылала в пожарах, нежели тебя за это время палила огнем и одолевала приступами неистовая страсть. Однако нашелся же человек, который наконец заставил Ганнибала удалиться; твоего же врага кто отвратит от твоей выи, раз ты запрещаешь ему уйти и даже сам, сознательно и добровольно, приглашаешь его оставаться у тебя? Несчастный! Ты радуешься собственной беде. Но когда последний день закроет эти очи, чарующие тебя до гибели, когда ты увидишь ее лицо, искаженное смертью, и бледные члены, тебе будет стыдно, что ты приковал твою бессмертную душу к бренному, жалкому телу, и ты будешь краснеть, вспоминая о том, что ты теперь так упрямо утверждаешь.
Франциск
Да не приведет Господь! Я этого не увижу.
Августин
Между тем это неизбежно случится.
Франциск
Знаю, но не настолько враждебны мне светила, чтобы этой смертью нарушить порядок естества. Раньше ее вступил я в жизнь, раньше и выйду.
{160}
Августин
Ты, верно, помнишь то время, когда ты боялся противного и когда, вдохновленный печалью, ты сложил погребальную песнь подруге, как если бы она уже была мертва.
Франциск
Конечно, помню, но я скорбел тогда и еще теперь, вспоминая те чувства, содрогаюсь. Я негодовал на то, что от меня как бы отсечена благороднейшая часть моей души и что я осужден пережить ту, которая одним своим присутствием услаждала мне жизнь, так что эта песнь оплакивает ее потерю, исторгшую у меня тогда потоки слез. Я хорошо помню смысл, хотя и забыл слова.
Августин
Не в том дело, сколько слез исторгло у тебя и сколько боли причинило тебе представление о ее смерти; но важно, чтобы ты понял, что этот страх, который однажды потряс тебя, может вернуться, и тем легче, что смерть все ближе с каждым днем и что это прекрасное тело, будучи истощено болезнями и частыми родами, утратило значительную часть своей прежней крепости.
{161}
Франциск
Я также стал более обременен заботами и старше летами, поэтому я опережаю ее на пути к смерти.
Августин
О, безрассудство – умозаключать о порядке смерти по порядку рождения! Что же оплакивают осиротелые старики родители, как не преждевременную смерть своих юных сыновей? О чем льют слезы пожилые кормилицы, как не о ранней смерти своих питомцев?
Сладостной жизни не знавших, от матерей груди,
бездольных,
Черный похитил их день и безвременной отдал могиле.
Ты же, опередив ее немногими годами, почерпаешь в этом нелепую надежду, что умрешь раньше, нежели виновница твоего безумия, и обольщаешь себя мыслью, что этот порядок природы непреложен.
Франциск
Но не настолько непреложен, чтобы я не допускал, что может случиться противное; но я непрестанно молюсь, чтобы этого не случилось, и всегда, размышляя о ее смерти, вспоминаю стих Овидия:
День нежеланный, помедли, пока не расстанусь с землею!
{162}
Августин
Я не в силах больше слушать эти глупости! Ведь раз ты знаешь, что она может умереть раньше тебя, что же ты скажешь, когда она умрет?
Франциск
Что другое смогу я сказать, как не то, что этот удар сделал меня несчастнейшим из всех людей? Но мне будет утешением память о протекших годах. Как бы то ни было, пусть ветры унесут наши слова и бури развеют предвещание!
Августин
О слепец! Ты все еще не понимаешь, какое безумие – подчинять душу земным вещам, которые воспламеняют ее огнем желаний, неспособны ее успокоить, не могут быть верны ей до конца и, обещая ее приголубить, вместо того терзают ее непрерывными потрясениями.
Франциск
Если у тебя есть более действительное средство, то употреби его; подобными речами ты никогда не устрашишь меня, потому что не смертной вещи, как ты думаешь, я предал свой дух, и ты знаешь, что я любил не столько ее тело, сколько душу, чистота которой, превосходящая
{163} человеческий уровень, восхищает меня, и пример которой учит меня, как живется среди небожителей. Итак, на твой вопрос (который даже только слышать мне мучительно), что я буду делать, если она умрет раньше, покинув меня, – вот мой ответ: я буду утешаться в своих несчастиях по примеру Лелия, мудрейшего из римлян; я буду говорить себе: "Я любил ее добродетель, которая не умерла",– и буду повторять себе также все остальное, что он сказал после смерти того, которого любил с такой удивительной силой.
Августин
Ты засел в неприступной крепости твоего заблуждения, и выбить тебя оттуда – нелегкий труд; но так как я вижу по твоему настроению, что ты гораздо терпеливее готов выслушать резкое слово о себе самом, нежели о ней, то превозноси свою бабенку похвалами, сколько хочешь,– я ничего не стану возражать. Пусть она царица, святая или хотя бы даже богиня.
Феба ль сестра, из семейства ли нимф единая родом,– все же ее безмерная добродетель нисколько не искупит твоего заблуждения.
Франциск
Жду – какую еще новую тяжбу ты хочешь затеять.
{164}
Августин
Нет сомнения, что люди нередко любят прекраснейшие вещи постыдным образом.
Франциск
На это я уже раньше ответил. Если бы кто мог видеть облик любви, царящей во мне, он признал бы этот облик совершенно сходным с ее чертами, которые я хотя и много хвалил, но все же меньше, чем следовало. Беру в свидетельницы ту, пред кем мы говорим, что в моей любви никогда не было ничего постыдного, ничего непристойного, вообще ничего преступного, кроме ее чрезмерности. Будь она еще в меру, нельзя было бы придумать ничего прекраснее.
Августин
Могу ответить тебе словами Туллия: "Ты хочешь придать меру пороку".
Франциск
Не пороку, а любви.
Августин
Но он, говоря это, разумел именно любовь. Помнишь это место?
{165}
Франциск
Конечно; я читал это в "Тускуланских беседах". Но он говорил об обычной человеческой любви, а во мне живет нечто особенное.
Августин
Однако и другие, может быть, думают о себе так же; дознано ведь, что, как в отношении других страстей, так особенно в отношении этой всякий судит о себе благосклонно; и не без основания хвалят эти стихи, хотя и принадлежащие какому-то простонародному поэту:
Своя у каждого невеста: мне – моя!
Своя у каждого зазноба: мне – моя!
Франциск
Если хочешь и если позволяет время, я приведу тебе из многого лишь малость, которая повергнет тебя в величайшее изумление.
Августин
Или, ты думаешь, я не знаю, что
Сами влюбленные ткут из желания сонную грезу?
Всякий школьник прекрасно знает эти стихи. Но досадно слышать такие нелепости из уст человека, которому пристало бы возвышеннее и мыслить и говорить.
{166}
Франциск
Об одном не могу умолчать, припишешь ли ты это благодарности или глупости: чем ты меня видишь, как бы мало это ни было, тем я стал благодаря ей, и если я достиг какой-нибудь известности или славы,– я не достиг бы их, когда бы она этими благородными чувствами не взрастила скудные семена добродетелей, которые природа посеяла в моей груди. Она отвлекла – как говорится, крюком оттащила мой юношеский дух от всякой мерзости и принудила его смотреть горе. И почему бы нет? Ведь известно, что любовь преображает нрав любящего по образцу любимого, а не нашелся еще ни один хулитель, даже из самых злобных, который собачьим зубом коснулся бы ее доброго имени и осмелился бы сказать, что подметил что-нибудь достойное порицания – не говорю уже в ее поведении, но даже в ее движениях и словах, так что даже те, кто осуждает все на свете, уходили от нее преисполненные удивления и почтения.
Поэтому нисколько не удивительно, что эта громкая слава возбудила и во мне желание большей славы и облегчила мне тот тяжкий труд, который я должен был свершить для достижения этой цели. Ибо в юности стремился ли я к чему-нибудь другому, как не к тому, чтобы понравиться ей одной, которая мне одна понравилась? Чтобы {167} достигнуть этого,– ты знаешь,– презрев соблазны всевозможных наслаждений, я рано возложил на себя иго трудов и забот; и теперь ты велишь мне забыть или меньше любить ту, которая удалила меня от общения с толпою, которая, руководя мной на всех путях, подстрекала мой оцепенелый гений и пробудила мой полусонный дух.
Августин
Несчастный! Насколько лучше было бы тебе молчать, нежели говорить! Хотя я и в молчании видел бы тебя насквозь, но самые твои слова, дышащие таким упрямством, подняли во мне всю желчь.
Франциск
Почему, скажи?
Августин
Потому что ложно мыслить есть признак невежества, а бесстыдно упорствовать в ложной мысли обличает равно и невежество и гордыню.
Франциск
Что же, по-твоему, я измыслил или сказал столь ложного?
{168}
Августин
Все, что ты говоришь, в особенности же твое утверждение, что благодаря ей ты стал тем, что ты есть. Если ты хочешь этим сказать, что она дала тебе все, что в тебе есть, то это явная ложь; если же ты разумеешь, что она не допустила тебя стать большим, нежели ты есть, то ты прав. О, каких бурь мог бы ты избегнуть, если бы она не отвлекла тебя чарами своей красоты! Итак, тем, что ты есть, ты обязан доброте природы, а чем ты мог быть, то она похитила, вернее, ты сам у себя отнял, ибо она безвинна.
Ее красота казалась тебе столь обаятельной, столь сладкой, что палящим зноем желаний и непрерывными ливнями слез уничтожила всю жатву, которая должна была бы взойти из врожденных тебе семян добродетели. Что касается того, будто она отвратила тебя от всего непристойного, то этим ты похваляешься ложно. Она отвратила тебя, может быть, от многого, но ввергла еще в большие бедствия. Ибо ту, которая, заставляя тебя избегать постыдного пути, усеянного всевозможными мерзостями, завлекла тебя в пропасть и, исцеляя незначительные раны, тем временем насмерть перерезала тебе горло,– можно ли ее назвать спасительницей, а не скорее ли убийцей?
Именно так она, которую ты называешь своим вожатаем, ввергла тебя в блистающую {169} бездну, удержав от многих непотребств. Что же касается того, будто она научила тебя смотреть ввысь и отделила от толпы, что же другое здесь было, как не то, что, сидя пред нею и плененный ее очарованием, ты приучился презирать все на свете и всем пренебрегать, – а в деле человеческого общения, как ты знаешь, это всего тягостнее. Далее, когда ты говоришь, что она заставила тебя предпринять бесчисленные труды, то в этом одном ты прав; но так ли велика эта заслуга? Столь многообразны труды, от которых уклониться невозможно; подумай же: какое безрассудство гнаться добровольно за новыми! А насчет того, что, как ты хвалишься, благодаря ей ты стал жаждать большей славы, то я сожалею о твоем заблуждении и докажу тебе, что из всех бременей, отягощающих твою душу, ни одно не было гибельнее для тебя. Но моя речь еще не дошла до этого предмета.
Франциск
Самый искусный борец сперва грозит, затем ранит, меня же и рана и угроза сразу так потрясли, что я начинаю уже сильно шататься.
Августин.
Насколько же сильнее ты зашатаешься, когда я нанесу тебе самую глубокую рану? Именно та, {170} которую ты превозносишь, которой, по твоим словам, ты обязан всем, она-то тебя и погубила.
Франциск
Великий Боже! Каким образом ты убедишь меня в этом?
Августин
Она отдалила твою душу от любви к вещам небесным и отвратила твои желания с Творца на творение, а это и есть самая покатая дорога к смерти.
Франциск
Прошу тебя, не спеши произносить приговор. Любовь к ней, несомненно, побуждала меня любить Бога.
Августин
Но извратила порядок.
Франциск
Каким образом?
Августин
Ибо должно любить все сотворенное из любви к Творцу, ты же, напротив, прельщенный чарами творения, не любил Творца, как подобает его любить, а удивлялся художнику в нем, как {171} если бы он не создал ничего более прекрасного; между тем телесная красота есть низший вид красоты.
Франциск
Да будет мне свидетелями та, что присутствует здесь, и моя совесть, что я любил, как я уже раньше сказал, не столько ее тело, сколько душу. И ты легко можешь увидеть это из того, что чем далее она подвигалась в возрасте (а это наносит телесной красоте непоправимый урон), тем прочнее я утверждался в своем мнении, ибо если цвет ее молодости явно увядал с годами, зато красота ее души все более возрастала, и эта-то красота, как родила во мне любовь изначала, так раз зародившуюся укрепила непоколебимо. Иначе, будь я привлечен ее телом, мое чувство давно должно было бы измениться.
Августин
Ты шутишь со мною? Или эта самая душа так же нравилась бы тебе, если бы она обитала в неопрятном и уродливом теле?
Франциск
Не смею сказать это, ибо душу нельзя видеть и внешний вид тела не обещал бы тогда подобной души; но как бы ни была уродлива оболочка, {172} я, конечно, полюбил бы красоту ее души, если бы эта красота предстала пред моими очами.
Августин
Ты ищешь опоры в словах, ибо, если ты можешь любить только то, что является твоему взору,– значит, ты любил тело. Впрочем, я не отрицаю, что ее душа и нравы также до известной степени питали твое пламя, так как ведь уже самое имя ее (о чем я скажу немного далее) несколько или, вернее, значительно усилило твою безумную страсть. Ибо как во всех душевных страстях, так особенно в этой, от ничтожной искры часто вспыхивает громадный пожар.
Франциск
Вижу, к чему ты хочешь меня привести,– чтобы я признался вместе с Овидием:
Душу с телом любил я.
Августин
Ты должен будешь признаться и в большем, именно, что и то и другое ты любил недостаточно трезво и не так, как подобает.
Франциск
Только пыткою ты сможешь вынудить у меня такое признание.
{173}
Августин
Ты должен будешь признаться также, что из-за этой любви ты впал в большие несчастия.
Франциск
В этом я не признаюсь, хотя бы ты поднял меня на дыбу.
Августин
Между тем ты скоро по собственной воле признаешь и то и другое, если только отнесешься со вниманием к моим доводам и вопросам. Итак, скажи: помнишь ли ты свои отроческие годы или воспоминание о том возрасте совсем угасло в тебе под бременем нынешних забот?
Франциск
Нет, детство и отрочество стоят перед моими глазами совершенно так, как вчерашний день.
Августин
Помнишь ли, как силен был в тебе в ту пору страх Божий, как много размышлял ты о смерти, как сильно был привязан к вере и как любил добродетель?
Франциск
Разумеется, помню и скорблю о том, что с годами добродетели умалились во мне.
{174}
Августин
Я же и всегда опасался, как бы дуновение весны не сорвало этого раннего цвета, который, если бы уцелел, дал бы в свое время чудный плод.
Франциск
Не уклоняйся от предмета; какое отношение имеет это к делу, о котором мы начали говорить?
Августин
Сейчас узнаешь. Раз ты чувствуешь свою память ясной и свежей, обозри сам в себе молча все время твоей жизни и вспомни, когда началась эта глубокая перемена в твоих нравах.
Франциск
Вот я в одно мгновение ока пересмотрел число и порядок прожитых мною лет.
Августин
Что же ты нашел?
Франциск
Что учение о пифагорейской букве, которое мне привелось слышать, не лишено основания. Действительно, когда, поднимаясь по прямой тропинке, я дошел, скромный и рассудительный, {175} до распутья двух дорог и мне было приказано идти по правой дороге,– тогда, из неосторожности или упрямства, я свернул на левую, и не принесли мне пользы стихи, которые я часто читал в отрочестве:
Вот и распутье, где на две тропы расщепилась дорога.
Правая вьется стезя мимо стен Плутонова дома;
Ею в Элизии придем. На казнь идут нечестивцы
Левой тропой; их в Тартар она преисподний низводит.
Дело в том, что хотя я читал это раньше, но понял лишь тогда, когда испытал это на опыте. С тех пор как меня потянуло на кривой и нечистый путь, я часто со слезами оборачивался назад, но уже не мог идти правой дорогою; и вот, когда я ее покинул, тогда-то, несомненно, воцарилась эта неурядица в моих нравах.
Августин
Но в какую пору твоей жизни случилось это?
Франциск
В разгаре юношеского пыла, и если ты повременишь немного, я легко вспомню, какой мне шел тогда год.
Августин
Я не требую столь точного вычисления. Лучше скажи мне, когда ты впервые увидал черты той женщины?
{176}
Франциск
Этого-то я, конечно, никогда не забуду.
Августин
Теперь сопоставь сроки.
Франциск
В самом деле, эта встреча и мое падение произошли в одно и то же время.
Августин
Так я и думал. Ты, вероятно, остолбенел, и необычный блеск ослепил твой взор; ведь изумление, говорят, есть начало любви, оттого и сказано у поэта, хорошо знавшего жизнь:
Глянула – и обомлела, дивясь, сидонянка Дидона...
и затем следует:
Глядит – пламенеет и любит.
Хотя весь этот рассказ, как ты хорошо знаешь, вымышлен, однако поэт в своем вымысле соблюдал порядок природы. Но почему, оцепенев при встрече с нею, ты предпочел свернуть на левый путь? Вероятно, потому, что он показался тебе более отлогим и более широким, тогда как правый крут и тесен; другими словами, ты боялся усилий. Но почему, когда ты колебался и {177} дрожал, эта знаменитая женщина, которую ты выдаешь за твоего надежнейшего вожатая, не направила тебя к высшим целям и, как поступают со слепыми, не удержала тебя, взяв за руку, и не указала, куда надо идти?
Франциск
Она делала это, сколько могла. Ибо что же другое, как не эта цель, заставило ее, не поддаваясь никаким мольбам, никаким сладким речам, соблюсти свою женскую честь и, наперекор своему, равно как и моему возрасту, наперекор многим различным обстоятельствам, которые могли бы смягчить и сердце, твердое как алмаз, остаться неприступной и твердой? Поистине, эта женская душа учила меня долгу мужчины и предстояла мне затем, чтобы в трудной школе стыдливости, говоря словами Сенеки, у меня не было недостатка ни в примере, ни в укоризне; когда же, наконец, она увидела, что я разорвал узду и несусь стремглав, она предпочла оставить меня, нежели последовать за мною.
Августин
Значит, ты иногда желал зазорного,– а ведь ты только что отрицал это. Но уже таково общеизвестное свойство влюбленных или, вернее, помешанных; к ним ко всем приложимы слова:
{178}
"Хочу – не хочу, не хочу – хочу". Вы сами не знаете, чего хотите, чего нет.
Франциск
Я нечаянно попался в сети. Но если в прежнее время я подчас желал иного, то к этому меня толкали любовь и возраст; теперь же я знаю, чего хочу и к чему стремлюсь, теперь я наконец укрепил свой колеблющийся дух. Она же, напротив, осталась твердою в своих решениях и всегда неизменной. Чем более я понимаю это женское постоянство, тем более удивляюсь ему, и если некогда меня огорчало, что она приняла такое решение, то теперь я рад и благодарен.
Августин
Кто раз обманул, тому в другой раз не следует легко верить; тебе придется изменить свой характер, наружность и жизнь, прежде чем ты убедишь меня, что ты изменил свою душу. Может быть, твое пламя несколько утихло и ослабело, но оно не угасло. И ты, приписывающий столь многое предмету твоей любви, разве ты не замечаешь, как сильно ты осуждаешь себя, оправдывая ее? Тебе угодно выставлять ее образцом святости – тем самым ты признаешь себя безумным и преступным; она, по твоим словам, была в высшей степени счастлива, ты {179} же – глубоко несчастлив любовью к ней. Ведь с этого, если помнишь, я и начал.
Франциск
Помню и не могу отрицать, что это так. Теперь я вижу, куда ты незаметно привел меня.
Августин
Для того чтобы ты ясно видел это, напряги свое внимание. Ничто в такой степени не порождает забвения Бога или презрения к нему, как любовь к преходящим вещам, в особенности та, которую, собственно, обозначают именем "Амор" (что превосходит всякое кощунство), которую называют даже Богом, очевидно, для того, чтобы сколько-нибудь извинить человеческое безумие небесным оправданием и чтобы под видом божественного внушения свободнее совершать этот страшный грех.
Нельзя удивляться тому, что эта страсть имеет такую силу в человеческих сердцах; ибо в других страстях вас увлекают наружный вид вещи, надежда на наслаждение или вспышка вашего собственного воображения, в любви же не только действует все это, но еще присоединяется взаимность чувства, и если эта надежда вовсе потеряна, то и сама любовь неизбежно ослабевает; так что в других случаях вы просто любите, здесь же любовь обоюдна, и смертное сердце как бы подстрекается {180} взаимными шпорами.
По-видимому, недаром наш Цицерон сказал, что "из всех душевных страстей, бесспорно, ни одна не лютее любви", и, очевидно, он был твердо убежден в этом, если прибавил: "бесспорно" – ведь он же в четырех книгах защищал Академию, сомневавшуюся во всем.
Франциск
Я часто замечал это место и удивлялся тому, что он назвал любовь лютейшею из всех страстей.
Августин
Ты вовсе не удивлялся бы этому, если бы забвение не овладело твоей душою. Но краткого напоминания будет довольно, чтобы ты вспомнил многие горести. Подумай только: с тех пор как эта чума охватила твой ум, ты внезапно весь изошел в стонах и дошел до такого жалкого состояния, что с пагубным сладострастием упиваешься своими слезами и вздохами. Твои ночи были бессонны, всю ночь напролет в твоих устах было имя любимой, ты презирал все на свете, ненавидел жизнь и жаждал смерти, искал печального уединения и бежал людей, так что о тебе не с меньшим правом, нежели о Беллерофонте, можно было сказать словами Гомера:
Он по равнине Скитаний блуждал, одинок, и, тоскуя,
Сам себе сердце снедал, и стези убегал человечьей.
{181} Отсюда бледность и худоба и преждевременное увядание молодости, далее – печальные и вечно влажные от слез глаза, помраченный ум и беспокойные сны и жалобные стоны во сне, слабый голос, хриплый от печали, и прерывистая, запинающаяся речь, и всевозможные другие признаки крайнего смятения и горя. Это ли, по-твоему, приметы здоровья? Не она ли создавала и кончала для тебя дни праздничные и дни печали? С ее приходом всходило солнце, с ее уходом возвращалась ночь; когда менялось выражение ее лица, менялось и твое настроение; ты становился весел или печален смотря по тому, была ли она весела или печальна; наконец, ты всецело зависел от ее воли. Ты знаешь, что я говорю правду, и даже известную всем.
И – верх безрассудства: не довольствуясь видом ее живого лица, ввергшего тебя во все эти беды, ты добыл себе его изображение, созданное талантом знаменитого художника, чтобы иметь возможность всюду носить его с собою, предлог для неиссякаемых слез. Вероятно, опасаясь, чтобы не иссяк их источник, ты с величайшим усердием изыскивал всевозможные средства, будучи небрежным и беспечным во всем остальном. А чтобы достигнуть вершины твоего безумия, перейдем к тому, чем я тебе недавно грозил. Можно ли достаточно осудить или достаточно надивиться на этот
{182} бред твоего обезумевшего духа, что, не меньше очарованный ее именем, чем блеском тела, ты с невероятным тщеславием лелеял все, что было созвучно ему? Почему ты так страстно любил как кесарские, так и поэтические лавры, если не потому, что она носила это имя? С тех пор из-под твоего пера не вышло почти ни одного стихотворения, в котором не упоминалось бы о лавре, как если бы ты обитал близ вод Пенея или был жрецом в горах Кирры.
Наконец, так как нелепо было надеяться на кесарский венец, ты столь же нескромно, как ты любил самую возлюбленную, желал со страстью и домогался поэтических лавров, на которые тебе давало право рассчитывать достоинство твоих трудов; и хотя к стяжанию венца несли тебя крылья твоего таланта,– ты содрогнешься, когда вспомнишь про себя, с какими усилиями ты достиг его. Я хорошо знаю, какой ответ готов у тебя, и пока ты еще только открываешь рот, размышляя,– вижу, что делается в твоей душе.
Именно, ты размышляешь о том, что этим научным занятиям ты предался несколько раньше, нежели вспыхнула в тебе любовь, и что это поэтическое отличие прельщало твой дух уже в отроческие годы. Я это знаю и не отрицаю этого, но и устарелость этого обычая в течение многих веков, и то, что нынешний век неблагоприятен для таких трудов, и опасности {183} далеких путешествий, приводивших тебя к порогу не только тюрьмы, но даже смерти, и другие не менее тяжкие превратности судьбы замедлили бы или, может быть, даже поколебали бы твое решение, если бы память о сладостном имени, непрестанно тревожа твой дух, не вытеснила из него всех прочих замыслов и не повлекла тебя через земли и моря, меж стольких подводных камней, в Рим и Неаполь, где ты, наконец, получил то, чего так пламенно желал. Если все это кажется тебе проявлением умеренной страсти, то я должен буду признать, что ты объят безмерным безумием.
Я с умыслом оставляю в стороне то, что Цицерон не постеснялся позаимствовать из Теренциева "Евнуха", где сказано:
В любви не тьма ль пороков: подозрений, ссор,
Обид и перемирий? Вновь горит война
И снова мир.
Узнаешь ли в его словах твои неистовства, особенно ревность, которая, как известно, занимает первое место в любви, как любовь занимает первое место среди страстей? Но ты возразишь мне, может быть, такими словами: "Я не отрицаю, что это так, но у меня есть разум, власть которого может умерить эти пороки". Но Теренций предусмотрел твой ответ, прибавив:
{184}
Коль хочешь делать с толком бестолковое,
Нелепое осмысленно,– не значит ли:
С умом, приятель, вздумал ты с ума сойти?
Это замечание, которое ты, без сомнения, признаешь глубоко правильным, преграждает путь, если не ошибаюсь, всем твоим изворотам. Таковы и этим подобны напасти любви, коих точное перечисление для испытавшего ее было бы ненужно, для неиспытавшего неправдоподобно. Главнейшее же из всех несчастий я возвращаюсь к предмету моей речи – то, что любовь заставляет человека забыть как Бога, так и себя самого, ибо каким образом дух, согбенный под бременем стольких зол, может добраться ползком до этого единственного и чистейшего источника подлинного добра? А раз это так, то перестань удивляться тому, что никакая другая страсть души не казалась Туллию более сильной.
Франциск
Признаюсь, я побежден, ибо все, что ты говоришь, кажется мне почерпнутым из книги опыта. Так как ты упомянул о Теренциевом "Евнухе", то да будет мне позволено вставить здесь жалобу, взятую из того же места:
О, дело недостойное! Как жалок я!
Постыла страсть – а я горю! Погиб – но жив!
Все вижу, знаю – и не знаю, как мне быть!
{185} И я хочу просить у тебя совета словами того же поэта:
Пока есть время, так и сяк умом раскинь.
Августин
А я отвечу тебе словами Теренция же:
В котором деле толка нет, ни лада нет,
Совет разумный в деле том не надобен.
Франциск
Что же мне делать? Или предаться отчаянию?
Августин
Раньше должно все испробовать. Выслушай теперь в кратких словах мой обдуманный совет. Ты знаешь, что об этом предмете существуют не только отдельные рассуждения, составленные выдающимися философами, но и целые книги, сочиненные знаменитыми поэтами. Было бы оскорбительно указывать тебе в особенности, учительствующему в этой области, где следует искать и как должно понимать их; но, может быть, не лишним будет объяснить тебе, каким образом прочитанное и понятое может быть применено к твоему спасению. Прежде всего, по словам Цицерона, "некоторые полагают, что старую любовь следует выбивать новою, как гвоздь {186} гвоздем"; это мнение разделяет и знаток в деле любви, Овидий, провозглашая, как общее правило: