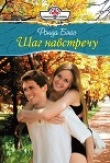Текст книги "Тайный заговор"
Автор книги: Филипп Ванденберг
Жанр:
Триллеры
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 28 страниц)
Жюльетт прочитала имена на листочке: Асмодей, Бельфегор, Молох, Адраммелех, Лилит, Вельзевул, Нергал и Велиал.
И где же ей, скажите на милость, искать значение этих имен, хотела спросить Жюльетт, однако вовремя прикусила язык. Не хотелось позориться перед Бродкой.
Но тот, казалось, угадал ее мысли, потому что произнес:
– Я тоже не знаю, где можно раздобыть эту информацию. Но ты же у нас умница… – Он вернулся к автоответчику и вставил новую кассету.
Жюльетт положила листок в карман джинсов, набросила на плечи темный блейзер и на прощание поцеловала Бродку в щеку.
Стоя на улице перед «Альберго Ватерлоо», она задумалась о том, куда пойти, и, отбросив все условности, подалась в газетный архив «Мессаггеро». Она решила, что с самого начала будет вести себя по отношению к Клаудио чисто по-деловому, хотя и не могла не признаться себе, что этот мужчина по-прежнему кажется ей привлекательным.
С наигранным равнодушием, как и собиралась, Жюльетт вошла в архив и направилась к Клаудио Сотеро, которого, к собственному удивлению, узнала не сразу: вместо длинных, стянутых в хвост волос у него теперь была очень короткая стрижка.
Увидев Жюльетт, Клаудио испугался и застыл на месте, сидя перед экраном компьютера и даже не пытаясь подняться ей навстречу. Жюльетт вежливо поздоровалась и, словно между ними ничего не было, сказала:
– У меня просьба. Эти семь имен на листке, вероятно, имеют историческое значение. Ты не мог бы мне помочь? – И она пододвинула листок поближе к Клаудио.
Клаудио, выглядевший теперь гораздо старше, чем он остался в памяти Жюльетт, по-прежнему таращился на нее, не решаясь что-либо сказать.
– Ты не понял? – громко и с нажимом произнесла Жюльетт, так чтобы другие архивариусы услышали и обратили на них внимание. Наконец Клаудио поднялся, подошел к ней вплотную и прошептал:
– Джульетта, мне так жаль! Я знаю, простить мое поведение невозможно. Пожалуйста, позволь мне объяснить…
– Я пришла не затем, чтобы выслушивать объяснения или оплачивать счета, – холодно ответила Жюльетт. – Мне нужна справка. Это важно. Кроме того, я спешу.
Клаудио ответил шепотом:
– Я же понимаю, ты очень сильно злишься на меня, знаю, что все испортил… Но пожалуйста, дай мне хотя бы объяснить, как все получилось.
– Единственное объяснение, которое меня интересует, это значение этих имен. Если ты не готов мне помочь, я попытаю счастья у одного из твоих коллег.
– Нет, нет, Джульетта! – Клаудио провел рукавом по лбу, словно от этого короткого разговора его бросило в пот. Затем он взял листок и стал вводить имена в свой компьютер. Однако после каждого ввода он только качал головой.
Через несколько минут ему удалось найти что-то о Молохе и Нергале.
– Божества древнего Востока, один – финикийский, второй – вавилонский.
– А остальные? – спросила Жюльетт.
– Ни в одном из исторических справочников этих имен нет. Но если они вообще существуют, то я найду их.
Клаудио, словно одержимый, принялся стучать по клавиатуре, переключаясь с одного справочника на другой.
Жюльетт, делая вид, будто все это ее не касается, направилась к кофейным автоматам в коридоре и сделала себе капучино в картонном стаканчике. Вернувшись в архив, она сразу же заметила, что лицо Клаудио сияет.
– В яблочко! – закричал он еще издалека. – Все эти имена встречаются в словаре магии. Правда, написано о них немного, но все же. Интересная компания!
Он протянул Жюльетт лист бумаги, и та с удивлением прочитала:
Бельфегор – «прекрасный ликом», демон, которому, по преданию, поклонялись тамплиеры в своих тайных ритуалах.
Асмодей – дьявол сладострастия, чувственности и роскоши в еврейской традиции.
Молох – всепоглощающий бог финикян и жителей земли Ханаанской, князь ада.
Адраммелех – идол самаритян, которому приносили в жертву детей.
Лилит – первая жена Адама, созданная Богом из грязи и ила, изначально – крылатая ассирийская демоница.
Вельзевул – «повелитель мух», собственно, бог филистимлян, в средневековье считался верховным дьяволом ада.
Дергал – «сгорбленный», повелитель войны, чумы, наводнений и разрушения, изначально – вавилонский бог подземного царства.
Велиал – «ничего не стоящий», царь лжи, говорит тысячей льстивых языков.
– Боже мой! – растерянно пробормотала Жюльетт.
Клаудио поднял на нее взгляд.
– Ну, к Богу это имеет мало отношения. Это же все дьяволы.
Жюльетт сухо поблагодарила его, словно они были совершенно чужими, и на прощание задала провокационный вопрос:
– Сколько я тебе должна за помощь?
Этот вопрос обидел Клаудио, и он сердито уставился в пол, так и не ответив ей.
Жюльетт повернулась и пошла прочь. Но едва она дошла до выхода из «Мессаггеро», как ее догнал Клаудио. Он преградил ей путь и сбивчиво заговорил:
– Я знаю, Джульетта, ты имеешь полное право обращаться со мной именно так. Но позволь мне объясниться. Это, конечно, не сотрет в твоей памяти ту неприятную встречу, но, возможно, ты все-таки простишь меня. Пожалуйста!
Жюльетт попыталась пройти мимо Клаудио, но тот не пропустил ее.
– Тут нечего объяснять и нечего прощать, – холодно произнесла она. – То была ошибка с моей стороны, баста. Не стоит уделять этому вопросу больше внимания, чем он заслуживает. А теперь уйди с дороги, пожалуйста!
Холодность, с которой говорила Жюльетт, привела Клаудио в отчаяние. От волнения он не сумел подобрать нужных слов, но, вероятно, подходящие слова в этой ситуации оказались бы напрасны, поскольку обиженная гордость Жюльетт требовала только одного: унизить Клаудио.
В конце концов он уступил дорогу, но, прежде чем Жюльетт успела выйти на Виа дель Тритоне, крикнул ей вслед:
– Завтра в семь я буду ждать тебя в нашем ресторанчике на Пьяцца Навона, Джульетта! Если нужно будет, всю ночь!
Жюльетт сделала вид, что не услышала.
Состояние дел в частной клинике Коллина тем временем достигло той точки, когда доктор Николовиус серьезно задумался над тем, чтобы оставить клинику. Все свои соображения, а также просьбу о скорейшем принятии решения он изложил в письме, которое послал Жюльетт в Рим.
Коллин держал в руках почти все дела в клинике, и с тех пор, как он начал изъясняться – причем все лучше и лучше, – снова стал считать себя главой учреждения. Иногда парализованного профессора можно было терпеть только в том случае, если он был накачан коньяком – для смягчения боли, как выражался сам Коллин.
В коридорах и палатах клиники витал страх. Если учесть, что речь шла о парализованном мужчине в инвалидном кресле, это выглядело гротескно, однако Коллин пользовался своим передвижным средством как оружием. Он отказывался ложиться на ночь в постель, поскольку все равно мог спать считанные минуты. К тому же постель означала для него абсолютную беспомощность. Поэтому он настоял на том, чтобы проводить ночи в своем инвалидном кресле. Тайком, словно тень, он ездил по коридорам клиники, подслушивал под дверями или громко стучал в них, и ни главный врач Николовиус, ни сильные санитары не могли остановить его.
Что происходило с ним на самом деле, не знал никто. Казалось, профессор смирился со своим состоянием, а пьянство и садизм, с которым он терроризировал всех вокруг, стали для него смыслом жизни.
Тем больше удивила медперсонал внезапная перемена в его поведении. В один из дней Коллин стал вести себя с подчеркнутой сдержанностью. Хотя он по-прежнему казался вездесущим, его повелительного голоса почти не было слышно, и даже своим дьявольским креслом профессор вдруг стал управлять аккуратно. Николовиус, которого поначалу такая перемена сильно удивила, отнес это на счет недавнего обследования коллеги-профессора, который лечил Коллина после катастрофы и сказал, что удовлетворен состоянием пациента. По крайней мере, с учетом сильных повреждений, как он выразился. О том, что Коллин когда-либо сможет двигать руками и ногами, не стоит даже думать, добавил он.
Около десяти часов вечера главный врач снабдил Коллина требуемой порцией алкоголя и попрощался. Коллин попросил Николовиуса о том, чтобы тот вставил в его плеер кассету с «Варшавским концертом», надел ему наушники и, как обычно, приоткрыл дверь палаты.
Оставшись наедине со своей любимой музыкой, Коллин на какое-то время успокоился. Затем при помощи ложки привел инвалидное кресло в действие и осторожно, словно он изо всех сил старался никого не потревожить, выехал из палаты, пустившись по коридору.
Доехав до лестницы, Коллин развернулся. Скрип от трения резиновых колес по полу испугал его, он застыл на миг и стал ждать. Затем направил кресло обратно к двери своей палаты и вновь повернул.
На минуту Гинрих Коллин остановился, устремив взгляд прямо перед собой, к невидимой цели. Его челюсть медленно опустилась.
Открыв рот, он поймал ложку, при помощи которой управлял инвалидным креслом, потом перевел рычаг управления электромотором до упора вперед.
Кресло поехало быстрее. Мысленно Коллин прокрутил свой план сотню раз. Теперь он боялся только одного: что этот план не сработает. На полпути тяжелое приспособление, к которому он был прикован, развило такую скорость, что остановить его могла только ошибка в управлении. Коллин сидел прямо, словно спина его была сделана из железа. Он не решался смотреть по сторонам, на проносящиеся мимо двери, за которыми были люди со своими трагическими судьбами. Он давно забыл о том, что клиника была его детищем, что он создал все это своими руками. Ничего из того, что окружало Коллина, теперь не имело для него значения. Он наконец обрел внутреннее равновесие, ибо нашел в себе силы признаться, что оказался неудачником. Неудачником во всем.
Гинрих Коллин был не тем человеком, который мог терпеть сочувствие. По его мнению, слово «сочувствие» было придумано для ничтожных людей. Коллин мог прекрасно жить с осознанием, что его ненавидели, но чтобы ему сочувствовали, он не хотел. И он не хотел просить, не хотел быть вынужденно благодарным. Он вообще больше ничего не хотел. Поэтому он держал ложку в положении «вперед» до упора.
Последнее, что он запомнил, был ужасный звук, всепроникающий хруст, когда инвалидное кресло на полной скорости врезалось в перила лестницы, пробило их и вырвало несколько кусков.
Кресло перевернулось, покатилось и так резко развернулось, что упало с силой, превышавшей его собственный вес, пролетев три этажа вниз.
Голова Коллина ударилась о каменный пол и разбилась, словно цветочный горшок.
Глава 11
Коллин был мертв вот уже два дня, когда Жюльетт приехала в Мюнхен. Доктор Николовиус сообщил ей о случившемся по телефону. Он сделал все возможное для того, чтобы представить ей самоубийство мужа в более смягченном варианте, но Жюльетт реагировала очень сдержанно. Бульварные газеты восприняли это происшествие как лакомый кусочек. Профессор Коллин пользовался почетом и уважением, особенно в кругах высшего общества Мюнхена. Он замечательно умел скрывать от общественности свои личные неприятности и проблемы. С другой стороны, его судьба, в особенности тщательно спланированное самоубийство, казались настолько необычны, что это событие освещалось прессой не один день.
По желанию Жюльетт Бродка остался в Риме. Она не хотела втягивать его в свои проблемы, и он был благодарен ей за это.
Вплоть до дня похорон Жюльетт осаждали журналисты. Стоило ей выйти из дома, как они, словно ищейки, брали ее след. Жюльетт, измученная и беспомощная, не знала, что делать. Она чувствовала себя самым одиноким человеком на свете.
Похороны, для которых Жюльетт купила себе новые вещи в салоне мод на Максимилианштрассе, прошли перед ее глазами как фильм. Сияло солнце, на ней были большие темные очки. Не было священника, не было надгробных речей, только рукопожатия – без выражения соболезнования. Уйдя с кладбища через двадцать минут, Жюльетт поклялась себе никогда больше сюда не приходить.
Дома она с особой тщательностью принялась уничтожать следы своего пятнадцатилетнего брака. Распахнула в доме все окна, открыла дверцы шкафов и комодов, отсортировала вещи, имевшие какое-либо отношение к Коллину. В кабинете профессора, куда она по его желанию входила крайне редко, Жюльетт обнаружила более десятка бутылок коньяка, спрятанных в шкафах. Она с отвращением вылила их содержимое в умывальник, а бутылки выбросила в мусорный контейнер. Во всем доме пахло алкоголем. Жюльетт едва не стошнило, и она подошла к окну подышать свежим воздухом.
Ей было неприятно обходиться со своим прошлым столь непочтительно и бесцеремонно, но это давало ей ощущение свободы. Жюльетт чувствовала себя гораздо лучше, вытаскивая на свет божий все больше обрывков воспоминаний и швыряя их на пол: фотографии, письма, проспекты, записные книжки – в общем, весь этот хлам, который скапливается годами.
В стенном сейфе, ключ от которого всегда лежал в ящике письменного стола, Жюльетт нашла немалую сумму денег в немецкой, американской и итальянской валюте. Сколько там было, ее не интересовало. Точно так же не интересовали документы в черной кожаной папке, ценные бумаги и счета, о которых она ничего не знала, полисы, процессуальные акты и справки.
Хотя теплый весенний воздух проникал через открытые двери террасы, ей было нечем дышать. Она пошла в ванную на втором этаже, направила в лицо струю воды и стала растирать ладонями лоб и виски. Отчаявшаяся и обессиленная, Жюльетт какое-то время разглядывала себя в зеркале, а затем взяла помаду, крепко сжала ее в пальцах и написала одно слово: «Почему?»
Почему Коллин сделал это? Он больше не мог жить дальше? Не мог выносить сочувствия других людей? Или хотел напакостить ей, Жюльетт, своим последним поступком, поселив в ней чувство вины? А может, она просто все это выдумала?
Зазвонил телефон. Это был Бродка.
Жюльетт едва могла говорить. Ее голос звучал глухо и скованно. Копание в прошлом потребовало от нее больше физических и моральных сил, чем сами похороны. Она машинально отвечала на вопросы Бродки, равнодушно выслушивала слова утешения.
– Давай поговорим завтра, – сказала она наконец. – Для меня все это было очень тяжело.
К вечеру Жюльетт сложила в доме три большие кучи. На верхнем этаже – одежду, в гостиной – безделушки и всякий хлам, в кабинете – груды бумаги.
Около семи часов вечера она вышла из дома с дорожной сумкой и направилась в отель «Хилтон», где сняла номер. Там она надеялась уйти от незримых рук Коллина хотя бы на одну ночь. Но уснуть Жюльетт не смогла. В начале одиннадцатого она встала, оделась и спустилась в холл, где в это время царило большое оживление. В баре она села у стойки и, заказав бокал красного вина, с отсутствующим видом стала наблюдать за тем, как приходили и уходили люди.
Внезапно перед ней появился человек, воспоминания о котором она уже изгнала из своей памяти: непримечательная внешность, около тридцати лет, темные, зачесанные на лоб волосы. Норберт.
Жюльетт демонстративно отвернулась, не ответив на его приветствие.
– Ну и ну, – сказал Норберт. – И чем же я провинился?
– Ты еще спрашиваешь? Ты ведь прекрасно знаешь, в чем дело… – Жюльетт сделала большой глоток из своего бокала. – Исчезни!
Норберт не сдавался. Он обошел вокруг Жюльетт, снова стал перед ней и требовательным голосом, которого она от него никогда не слышала, спросил:
– Черт побери, да что с тобой? Что за странная перемена?
– Я тебе скажу! – с горечью в голосе ответила Жюльетт. – Вероятно, ты следил за мной не один год и передавал информацию своим мерзким работодателям. А я, глупая гусыня, ничего не замечала и верила тебе.
Казалось, Норберт был удивлен, он качал головой, как делал всегда, когда не знал, как поступить. Потом он заказал у бармена джин-тоник, взобрался на стул рядом с Жюльетт, облокотился на стойку и сказал;
– Может, все-таки соизволишь объяснить, о чем вообще речь?
Разозлившись, Жюльетт прищурилась и зашипела на него:
– Ты – дрянной актеришка, Норберт. Тебе не имеет никакого смысла притворяться. Я видела в твоей квартире пурпурную ленточку. Вероятно, это объясняет все.
– Ага, – ответил Норберт, который, судя по всему, не совсем понимал, о чем она говорит. – Ты видела у меня… пурпурную ленточку… – Он замолчал. – Ах, теперь я понял, о чем ты. И из-за этой штучки ты на меня разозлилась?
Жюльетт отмахнулась.
– Забудь об этом. Я больше не хочу иметь с тобой дела.
Она отвернулась, осушила бокал, положила на стойку купюру и собралась уже уходить, когда внезапно услышала, как Норберт плаксивым голосом произнес:
– Выслушай меня. А потом можешь думать, что тебе хочется. Но пожалуйста, выслушай меня: эта красная ленточка, которую ты у меня видела, принадлежит не мне, а старшему другу, с которым я недавно познакомился в ресторане на Гертнерплац. Он не сказал, как его зовут, хотя в первый же вечер мы пошли ко мне. Мы… мы понравились друг другу, и, когда на следующий день я спросил, как его зовут, он ответил: «Называй меня просто Титус. Все, кто меня знает, называют меня так, хотя это не настоящее имя». А потом…
– Ты сказал «Титус»? – Жюльетт навострила уши. – Невысокого роста? Очень белая кожа? Розовое лицо и начинающаяся лысина?
– Э… да, – удивленно ответил Норберт. – Ты его знаешь?
– Может быть, – пробормотала Жюльетт. – Рассказывай дальше.
– Ну так вот, – продолжил Норберт, – Титус жил у меня пару недель. Парень мне понравился. Мы здорово разговаривали, но как только подбирались к его прошлому, он всегда замолкал или менял тему. Вскоре я понял, что в его жизни что-то не так, что у него есть какая-то тайна. Когда я заговорил с ним об этом, Титус сказал, что мое предположение почти верно, но он не может это обсуждать. Через неделю я очень прикипел к Титусу, но одновременно мне было… как-то не по себе. Однажды, когда Титус ушел по своим делам, я заглянул в его сумку. И что я нашел? Револьвер и эту пурпурную ленточку. Я положил их на стол и хотел заставить его говорить, когда он вернется домой. Однако вместо Титуса пришла ты. Револьвер я быстро спрятал, а ленточку – не успел. Я ведь не знал, что это за штука. Титус вернулся, когда тебя уже и след простыл. Я снова положил револьвер на стол и спросил, что это значит. Титус внезапно взбесился. Он обозвал меня шпиком и предателем, схватил свои вещи, запихнул их в сумку и исчез. Больше я его не видел. Может быть, теперь ты мне скажешь, что это за пурпурная ленточка?
Жюльетт закрыла лицо руками. Она покачала головой, не решаясь взглянуть на Норберта.
– Похоже, я была несправедлива по отношению к тебе.
Норберт нахмурился. Он не понял, о чем она говорит.
– Так что с ленточкой?
– Пурпурная ленточка, – неуверенно начала Жюльетт, – это своего рода символ, знак тайной организации, которая опутала своими грязными щупальцами всю Европу. Члены этого так называемого братства занимаются темными делишками с недвижимостью, предметами искусства и фальшивыми деньгами. Нечто вроде мафии, если хочешь. Только вот ее боссы живут не в Неаполе и не в Нью-Йорке…
– А где?
– В Риме. Точнее, в Ватикане.
– Боже ты мой! – воскликнул Норберт. – Ты вообще понимаешь, что говоришь?
Жюльетт с горечью рассмеялась.
– Знаю, все это кажется невообразимым. К тому же я не могу ничего доказать. Однако ты наверняка еще помнишь, что случилось с Бродкой. Тебе также известно о скандале с подделками, в который втянули меня. Все нити расследования ведут в Ватикан – и там обрываются.
Норберт смутился. Отхлебнув из своего бокала, он неуверенно произнес:
– Не знаю, что и сказать по этому поводу. – И, чуть помедлив, добавил: – Но при чем здесь Титус?
– Я тебе отвечу. Титус – член этой тайной организации. Никто не знает, как его зовут по-настоящему, в том числе и я.
– Теперь мне многое становится понятным. – Лицо Норберта стало задумчивым. – Однажды он сказал, что не может больше показываться в наших ресторанчиках. Я не понял и спросил, что у него за причина скрывать свои наклонности. На это он ответил, что мне, дескать, не понять.
Норберт запнулся, заметив, что Жюльетт погружена в собственные мысли.
– Скажи-ка, ты меня вообще слушаешь?
– Извини. – Жюльетт сглотнула. – Я могу понять, что ты принял эту историю с Титусом очень близко к сердцу. Но у меня проблемы совершенно иного рода. Я вела упорядоченный образ жизни. У меня была галерея, у меня был муж… пусть и редкостный подонок, а теперь я не только потеряла все это, но еще оказалась замешанной в каком-то таинственном заговоре.
Норберт кивнул и, беспомощно взмахнув рукой, сказал:
– Нужно отвлечься, и все снова станет на свои места.
Едва он закончил говорить, как понял, насколько глуп его совет. Жюльетт соскользнула со своего стула, стала перед Норбертом. В ее темных глазах появился злой блеск.
– Итак, ты думаешь, что я все это выдумала, что я не в своем уме и наверняка страдаю манией преследования.
– Я этого не говорил.
– Зато подумал! – Жюльетт одним глотком осушила еще один бокал красного вина. – Я даже не могу тебя за это упрекать.
– Жюльетт, пожалуйста!
– Будь здоров. – Она со звоном поставила бокал на стойку и пошла к лифту.
Норберт вернулся к своему роялю, стоявшему в другом конце зала. Когда он коснулся пальцами клавиш и заиграл «As Time Goes By», то почувствовал, что у него дрожат руки.
В это же самое время в Риме за большим круглым столом сидели добрых сто лет тюрьмы и по меньшей мере четыре вечных проклятия. Этот стол, покрытый зеленой скатертью и освещенный низко висящей лампой в форме мисочки, стоял в подвале расположенной в районе Трастевере пиццерии, на что указывала невзрачная вывеска над входом.
Из-за пластиковых стульев и столов, ярко-белых неоновых ламп, а также самого зала, имевшего форму шланга, заведение выглядело не очень привлекательно. Но сделано это было специально. Если сюда заходил случайный посетитель, желавший утолить голод, то единственный официант, совмещавший также обязанности пекаря, неохотно обслуживая его, сообщал, что желаемая еда будет готова не раньше чем через час. После подобного заявления многие просто покидали негостеприимное заведение.
Пиццерия, находившаяся в двух кварталах от Тибра, была, собственно говоря, легальным местом для нелегальных махинаций, которые проворачивались в огромном подвале небольшого на вид дома. Однако даже жители улицы, где все знали друг друга и где ни один слух не казался настолько абсурдным, чтобы его не стоило обсуждать (что вносило разнообразие в жизнь большинства жителей Трастевере), не могли точно сказать, что творится за дверями маленького заведения, куда редко захаживали посетители.
Синьора Блаттер, жившая на пятом этаже дома напротив, со времени смерти мужа, хозяина трактира на юге Тироля, занятая в основном расклеиванием на стенах домов города крупноформатных сообщений о смерти, утверждала, что в пиццерии нечисто. Люди, входившие в заведение, никогда больше не выходили оттуда, а другие, наоборот, выходили из него, хотя никто не видел, чтобы они заходили внутрь. Среди них был и полный кардинал из Ватикана – ради всего святого, синьора Блаттер сразу его узнала. Ни в одном городе мира нет стольких чудес, сколько их в Риме, что, вероятно, зависит от того, что вера, которая управляет здесь, – это вера в чудеса. Однако же рассказы синьоры Блаттер не казались достаточно чудесными, чтобы поверить в них, хотя и соответствовали действительности.
В подвале неприглядной пиццерии скрывался нелегальный игорный клуб, в котором каждый вечер крутились миллионы. Здесь проигрывались нелегальные деньги, деньги на штрафы, откупные деньги и деньги из пожертвований для близлежащего Ватикана. Преимуществом постройки был достаточно разветвленный подвал, наследство ранних христиан, дававший возможность покинуть дом через черный ход, который протянулся почти на два квартала от заведения.
Официант пиццерии испугался, когда ближе к полуночи к ним зашел мужчина невысокого роста с седыми волосами. Он, как и все клиенты, исчезавшие за печами для пиццы, был элегантно одет, гладко выбрит, уверен в себе и совершенно точно знал, куда идет. И все же официант удивился и пробормотал:
– Асассин!
– Для тебя – по-прежнему Джузеппе Пальмеззано, – грубо ответил невысокий мужчина. – Удивлен, да?
– Да, удивлен, – сказал официант. – Сколько же лет-то прошло, синьор Пальмеззано?
– Пятнадцать, – ответил Пальмеззано.
Когда же официант с презрительной гримасой на лице перегородил ему путь, Джузеппе оттолкнул его левой рукой и жестко произнес:
– Permesso[23]23
Позвольте (итал.).
[Закрыть] синьор.
Официант был силен и хотел помешать ему пройти в подвал здания, но Пальмеззано посмотрел на него так, что тот предпочел отступить.
Со стен лестницы, уводившей вниз, осыпалась краска. Пальмеззано вспомнил, что это была та же самая бирюзовая краска, что и до его заключения. Прихожая в подвале, откуда в разные стороны вели четыре двери, была выдержана в приглушенном красном цвете, внешне напоминая пригородный бордель.
На мгновение Пальмеззано растерялся, не зная, какую из дверей выбрать. Однако в следующую секунду услышал негромкий голос из динамика – очевидно, за комнатой велось наблюдение при помощи видеокамер.
– Налево, синьор Пальмеззано, – сказал официант.
Пальмеззано повернулся в указанном направлении и открыл дверь. В нос ему ударил сигарный дым. В неясном свете лампы Пальмеззано различил трех мужчин и одну женщину, расположившихся за игорным столом с картами в руках и пачкой долларовых банкнот перед каждым из них.
Не оборачиваясь, мужчина в черном, сидевший спиной к двери, громко произнес:
– С твоей стороны, Асассин, прийти сюда было очень смелым поступком.
Пальмеззано сразу же узнал голос Смоленски и ответил:
– Да неужели? Тебя, твое преосвященство, я ожидал увидеть здесь меньше всего. В это время порядочные кардиналы должны лежать в постельке, чтобы не проспать утреннюю мессу.
Скривив губы, между которых торчала на три четверти сгоревшая сигара, государственный секретарь выдавил:
– Мерзавец! – Затем, вынув изо рта окурок, обернулся и спросил: – Что ты хочешь, Асассин?
– Глупый вопрос, – заметил Пальмеззано и обошел стол, чтобы рассмотреть остальных игроков. – Играть с вами, конечно.
В этих кругах было не принято представляться друг другу, кроме тех случаев, когда это имело для кого-то особое значение. Причина добровольной анонимности заключалась в древней поговорке, которая утверждает: «Чего не знаю, о том не беспокоюсь», а также в том, что игрока в сопернике интересует лишь одно – его деньги.
Из всех игроков Пальмеззано знал только женщину, сидевшую слева от кардинала, – Анастасию Фазолино. Упрямый тип напротив нее производил впечатление ограниченного человека, однако этому противоречила пачка денег, за которой он скрывал свои грубые пальцы, державшие карты. Напротив Смоленски, беспрерывно куря сигары и рассыпая пепел, сидел коренастый, но при этом казавшийся слабым мужчина, который отличался, как и Смоленски, красноватым лицом, чем – по непонятным причинам – гордятся высокие духовные чины.
– Нас и так уже четверо, – забрюзжал Смоленски в ответ на слова Пальмеззано. – Убирайся!
Но тут неожиданно вмешалась Анастасия Фазолино.
– Ну зачем же? – воскликнула она. – Пусть играет вместо меня. Я больше не хочу. Сегодня не мой день. – И она поднялась, уступив место Пальмеззано.
Тот поблагодарил ее и вежливо поклонился, что как нельзя лучше шло человеку с его внешностью.
– Слышал о твоей взлетевшей на воздух машине, – сказал Пальмеззано кардиналу. – Чертовски странное дело, – добавил он, наблюдая, как Упрямый, сидевший справа от Смоленски, тасовал карты.
Двое других игроков испуганно посмотрели на Смоленски. Тот выплюнул окурок на пол рядом с собой и недовольно произнес:
– Мы здесь затем, чтобы играть, или затем, чтобы выражать соболезнования? – После небольшой паузы, видя, что все молчат, Смоленски спросил: – А у тебя есть деньги, Асассин?
Пальмеззано полез в левый, затем в правый внутренний карман своего двубортного пиджака. Вынув из каждого по пачке долларовых банкнот, он положил их перед собой на стол.
– Ставка сто, – заявил Упрямый.
Каждый из игроков положил сотенную купюру, банкир раздал перетасованные карты. Игроки погрузились в раздумье, а Анастасия встала за спиной кардинала, чтобы наблюдать за происходящим. После тщательного изучения своих карт, справа налево и слева направо, кардинал, на лице которого появилась дьявольская ухмылка, швырнул в центр стола тысячу долларов и, не отводя взгляда от карт, сказал:
– Сохрани тебя Бог, Пальмеззано, если я узнаю, что это ты подложил бомбу! – И закивал, словно что-то зная.
– Я? – Мужчина слева от него притворился растерянным. – Да как тебе в голову могло такое прийти? – И после короткой паузы добавил: – Я играю и кладу пять сотен сверху!
Это заявление заставило Смоленски заволноваться.
Краснолицый, сидевший рядом с Пальмеззано, покачал головой, сложил карты и бросил их на стол рубашкой вверх. Упрямый сделал то же самое.
– Еще кому-нибудь карты?
Смоленски передвинул карту через стол и взял другую, после чего заулыбался еще шире. Пальмеззано покачал головой.
– Я поддерживаю и повышаю на сотню, – сказал Смоленски, отсчитал купюры и бросил их в центр стола.
– И еще на сотню, – последовал быстрый ответ Пальмеззано. В отличие от Смоленски, который во время игры постоянно улыбался, чтобы запугать своих партнеров, Пальмеззано сохранял невозмутимость. Его лицо превратилось в маску, что было характерно для игрока в покер. Глядя на Пальмеззано – то равнодушного, то серьезного, – невозможно было понять, что у него на уме.
Смоленски бросил еще одну сотенную банкноту на стол.
– Я хочу посмотреть, – заявил он.
Пальмеззано спокойно, словно это было само собой разумеющимся, положил на стол трех королей и двух тузов и, не дожидаясь, пока Смоленски откроет карты, стал собирать деньги. Пока Смоленски тасовал карты, Пальмеззано, аккуратно складывая банкноты, словно невзначай заметил:
– У тебя, похоже, новые люди, Смоленски?
– Новые люди? – с недоумением переспросил кардинал, хотя прекрасно знал, о чем идет речь.
– Я имею в виду Леонардо да Винчи, взлетевшего на воздух. Рисовал не я. Могу я узнать имя гения?
Смоленски притворился, что не услышал вопроса.
– Ставки, господа, – сказал он и начал раздавать карты.
В душном полумраке комнаты чувствовалось странное напряжение. Анастасия положила ладони на плечи Смоленски. Остальные игроки молчали.
– Кто это, я хочу знать! – с угрозой в голосе повторил свой вопрос Пальмеззано.
Смоленски скривился, словно новые карты разочаровали его (на самом деле он хотел показать, что карты у него просто фантастические), затем неохотно ответил:
– Немец. А имя его не имеет совершенно никакого значения.
– Немец? – Пальмеззано сложил карты, которые как раз перед этим развернул веером. – Немец! Да каждый дилетант знает, что со времен Дюрера, а это было пятьсот лет назад, у немцев не рождалось нормальных мастеров. Они уже полтысячелетия импортируют своих художников из Италии, – раздраженно говорил Пальмеззано. При этом ему очень хотелось плюнуть на пол.