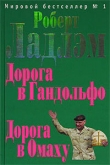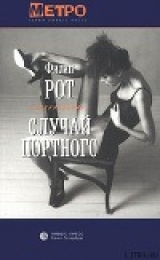
Текст книги "Случай Портного"
Автор книги: Филип Рот
Жанр:
Эротика и секс
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 13 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Вообще-то у нас на кухне обычно рыдает мать, папаша проливает слезы в гостиной, прикрывшись «Ньюарк ньюс», Ханна в ванной, а я на бегу, по дороге в игровые автоматы. Но сегодня папаша жалобно всхлипывает на кухне и ни от кого не закрывается своей газетой, потому что матери там нет, она в больнице, ей делали операцию. У всех праздник, а он чувствует себя очень одиноким, вот и лезет со всякими глупостями, любви ему хочется, сыновьего послушания. Как бы не так, ставьте на то, что он от меня ничего не дождется! Не сдавайся, Алекс, ты нащупал его слабое место! Ну, Алекс-сучок, давай! Пока его жена в больнице, она там чуть не померла, он совершенно беззащитен, добей его, он у тебя в руках! Сейчас или никогда!
Нет, это не мальчишеские обиды, не эдиповы штучки. Это у меня такой характер. Я вам не Гоша! Все детство мне не давала покоя мысль о том, что Гоша – а он был атлетом, третьим призером по метанию копья во всем штате Нью-Джерси, героем и кумиром (обтягивающие плавки с завязкой), который мог одной левой положить на обе лопатки лысого дядюшку Хаима – ему проиграл. Значит, специально уступил. А зачем? И мне, и Гоше было ясно, что дядя Хаим поступил подло. Пусть даже ради сына, но подлость есть подлость. Так что же, Гоша струсил или поступил мудро? Всякий раз, когда они рассказывают о том, что пришлось сделать дяде, чтобы спасти моего кузена, или я сам думаю об этом, предо мной встает неразрешимая загадка: как мне быть? Как мне быть с моим отцом? Покориться или стоять на своем? А ты попробуй, Алекс, попробуй, сучок, хоть полчаса не сдаваться!
Конечно, мне следует уступить папе. Как он страдал, как переживал, когда доктор сказал, что у матери на матке выросла опухоль! Как он извелся, пока выяснялось, что это за образование. Само страшное слово у нас в доме даже боялись произносить, потому что это – конец. Сама мать называла только первую букву. Какое мужество, говорили родственники, а сами там, у себя, шептались за закрытыми дверьми. Сколько, вообще, на свете противных слов, больничных, холодных, безжалостных, как стерильные инструменты. Например, биопсия, мазки. Я раньше любил потихоньку копаться в справочниках и энциклопедиях и читать там волнующие названия: вульва, влагалище, матка, чтобы удостовериться в реальности существования у женщины этих частей. Увы, эти слова теперь утратили запретность и очарование, мы жаждали услышать слово доброкачественная. Нам казалось, что это слово вернет в наш дом покой и безмятежность. Оно прекрасно, оно звучит, как благодать Господня. Это как на иврите: Борах ато Адонай. Пусть будет доброкачественной эта опухоль! Господи, да святится имя Твое, сделай ее доброкачественной! О, Израиль, услышь и смилуйся! Бог един, почитай отца своего и мать! Я клянусь, я буду почитать, только пусть окажется доброкачественной!
Так и оказалось. У нее на тумбочке я увидел «Семя дракона» Перл С. Бак[19]19
Перл С. Бак (1892—1973) – американская писательница, лауреат Пулитцеровской (1931) и Нобилевской (1938) премий. Роман «Семя Дракона» (Dragon Seed) написан в 1942 году.
[Закрыть] и полстакана имбирной газировки. Жуткая жара, я умираю от жажды. И мать тут же кивает на тумбочу:
– Пей, не стесняйся, мне уже не хочется.
У меня в глотке все пересохло, но мне противно – впервые в жизни – пить из ее стакана.
– Спасибо, не хочу.
– Пей, ты весь мокрый.
– Спасибо, не буду.
– Не строй из себя благовоспитанного мальчика.
– Но я не люблю имбирную.
– Ты не любишь имбирную?
– Ненавижу!
– Давно ли?
Бог мой, теперь я вижу, что она и вправду жива, что опять начинаются старые игры.
Первым делом она мне рассказывает про то, как к ней заходил рабби Воршоу, как он с ней проговорил целых полчаса и как она после этого «с легким сердцем легла под нож», – так и сказала, и как это трогательно с его стороны. Еще вчера она была под наркозом, а сегодня выясняется, она уже в курсе того, что я отказался сменить «ливайсы» на брюки и прочее. Вдруг какая-то тетка, которая бросала на меня с соседней койки влюбленные взоры, – а я все старался увернуться, – ни с того ни с сего объявляет, что рабби Воршоу самый уважаемый из жителей Ньюарка. У-ва-жа-е-мый, – она проговорила с той же безупречной интонацией, как и сам раввин, когда начинает свои проповеди. Мои пальцы сразу нетерпеливо забарабанили по бейсбольной рукавице, с которой я явился к матери в палату.
– Мой сын обожает бейсбол, – говорит мать. – Готов играть круглый год.
– Первенство клуба, – бормочу я. – Сегодня финал.
– Ну что ж, – сладко вздыхает она. – Ты свой долг исполнил, ты меня проведал. Беги теперь на свой финал. – Я вижу, что она счастлива. Счастлива оттого, что жива в этот сентябрьский день. А я? Разве я не об этом просил Бога, в которого не верю? Как мне стало легко! Что бы мы без нее делали? Кто бы нам готовил обед, стирал, гладил и все остальное? Вот о чем я молился. – Давай беги.
О, какой она бывает ласковой, какой заботливой. После операции ей принесли стакан газировки, а она готова отдать его, потому что мне хочется пить. Она и последний кусок мне отдаст – это точно. Когда я болею, она целый день играет со мной в канасту, а мне трудно побыть с ней в больнице несколько минут.
– Беги, – снова говорит она, и в это время миссис Уважаемая, которую я еще раньше возненавидел, начинает сюсюкать:
– Скоро мамочка вернется домой, скоро все будет хорошо, – говорит она, и мне хочется удавить ее вместе со всем ее участием и сюсюканьем. – Все-то им бегать. Уже забыли, как пешком ходить, дай им Бог здоровья.
И тут я побежал. Ох и рванул же я из этой палаты. Я пробыл у мамочки, наверное, целых две минуты. А ведь накануне доктора задрали ей подол (так, во всяком случае, мне это представлялось, пока она не сказала «легла под нож»), засунули какую-то железяку и вырвали нежные органы, как из цыпленка. Вытащили и выбросили в ведро все, чем она меня вынашивала. Там теперь у нее ничего нет, пусто. Бедная мамочка! Ведь она меня родила, ведь она столько пережила! Почему я убежал? Как я могу быть таким жестоким? «Ты не покинешь свою мамочку?» – спрашивала она. «Нет, не покину», – испуганно обещал я. А теперь, когда ее выпотрошили, я даже не могу смотреть ей в глаза. О, эти рыжие волосы, рассыпаные завитками по подушке! Я ведь мог их больше не увидеть! О, редкие бледные веснушки, которые, по ее словам, раньше были гораздо ярче и чаще! И они бы исчезли навсегда! О, эти глаза цвета медового пирожного, сияющие мне любовью! А я побрезговал выпить выдохшийся лимонад из ее стакана!
Прочь, прочь! Скорей на площадку, в самую середину. Я ведь играю центровым. Наша команда носит голубые с золотом майки, и у нас на спинах белыми буквами написано: «SEABEES, A. C.»
Спасибо Тебе, Господи, за эту майку, спасибо за центр поля! Доктор, вы даже представить себе не можете, что значит играть центровым. Вы что-нибудь понимаете в бейсболе? Центр – это такое место, откуда все видно, это самая главная позиция. По звуку удара, по тому, куда в этот момент все шарахнулись, ты уже знаешь траекторию мяча. Они его пропускают, а ты кричишь: «Мой!» и бросаешься за ним. Если ты играешь центровым, то это твое право, остается только поймать – а это твоя обязанность. Как тут здорово, насколько лучше, чем дома: если ты крикнул «мой!», то уж никто не будет на него покушаться.
Жаль, что не попал в школьную сборную. Я так нервничал, что не отбил несколько простых мячей, а тренер отозвал меня в сторонку и сказал: «Поди, сынок, купи себе очки». Но я был в отличной форме, у меня была своя манера, и я стал звездой в младшей лиге, где, конечно, игра чуть помедленней, а мяч чуть побольше. Конечно, доктор, я и там мазал, но, если попадал, мяч у меня улетал далеко, порой за забор, или, как говорят на стадионе, «домой». Ух, какое удовольствие вразвалочку пробежать вторую базу. А куда спешить, мяч-то улетел к черту на кулички. Или, когда играешь центровым, бывало, крикнешь «мой» и рванешься, и подхатишь его в дюйме над базой, а все уже решили, что дело в шляпе. Или, бывает, я говорю: «Мой!» и начинаю элегантно пятиться, грациозно отступать назад, к ограждению – медленно, а потом вдруг одно резкое движение ловушкой – и я хватаю мяч над плечом, как Димаджио – как с дерева снимаю, как дар Божий. Или: поворачиваюсь на бегу, в прыжке, распластываюсь в воздухе, как Ал Джинфридо – этот малыш, доктор, однажды совершил чудо. Или, допустим, просто стою на месте – довольный, счастливый, радостный – нежусь на солнышке, как сам Дюк Снайдер – царь зверей, король богов (кстати, его за это и прозвали Герцогом, вы о нем еще узнаете, доктор), стою себе, как стоят на углу, когда делать нечего, расслабленно и беззаботно. Я слышу, как Ред Барбер это комментирует скороговоркой: «Внимание, мяч вводится в игру! Какая фантастическая свечка! Мяч над Портным. Мяч над Портным! – а я не шевелюсь, я жду, когда он сам свалится мне в рукавицу. Плюх! – и вот он! – Алекс блестяще ловит мяч!…» Вот теперь я срываюсь, беру мяч пальцами, пробегаю вторую базу и мягким движением посылаю его в спину игрока противника, который удирает по кругу, а потом я показываю свою радость – элегантно приплясываю на бегу, подняв плечи, высоко поднимая колени, и качаю головой, как сам Дюк. О, восхитительная игра! Я и сейчас помню каждое движение: как нагнуться за рукавицей, как отшвырнуть, как берут биту, как примериваются, как несут, как ее надо поднять над головой, чтобы расслабились мышцы рук и шеи, как ее надо сначала покачать – все это точно и неукоснительно требуется совершить и только затем становиться на место хиттера тщательно, с точностью до дюйма – занести ее за плечо, так, чтобы она описала правильный круг, и отбить мяч. Или пропустить и уйти с поля, постукивая битой по земле, выражая таким образом свое недовольство чем-нибудь. Это все вошло в мою кровь, в мои мускулы. Каждая деталь настолько привычна, настолько заучена, что я просто не представляю ситуации на поле, когда я не знал бы, куда бежать и что делать, о чем сказать, а о чем помалкивать. Доктор, а ведь есть люди, которые и в жизни чувствуют себя, как в игре – слушайте, это невероятно! – вот так же уверены и всегда знают, что делать, как я, когда маленьким играл за «Сибиз». Представляете, они просто ходят по улицам Америки, их очень много. А почему я не такой, как они? Доктор, я, конечно, не был выдающимся центровым, я просто знал, как должен вести себя в игре, почему я не могу быть таким и сейчас? Сделайте меня снова центровым, доктор, сделайте, и больше мне ничего не надо!
Но они мне говорят, что я иудей, и этого довольно. Но я не иудей. Я атеист, для меня никаких религий не существует. Я не хочу притворяться и не желаю потакать папаше, когда он делает вид, что очень одинок. Я буду честным, и ему придется это слопать. Мне кажется, что они выдумали злокачественную опухоль, что там не было ничего опасного для жизни. Они просто воспользовались рядовой операцией удаления матки, чтобы заставить меня молиться, и я им этого никогда не прощу. В том, что самый у-ва-жа-е-мый человек в Ньюарке просидел полчаса у больного, я не вижу доказательства существования Бога, я не нахожу в этом никакой особой еврейской добродетели. Что он такого сделал, мамочка? Пусть бы кормил, выносил судно, а то посидел полчаса – и привет. Да, для него произносить пышные тривиальности и стращать – такое же удовольствие, как для меня играть в бейсбол. Он просто торчит на этом. Как все они. Мамочка, наш рабби Воршоу – обычный толстый обманщик, одержимый своей значительностью, – ему не перечь – да он настоящий персонаж Диккенса. От него в автобусе так куревом несет, что вы ни за что не поверите, будто он хоть сколько-нибудь у-ва-жа-е-мый. Он где-то услышал, что наименьшей единицей английского языка является слог, и теперь каждое слово произносится им по слогам. Даже «бог» у него состоит из трех слогов, а «Израиль» у него проговаривается так же длинно и с таким же скрежетом, как «рефрижератор». Ты помнишь, что он вытворял с именем Александр Портной у меня на бар-мицве? Для чего ему понадобилось без конца величать меня полным именем? Только для того, чтобы выглядеть значительней в глазах вашей малограмотной аудитории. И он своего добился. Еще как добился! Он же так зарабатывает. Его профессия – ходить по больницам и пудрить мозги умирающим, так же, как у нашего папочки – выбивать гроши из нищих. Если у тебя есть потребность в преклонении перед кем-нибудь, то обратись лучше к нашему папочке, он так же работает, но не строит из себя заместителя Господа по маркетингу и не тянет по слогам: «До-об-ро-о по-о-жа-а-ло-о-ва-ть в на-а-шу-у си-и-на-а-го-гу-у-у!» Господи, Го-о-спо-о-о-ди-и! Избавь нас от этого гундосого прононса, а если и вправду нас любишь – от этого рабби. Если ты и вправду такой всемогущий, избавь нас от этого иудаизма, лишающего евреев человеческого достоинства. Кому он нужен? Эх, мама, весь мир знает, а ты не знаешь, что религия – опиум для народа. Если мои убеждения кажутся вам коммунистическими, считайте меня коммунистом. Я буду гордиться, что мне всего четырнадцать и я уже коммунист. «Коммунист в России – лучше, чем еврей в синагоге», – говорю я папаше, и это производит эффект не хуже удара в живот. А я этого и хотел. Прошу прощения, но мне действительно очень близка идея равенства прав человека независимо от его цвета рожи и вероисповедания. Мои прогрессивные убеждения требуют, чтобы меня по понедельникам кормили вместе с черномазой домработницей.
– Да, я буду обедать с ней за одним столом. Понятно, мама? Я требую, чтобы ей давали такую же еду: мне жаркое – ей жаркое, а не вечного тунца.
Но мать и слышать не хочет.
– Кушать со шварцей? Что за глупости? Подожди, она скоро закончит.
Я отказываюсь считать чужого человека низшим существом, и никого не считаю (разумеется, кроме вас). Вы не понимаете принципа равенства! Клянусь, если этот расист еще раз при мне скажет «ниггер», я пырну его в сердце настоящим кинжалом! Вам все ясно? Я знаю, что после посещения черных кварталов у него от пальто сильно воняет, и его вешают в подвале. Так ведь это повод для сострадания и милосердия, сочувствия и терпения к тем, кого вы и за людей не считаете, к той же шварце. И к гоям. Что делать – не всем повезло родиться евреями! К тем, кому не повезло, нужно относиться с пониманием – они не виноваты, что так вышло. От вас только и слышно: они – гои, это для гоев, то по-гойски, – меня уже тошнит! Гойское – все плохое, еврейское – все хорошее. Неужели, дорогие родители, вы не понимаете, что ведете себя, как дикари? Так проявляется первобытный страх. Первое, что я от вас узнал, было вовсе не то, что есть свет и есть тьма, не холодное и горячее, не сладкое-кислое, а главное противопоставление: еврейское – гойское. И сегодня, когда вы, дорогие родители, дорогие родственнички и другие дорогие, собравшиеся здесь на мою бармицву, я хочу сказать вам, что вы все шмуки и я ненавижу вас за вашу тупость! А больше всех – этого У-ва-жа-а-е-мо-го рабби, который уже успел меня сегодня послать на угол за сигаретами – вы чувствуете, как от него воняет табачищем? Чувствуете, но ему об этом не говорите, – вы его слушаете. А я вам скажу, что на самом деле мир нисколько не определяется его гнусными категориями. Мир не погибнет оттого, что один подросток отказывается посещать вашу синагогу, не надо распускать сопли, не стоит убиваться из-за того, что ему нет дела до истории народа израильского. Вы лучше себя пожалейте, как вам не надоело пережевывать эту кислятину? У меня уже уши вянут от ваших бесконечных страданий. Слушай, страдающий народ, сделай милость, засунь свои страдания в свою многострадальную задницу, а от меня отвяжись. От вас только и слышно: ты еврей, ты еврей, ты еврей! Нет, я, прежде всего, человек.
– Но ты все равно маленький еврей, ты даже не представляешь, насколько ты еврей, и спорить с этим – как плевать против ветра, – говорит сестра.
Она сидит у меня на постели и нудит. Сквозь слезы я вижу ее крупное лицо с жирной кожей, навсегда объятое меланхолией. Ей уже восемнадцать, и она на первом курсе Ньюаркского педагогического колледжа. Еще она ходит заниматься народными танцами с такой же, как сама, здоровенной страшной коровой по имени Эдна Типпер, у которой, правда, каждая титька с голову величиной. А летом собирается работать в детском лагере Еврейского центра. Недавно она читала зеленую книжку «Портрет художника в юности» – вот и все, что мне о ней известно. Ну, еще, конечно, я знаю лифчики, трусы и как они у нее пахнут. Вот пакость! Ну и привычки! И когда я, наконец, от этого избавлюсь?
– Как ты думаешь, что бы с тобой было, если бы ты жил не в Америке, а в Европе? – продолжает она.
– Да не в этом дело!
– Тебя бы не было.
– Да я ж не про то!
– Тебя бы убили. Или расстреляли, или отравили газом, или отрубили голову, или сожгли живьем. Понятно? Ты бы мог там сколько угодно рассказывать, что ты не еврей, а просто человек, что ты знать не хочешь историю страданий народа израильского – все равно бы они тебя укокошили. Понимаешь, чем бы ты стал? Мертвецом. И я бы стала мертвецом…
– Я не об этом говорил!!
– И мама стала бы мертвецом, и папа наш тоже стал бы…
– Ну почему ты всегда на их стороне?
– Я ни на какой стороне, я просто хочу показать тебе, что отец у нас совсем не невежда.
– В принципе, ты права. Все так и было. Но когда видишь, что творится в этом доме, начинаешь нацистов оправдывать. Они нашли блестящее решение, они поступали с евреями самым остроумным образом.
– Оправдать? Ой, я не знаю, может быть… – говорит моя сестра и тоже начинает плакать вместе со мной.
Я кажусь себе настоящим монстром, потому что Ханночка оплакивает шесть миллионов невинно убиенных, а я только себя, во всяком случае, у меня такое ощущение.
ПИЗДОМАНИЯ
Я еще не рассказывал, как дрочил в автобусе № 107 по дороге из Нью-Йорка?
Мне было тогда пятнадцать лет. Это был один из лучших дней моей жизни. Сначала мы с Ханной и ее женихом Мотей Фейбишем посмотрели двойной матч на «Эббет-филд», а потом мы пошли обедать в рыбный ресторан на Шиппед-бей. Ханна с Мотей решили остаться у его родителей во Флетбуше, я поехал в метро на Манхэттен и там сел в автобус до Нью-Джерси. Было уже часов десять, и все пассажиры уснули еще в Линкольнском тоннеле, в том числе девица на соседнем сиденье. Я незаметно прижал свою вельветовую штанину к ее бедру под клетчатой юбкой и, едва мы выехали на фривей, вытащил петуха. Причем мне казалось, что я держу в руках не просто свой член, а всю свою жизнь. А если бы меня застукали? Или я не сдержался бы и кончил на руку спящей шик-се? Что было бы? Мастурбировать в междугороднем автобусе – это безумие. Однако ничто не могло меня остановить: ни то, что новый кэт-чер, Брюс Эдвардс, к нашей радости, взял шесть мячей из восьми, ни то, что потом, в ресторане, Мотя заказал мне омара (впервые в жизни!), ни общее состояние глубокого удовлетворения.
Не исключено, что как раз омар-то и сыграл в этом главную роль. Возможно, я поразился легкости, с которой можно нарушить древнее табу, и это позволило взыграть во мне диони-сийскому началу. Я увидел, что если не хныкать, не переживать и не казнить себя заранее, то можно сделать все, что тебе хочется. А зачем еще существуют все эти запреты и ограничения? Только затем, чтобы с детства на практике приучать маленьких евреев к мысли о том, что они должны быть гонимы. Тренируйтесь, дорогие детки, практикуйтесь! Настоящая подавленность на земле не валяется, ее требуется выпестовать, вырастить самоотверженным родителям в трудолюбивом и послушном ребенке. Для создания по-настоящему забитой твари нужны годы! А вы, дураки, спрашиваете, зачем у нас два набора тарелок, кому понадобилось кошерное мыло и кошерная поваренная соль? Да затем, чтобы три раза в день напоминать об ограничениях и запретах! Да тому, кто хочет постоянно тыкать носом в тысячи мелких и малюсеньких правил, придуманных самим Неизвестно-Кем. Ты должен подчиняться, независимо от глупости и абсурда всех этих требований, и получишь за это неизвестно чьи благосклонности. А если игнорируешь, ну, хотя бы оттого, что не хочешь чувствовать себя шмуком, то, как предупреждал папенька, твоего имени не окажется в главной книге, куда Неизвестно-Кто записывает всех, кому позволено дожить до нового года. Я себе это представлял так: этот Неизвестно-Кто садится и начинает вычеркивать, вычеркивать, вычеркивать, потому что у него болит голова (как у папы), у него запор, он плохо соображает, ему трудно разобраться, кто как нашкодил, – смертный это грех или какая-нибудь пустяковина – ему важно только, что кто-то не подчинился. У меня до сих пор поджилки трясутся.
Мамина маца призывает к покорности, обескровленный кошерный бифштекс – символ самоотречения; умеренность, дисциплина и непременное одобрение всех правил питания и поведения – вот фундамент еврейского благополучия. Мы себя ничем не оскверним. Это гои пусть едят всякую пакость, которая водится в грязи. Они любят мерзких жаб, ядовитых змей, тошнотворных угрей, крабов, омаров, отвратительную свинину. Эти человекообразные, которые только и делают, что пьянствуют, распутствуют и дерутся, не побрезгуют ни жареным шакалом, ни маринованной обезьяной – такая гнусь как раз соответствует их низости. Что они могут? Они могут только задирать нос, издеваться над евреями, оскорблять их, насмехаться и распускать руки. Еще они могут убивать невинных животных – запросто поехать в лес, нажраться пива и застрелить трепетного оленя, который никого и пальцем не тронет, только кушает травку и цветочки. Мерзавцы! Они еще норовят прикрутить его на багажник и хвастаться по дороге своим живодерством. Это же надо: резать на куски, варить и жрать ни в чем не повинное животное! Будто другой еды им нет! Да что олень – они любого съедят, кого поймают; какое им дело до чьего-то там сострадания – они вообще способны на все что угодно! Для них закон не писан. Так было всегда – исторический факт! И они правят миром!
…Так мне объясняли правила кошерности Софа П. и ее муж Джек, так их преподавали в ньюаркской школе, где у нас в классе было всего двое христианских младенцев, которые жили где-то на отшибе, и дома у которых я, разумеется, не бывал. Справедливы ли эти правила или нет, спорить не будем. Но вы только гляньте на героя нашего повествования, этот пятнадцатилетний щенок съел омара и тут же высунул из штанов петуха и дрочит на соседку-шиксу прямо в автобусе!
А вообще-то в нашем доме как омаров никогда не варили, так и шиксы ни одной не было. Могу только представить, в каком виде она вылетела бы из маминой кухни. Нашу домработницу мы за шиксу не считаем, потому что она черная.
Ха-ха. Шиксы у нас еще нет, но я ее туда приведу, это я им обещаю. Впрочем, папаша однажды привел на обед какую-то худенькую застенчивую кассиршу со службы, которуя звали Энни Маккафери. Я был тогда еще маленький.
Слушайте, доктор, неужели он спал с ней? Невероятно! У меня это не выходит из головы. Неужели трахал? Я помню, как она села ко мне на диван и стала, вероятно, от крайнего смущения, объяснять по буквам, как правильно произносится ее имя, подчеркивая, что оно заканчивается на «и», а я тем временем завороженно рассматривал ее тонкие белые ирландские ручки, все в веснушках, заглядывал за вырез беленькой блузки и видел, какие у нее хорошенькие грудки, поглядывал на ее ножки. Мне было всего восемь или девять лет, но у нее были такие классные ножки, что я совершенно обалдел. (Иногда просто поражаешься, как получилось, что восхитительные ножки принадлежат какой-нибудь старой деве с перекошенной физиономией?) Да, конечно, трахал, с такими-то ногами… А по-вашему, нет?
Он сказал, что пригласил ее попробовать «настоящей еврейской кухни». Он уже давно что-то говорил про новую гойскую кассиршу, постоянно подчеркивая, что она совершенно скучная особа и одевается как попало, которая, с первого появления в «Бостон энд Нордистерн», не дает ему покоя по поводу «настоящей еврейской кухни». Матери это надоело и однажды она сказала: «Хорошо, пригласи. Я ей покажу, что такое настоящая еврейская кухня».
Как к этому решению отнесся папаша, мы не знаем, но настоящий еврейский обед она получила. Я в жизни не слышал, чтобы определение «еврейский» повторяли столько раз подряд, ей-богу, уж я-то в этом разбираюсь.
– Вот это рубленая печенка по-еврейски. Вы пробовали печенку по-еврейски? Моя жена делает еврейскую печенку по всем правилам, можете быть уверены. Вот, кушайте ее с хлебом. Это ржаной еврейский хлеб, зерновой. У вас, Энни, неплохо получается, для первого раза. Правда, Софа, у нее хорошо получается? Берите печенку вилкой и мажьте на хлеб.
И в таком же тоне до самого сладкого:
– Все правильно, Энни, желе тоже кошерное, тут все кошерное. Нет, нет, после мясного сливки в кофе добавлять нельзя. Ты видал, Алекс, чего она захотела?
Прошло двадцать пять лет, и вот что я тебе скажу, дорогой папочка. У меня не то что каких-то доказательств, а даже тени сомнения не было в твоей непогрешимости. Но вот какой у меня теперь вопрос: зачем ты привел тогда эту шиксу к нам в дом? Неужели ты и вправду озаботился тем, что бедная гойка так и зачахнет, не попробовав еврейского желе? Или ты это затеял исключительно ради своего еврейского самобичевания? Ты не смог удержаться от того, чтобы не выставить напоказ какие-нибудь свои воображаемые прегрешения: вот, жена, какой я низкий и похотливый, осуждай меня, брани и поноси, и тогда мое сердце вполне заслуженно будет обливаться кровью. Типичный еврей-мазохист. Уж я-то знаю. Смотрите все, что я наделал! Ловите меня, казните меня, а то я и вправду когда-нибудь отважусь на что-нибудь ради своего удовольствия.
И что же мать? Сумела ли Софа привести ножки и титьки к общему знаменателю? Мне на это понадобилось двадцать лет. Впрочем, это все бред. Папаша и шикса? Абсурд. Я еще как-то могу согласиться, что он трахал мою маменьку, но чтоб шиксу? Нет, проще представить, что он ограбил бензоколонку.
А тогда к чему эти слезы и упреки, зачем она так орет на него, в чем он оправдывается? Что же он сделал такого, что она ему не простит? Скандал! Ханна обнимает мать, а та так орет на папашу, что у нее выступают на шее жилы и слезы текут прямо на линолеум. Или она орет на меня? Потому что я спрятался за папой. Кто ж из нас двоих провинился? Слушайте, доктор, это же просто клинический случай! Нет, кажется, не я – потому что это папаша стучит по столу и орет в ответ:
– Ничего подобного! Все неправда! Впрочем, может, и не он, а я кричу, выглядывая из-за его спины:
– Это не я! Это не я!
Значит, я обвиняемый, и мать плачет, орет – требует, чтобы папаша меня выдрал, как она мне и грозила, а он отказывается.
Когда я попадаюсь на мелочах, она прекрасно справляется сама. Я уже рассказывал, как она швыряла мне пальто, галоши, выставляла за дверь и объявляла, чтоб я убирался на все четыре стороны. Галоши, как это тонко рассчитано, какое действенное средство – запереть снаружи! Стоило ей это проделать, как я тут же начинал каяться, клясться и умолять о прощении – только бы меня приняли обратно, впустили туда, где мои вещи, где моя кровать и наш холодильник! Она могла бы получить от меня даже письменное обещание вести себя примерно до конца жизни. Когда же я совершал что-нибудь по-настоящему чудовищное, она только простирала руки и вопрошала Всевышнего, за что ей послано наказание в виде такого ребеночка, а уж для непосредственого наложения взыскания на мою задницу приглашала папашу. Моя маменька была слишком добра и чувствительна, чтобы самой производить экзекуции.
– Не могу, – жаловалась она тете Кларе. – Мне еще больней, чем ему. Уж так я устроена.
Ох, несчастная мамочка.
Но из-за чего этот шум? Доктор, мы с вами оба евреи, оба были мальчиками, давайте разберемся. Итак, совершено ужасное злодеяние. Подозреваются те, кто в этой семье обладает пенисом – папаша и я. Отлично. Это уже кое-что проясняет. Но какие конкретные действия каждого из этой парочки могли вызвать такой скандал? Ну, папаша… папаша, пожалуй, только в том случае, если он подозревается, что и вправду раздвигал кассирше ножки. А я? Не иначе, как я слопал порцию шоколадного пудинга моей сестрицы. А кто знал, что она оставила его на потом! Я и вообразить такое не в состоянии: не доесть пудинг! Ханна, мне восемь лет, я больше всего на свете люблю шоколадный пудинг. Как только я вижу на тарелочке в холодильнике матовый блеск шоколадной глазури – у меня крыша едет! Господи Иисусе, скандал из-за того, что я съел чужой шоколадный пудинг? Да, съел, но я не хотел никому причинять страдания. Я же говорю: я был уверен, что это просто остатки, что это ничье! Я не хотел! Кто вопит: я не хотел? Кто оправдывается, я или папаша? Конечно, он! «Софа, я не хотел никому плохого!»– конечно, он. Он еще будет оправдываться тем, что делал это безо всякого удовольствия? Что ты несешь? Если ты все-таки засадил ей, то так и скажи: «Да, Софа, я имел эту шиксу и мне абсолютно наплевать, что ты на это скажешь. Заткнись. Это не твое дело, потому что в этом доме мужчина пока что я!» И врежь ей, Джек! Любой гой так же поступил бы на твоем месте. Неужели ты думаешь, что охотник на оленей просит прощения у жены, когда его подозревают в прелюбодеянии? За что просить? Что за преступление в том, что ты введешь бабе член в специально предназначенное для этого место, подвигаешь туда-сюда и спустишь к обоюдному удовольствию? Это же минутное дело, а шуму потом! Почему ты обязан выслушивать всю эту брань? К чему каяться и посыпать себе голову пеплом? Слушай, почему мы перед этими суками вечно чувствуем себя виноватыми? Может быть, пора уже поставить их на место?
Что там сквозь слезы кричит моя мать: «Наш папа докатился до ужасных поступков», или «Папа, наш сын опять докатился до ужасных поступков»? Что-то такое кричит и поднимает на руки мою сестру Ханну. Это Ханну-то! Если мне восемь, то ей двенадцать, и значит, эту тушу уже даже вдвоем не поднять, а она поднимает ее и целует в зареванную страшную моську, приговаривая:
– Только на тебя, моя доченька, моя маленькая девочка, я могу положиться в этом доме.
Она сама говорила про Ханну, что ребенок «несколько полноват», да этому ребенку вообще нельзя давать шоколадный пудинг! Вот почему я съел ее порцию! Понятно? Так доктор прописал, а я тут, Ханночка, ни при чем. Ты сама родилась такой толстой. Я не виноват, что ты жирная уродка, а я стройненький и умненький. Я всегда был очень симпатичным мальчиком. Когда мамочка катала меня в колясочке, то все прохожие останавливались, чтобы посмотреть на мой пуним, – да тебе мама об этом рассказывала, она это всем рассказывает по сей день, – я в этом не виноват. Игра природы! Ты ж не винишь меня, что я родился на четыре года позже. Правильно, так решил Бог, так в его главной книге!