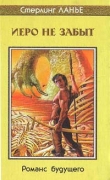Текст книги "Мир, который построил Джонс"
Автор книги: Филип Киндред Дик
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 12 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Глава 5
Все четверо в кабинете Каминского вокруг стола курили и прислушивались к отдаленному глухому стрекотанию выстрелов на подступах к тому месту, где все происходило.
– Для меня,– хрипло сказал Джонс,– все это в прошлом. Вот то, что я сижу здесь с вами, в этом здании, для меня это было год назад. Не то чтобы я видел будущее, нет, скорее одной ногой я стою в прошлом. И я не могу от этого отделаться. Я как бы все время запаздываю. Я как бы постоянно проживаю год своей жизни дважды.– Он содрогнулся.– Снова и снова. Все, что я делаю, все, что я говорю, слышу, чувствую,– все это я должен проделывать дважды.– Он возвысил голос, в котором звучали крайнее страдание и безнадежность.– Я дважды проживаю одну и ту же жизнь.
– Другими словами,– медленно произнес Кассик,– для вас будущее остановилось. Вы знаете его, но это не значит, что можете его изменить.
Джонс холодно рассмеялся.
– Изменить? Оно абсолютно неподвижно. Оно более неподвижно и неизменно, чем эта стена.– Он яростно шлепнул по стене ладонью.– Вы думаете, что я более свободен, чем остальные. Не обольщайтесь... чем меньше вы знаете о будущем, тем вам лучше. Вы способны заблуждаться, вам кажется, что вы обладаете свободной волей.
– А вы нет.
– Нет,– горько согласился Джонс.– Я карабкаюсь по тем же ступеням, по которым карабкался год назад. И не могу изменить ни одной. Я знаю этот наш разговор слово в слово. В нем не прозвучит ни слова лишнего из того, что я помню, и ни слова не потеряется.
– Когда я был мальчишкой,– с расстановкой заговорил Пирсон,– я любил два раза ходить на один и тот же фильм. И во второй раз у меня было преимущество перед остальным залом... И мне это ужасно нравилось. Я мог выкрикивать слова персонажей на долю секунды раньше актеров. Это давало мне ощущение власти.
– Точно,– согласился Джонс.– Когда я был мальчишкой, мне тоже это нравилось. Но я уже давно не мальчишка. Я хочу жить как все, жить обычной жизнью. Меня никто не спрашивал, и не я придумал все это.
– Ваш талант представляет собой особую ценность,– тонко заметил Каминский.– Как говорит Пирсон, человек, который способен выкрикнуть слово на долю секунды раньше, обладает немалой властью. Он возвышается над толпой.
– Я очень хорошо помню,– сказал Пирсон,– как я презирал их восхищенные рожи. Их широко открытые глаза, глупые улыбки, хихиканье, страх, как они верят во все, что там происходит, как они ждут, чем все это кончится. А я-то все знал, и я ненавидел этих дураков. Они внушали мне омерзение. Отчасти поэтому я и кричал в зале.
Джонс не сказал ни слова. Сгорбившись на своем стуле, он уставился в пол и не поднимал головы.
– Как насчет работы у нас? – сухо спросил Каминский.– Старшим Политическим Руководителем?
– Нет, спасибо.
– Ваша помощь нам бы очень даже не помешала,– сказал Пирсон.– В деле реконструкции. Вы могли бы помочь в объединении людей и ресурсов. С вашей помощью мы могли бы внести важные коррективы в нашу деятельность.
Джонс окинул его свирепым взглядом.
– Только одно сейчас важно. Эта ваша реконструкция...– Он нетерпеливо махнул тонкой костлявой рукой.– Вы только даром тратите время... главное теперь – шлынды.
– Почему? – спросил Кассик.
– Потому что перед вами вся Вселенная! Вы тратите время, чтобы переделать эту планету... Боже мой, да у вас могли бы быть миллионы планет. Новых планет, нетронутых планет. Планетных систем с бесконечными ресурсами... а вы тут сидите и пытаетесь переплавить никому не нужный старый лом. Набираете стукачей, и эти бедняги за гроши ковыряются в дерьме.– Он с отвращением отвернулся.– Людей стало слишком много. Еды на всех не хватает. Какая-нибудь одна планета, пригодная для жизни, решила бы все ваши проблемы.
– Например, Марс? – мягко спросил Кассик.– Или Венера? Мертвые, пустынные и враждебные планеты.
– Я говорю не про них.
– А про что же вы тогда говорите? Наши разведчики обшарили всю Солнечную систему. Покажите нам место, где можно жить.
– Только не здесь. Только за пределами Солнечной системы. Центавр. Или Сириус. Выбирайте.
– И там непременно будет лучше?
– Межзвездная колонизация возможна,– сказал Джонс.– Как вы думаете, откуда здесь взялись шлынды? Дураку понятно, они решили здесь поселиться. Они делают то, что не мешало бы делать нам самим. Они ищут планету, на которой смогли бы жить. Они небось летели сюда миллионы световых лет.
– Ваш ответ нас не вполне устраивает,– промолвил Каминский.
– Он устраивает меня,– сказал Джонс.
– Догадываюсь,– кивнул Каминский. Он явно встревожился.– Вот это и беспокоит меня.
Пирсон с любопытством спросил:
– Вы что-нибудь еще знаете о шлындах? Кто может появиться через год?
Лицо Джонса бесстрастно застыло.
– Поэтому я и стал священником,– сурово ответил он.
Все трое с нетерпением ждали продолжения, но Джонс не произнес больше ни слова. Слово «шлынд» означало для него что-то важное, видно было, что одно упоминание об этом пускало в ход внутри него какие-то сложные глубинные процессы. Нечто такое, от чего сразу искажалось его изможденное лицо. Словно из глубин его существа на поверхность всплывала раскаленная кипящая магма.
– Не очень-то ты их любишь,– заметил Кассик.
– Кого «их»? – Джонс, казалось, сейчас взорвется.– Шлындов? Явились сюда чужеродные формы жизни и хотят заселить наши планеты? – Он перешел на истерический визг.– Да вы понимаете, что происходит? Вы думаете, они надолго оставили нас в покое? Восемь мертвых планет – сплошные скалы! А тут Земля – единственное подходящее место. Вы что, ничего не понимаете? Они готовятся напасть на нас; на Марсе и на Венере у них базы. Кому нужен этот хлам, на котором ничего нет? Они пришли захватить Землю.
– Может быть, может быть,– тревожно сказал Пирсон.– Как вы сказали, они – чужеродные формы жизни? А может, и Земля им ни к чему. Может, наши условия жизни им совершенно не подходят.
Пристально глядя в глаза Джонсу, Каминский продолжил:
– Каждая форма жизни имеет свои, только ей присущие потребности... Что для нас ненужный хлам, другому покажется плодородной долиной.
– Единственная плодородная планета – Земля,– повторил Джонс убежденно.– Им нужна Земля. Поэтому они и явились сюда.
Наступило молчание.
Итак, вот он здесь стоит, вот он, этот страшный призрак, которого они так боялись. И смысл их собственной жизни в том, чтобы уничтожить его; они призваны для того, чтобы пресечь это, пока оно не стало слишком огромным и само не пресекло их существования. Он стоял перед ними... или нет, пожалуй, сидел. Джонс снова уселся на стул и курил частыми затяжками; худое лицо его было перекошено, и на лбу пульсировала темная жила. Его безумные глаза под очками подернулись пленкой и затуманились от ярости. Спутанные волосы, клочковатая черная борода, сам весь помятый, длиннорукий, с костлявыми ногами... Человек, обладающий беспредельной властью. И беспредельной ненавистью.
– А ты и в самом деле их ненавидишь,– задумчиво сказал Кассик.
Джонс молча кивнул.
– Но ты ничего про них не знаешь?
– Они здесь,– сказал Джонс срывающимся голосом.– Они вокруг нас. Они нас окружают. Они загоняют нас в ловушку. Разве не видно, чего они хотят? Покрывать огромные расстояния в пространстве, столетие за столетием... разрабатывать целую программу, сначала высадиться на Плутоне, потом на Меркурии... они приближаются, они уже совсем близко к вожделенной награде... они уже готовят базы для нападения.
– Нападения,– тихо и вкрадчиво повторил Каминский.– И вы об этом знаете? У вас есть доказательства? Или это лишь ваши домыслы?
– Через шесть месяцев, считая от этого дня,– заявил Джонс сдавленным металлическим голосом,– первый шлынд высадится на Землю.
– Наши разведчики высаживаются на всякие планеты,– сказал Каминский, хотя вкрадчивой уверенности в нем поубавилось.– Это ведь не означает, что мы хотим их захватить.
– Эти планеты наши,– сказал Джонс.– Мы осматриваем их, вот и все.– Подняв глаза, он закончил: – И шлынды делают то же самое, они осматривают Землю. Вот прямо сейчас они нас разглядывают. Неужели вы не чувствуете их взглядов? Мерзкие, отвратительные, враждебные глаза насекомых...
– Да он просто болен,– испуганно сказал Кассик.
– Вы и это видите? – продолжил Каминский.
– Я это знаю.
– Но вы видите это? Вы видите вторжение? Вы видите, как они захватывают, разрушают и все такое?
– Через год,– упрямо твердил Джонс,– шлынды станут высаживаться по всей Земле. Каждый день. По десятку, по сотне штук сразу. Орды шлындов. Все одинаковые. Орды неразумных, мерзких и враждебных существ.
Пирсон произнес с усилием:
– Ага, станут садиться рядом с нами в автобусах. Еще захотят брать в жены наших дочерей, правильно?
Должно быть, Джонс предвидел это замечание. Еще не успел Пирсон открыть рот, лицо его стало белым как мел и он судорожно вцепился в ручки кресла. Пытаясь пересилить себя и не потерять контроля, он процедил сквозь зубы:
– Народ не станет этого терпеть, приятель. Я вижу это. Будет много пожаров. Шлынды состоят из сухого вещества, приятель, они хорошо горят. Предстоит много уборки.
Тихим и злым голосом Каминский выругался.
– Разрешите мне уйти,– начал он, не обращаясь ни к кому в частности.– Мне это все надоело.
– Успокойтесь,– строго сказал Пирсон.
– Нет, я не могу этого выносить.– Каминский бесцельно заходил кругами.– Мы же ничего не можем сделать! Мы ведь и пальцем не можем его тронуть – он ведь на самом деле видит все это! Ему ничто здесь не угрожает – и он знает это.
Приближалась ночь. Кассик и Пирсон стояли в темном коридоре верхнего этажа. В нескольких шагах ожидал посыльный с почтительным выражением лица под стальной маской.
– Так-так,– начал Пирсон. Он весь дрожал.– Что-то здесь холодно. Приходите с женой ко мне обедать. Посидим, поболтаем о том о сем.
– Спасибо, с удовольствием. Вы еще не знакомы с Ниной,– ответил Кассик.
– Я понимаю, вы в отпуске. У вас медовый месяц?
– Что-то в этом роде. У нас прелестная квартирка в Копенгагене... мы уже начали ремонт.
– Как вам удалось найти квартиру?
– Родители Нины помогли.
– Ваша жена не служит у нас, нет?
– Нет. Она идеалистка и занимается искусством.
– А как она относится к вашей профессии?
– Ей не очень нравится. Она сомневается в том, что полиция вообще нужна. Мол, новая тирания.– Кассик иронически прибавил: – В конце концов, сторонники абсолютизма гоже вымирают. Еще несколько лет, и...
– Вы думаете, Гитлер тоже был провидцем? – вдруг спросил Пирсон.
– Думаю, да. Конечно, не таким, как Джонс. Ну там сны, предчувствия, интуиция. Для него будущее тоже было неподвижным и определенным. И он слишком полагался на удачу. Думаю, и Джонс скоро поставит на свою удачу. Похоже, он начинает понимать, зачем он появился на свет.
Пирсон держал какую-то бумагу в руке, рассеянно барабаня по ней пальцами.
– А знаете, какая сумасшедшая мысль пришла мне в голову? Спуститься туда, где его держат, ну туда, в камеру, раскрыть ему пасть и забить в глотку такую пилюлю, чтоб его разорвало в клочки, а потом уже подумать, что делать дальше.
– Его нельзя убить,– сказал Кассик.
– Его можно убить. Но врасплох его не возьмешь, вот что. Убить Джонса – значит постоянно держать под контролем каждый его шаг, обложить его со всех сторон. У него целый год форы. Когда-нибудь же он умрет, ведь он тоже смертен. Гитлер же в конце концов умер. Но в свое время в Гитлера были направлены тысячи пуль и бомб, ему подсовывали яды, а он все-таки ускользнул. Я займусь этим вплотную... я запру его в камеру и прикажу замуровать дверь. Хотя... у него на лице всегда написано, что дверь он все равно найдет.
– Вручить это лично,– обратился к посыльному Пирсон.– Вы знаете кому: вниз по лестнице, сорок пять-А. Где сидит эта высохшая мумия.
Посыльный козырнул, взял бумагу и рысью побежал прочь.
– Вы думаете, он сам верит всему, что тут наговорил? – поинтересовался Пирсон.– Про этих шлындов?
– Неизвестно. Но что-то в этом все-таки есть. Само собой, они высадятся и на Земле, они ведь продвигаются без плана, вслепую.
– Ну да,– ответил Пирсон.– Один уже приземлился.
– Живой?
– Мертвый. Сейчас ведутся исследования. Скорей всего, мы ничего не узнаем, пока не прибудет следующий.
– Хоть что-нибудь о нем уже можно сказать?
– Почти ничего. Гигантский одноклеточный организм, среда обитания – пустое пространство. Передвигается пассивно, механизм передвижения пока неясен. Абсолютно безвреден. Амеба. Толщиной в двадцать футов. Покрыта грубой шкурой – она предохраняет от холода. Ничего похожего на злобного захватчика: эти забытые богом бедняги просто скитаются там и сям и сами не понимают, где они и что они.
– Чем они питаются?
– Ничем. Они просто живут, пока не помрут. Ни органов питания, ни пищеварения, ни выделения, ни размножения – ничего нет. Какие-то недоделанные.
– Странно.
– Очевидно, мы просто натолкнулись на какое-то стадо. Ну да, конечно, они начали падать. Будут шмякаться то здесь, то там, рассыпаться на куски, пачкать машины, расплющиваться. Засорять озера и реки. Они, конечно, нас еще достанут! Станут шлепаться нам на голову, станут гнить. А скорей всего, лягут и спокойно все сдохнут. Изжарятся на солнце... Этот, кстати, погиб от жары, изжарился как сухарь. А тем временем мы что-нибудь придумаем.
– Особенно когда Джонс примется за дело.
– Не было бы Джонса, появился бы кто-нибудь другой. Ну да, Джонс способен на многое, в этом его преимущество. Он и стрельбу может вызвать, и все, что угодно.
– Эта бумага – приказ о его освобождении?
– Вы угадали,– сказал Пирсон.– Он освобожден. Пока мы не придумаем нового закона, он свободный человек. И может делать, что захочет.
Глава 6
Джонс стоял в крошечной, кругом выбеленной аскетической камере полицейского участка и полоскал рот специальным тоником доктора Шерифа. Тоник был противным и горьким. Он гонял его от щеки к щеке, задерживал на секунду в горле, а потом сплевывал в фарфоровую раковину умывальника.
За ним молча наблюдали двое полицейских в форме, стоя по обе стороны помещения. Джонс не обращал на них никакого внимания; всматриваясь в зеркало над раковиной, он тщательно причесался, потом протер большим пальцем зубы. Сегодня ему хотелось быть в форме: через час он собирался принять участие в важных событиях.
Он попытался вспомнить, что должно произойти сразу после этого. Он ожидал уведомления об освобождении – так, кажется. Это было так давно, прошел целый год, и подробности стерлись в памяти. Он смутно помнил, как вошел легавый, держа в руках какую-то бумагу. Да, именно так: это был приказ об освобождении. И сразу после этого – речь.
Он до сих пор помнил эту речь слово в слово, нет, он не забыл ее. Вспоминая эту речь, он всегда ощущал досаду. Все те же слова, все те же жесты. Все это проделывалось механически... Избитые приемы – как искусственные цветы, высохшие и покрытые пылью, обветшавшие под удушливым покровом унылой старости.
А тем временем его захлестывала волна жизни.
Он был человеком, глаза которого видели настоящее, а тело пребывало в прошлом. Даже теперь, когда он стоял в этой обеззараженной, стерильной камере, разглядывая свою грязную одежду, приглаживая волосы и потирая десны, чувства его были далеко, совсем в ином мире, в мире, который плясал от избытка жизни, который еще не успел постареть и обветшать. Много событий случилось за этот год. И пока он раздраженно скреб свой заросший подбородок, перебирал в голове старый хлам, волна, которая катилась вперед, в будущее, открывала перед ним всё новые мгновения, всё новые и волнующие события.
Волна будущего несла к его ногам самые диковинные ракушки.
Он в нетерпении подошел к двери и выглянул. Вот это уже было ему не по нутру, вот это вызывало у него отвращение. Время течет: течение его никак не ускорить. Оно тащится и тащится усталым слоновьим шагом. Никак нельзя заставить бежать быстрее это глухое чудовище. Через год он уже истощит свои силы, совершенно вымотается. Однако все это еще будет. Нравится ему или нет – скорее, конечно, нет,– но он еще раз переживет каждое мгновение, всем своим существом испытает все то, что раньше знал только разумом.
Так было всегда в его жизни. Всегда существовало несовпадение во времени, несовпадение его отдельных фаз. До девяти лет он думал, что каждый человек ощущает подобное повторение каждого осознанного мгновения. К девяти годам он уже прожил восемнадцать. Он совсем измучился, он чувствовал отвращение к жизни, он стал совершенным фаталистом. Через полгода он обнаружил, что он – единственный человек на Земле, который тащит на себе эту тяжесть. И с этого времени его смирение превратилось в яростное нетерпение.
Он родился 11 августа 1977 года в штате Колорадо. Все еще шла война, хотя Средний Запад она так и не затронула. Городишко Грили, штат Колорадо, она не только не затронула, могло показаться, что никакой войны вообще и близко не было. Никакая война не может коснуться каждого городка, каждого человека. На ферме, принадлежащей их семье, все шло почти как обычно: вяло текли каждодневные будни, которым, казалось, не было дела до страданий человечества.
Первые воспоминания его были странными. Позднее он попытался распутать их. Вялым зародышем в чреве он уже воспринимал впечатления еще не существующего для него мира. Скрюченный в раздутом животе матери, он замирает от страха, а вокруг него кружит непостижимая и яркая фантасмагория. Одновременно он дремал в каком-то черном промокшем мешке под ярким солнцем колорадской осени. Он познал страх собственного рождения задолго до того, как был зачат. К тому времени, когда зародышу исполнился месяц, травма рождения была уже в прошлом. А само это событие уже не имело для него никакого значения: когда он висел вниз головой в руке доктора, он уже прожил в этом мире целый год.
Все ломали головы, почему ребенок не кричит. И почему он так быстро всему учится.
Однажды он стал размышлять о своем действительном происхождении. Когда на самом деле, с какой точки началось его бытие? Плавая в чреве, он уже ясно понимал и чувствовал все, что с ним происходит. Как далеко уходят его воспоминания? За год до рождения он еще не представлял из себя чего-то целого, он не был даже оплодотворен: элементы, которые впоследствии составляли его существо, еще не сошлись вместе. И к тому времени, когда оплодотворенная яйцеклетка начала деление, видел и сознавал гораздо дальше момента собственного рождения: на три месяца вперед в жаркий, солнечный осенний день пыльного Колорадо.
Ему в конце концов надоело ломать голову над этой неразрешимой загадкой.
Еще в раннем детстве он привык к такому двойному существованию и научился объединять два временны′х потока, хотя это было не так легко. Месяцами он осторожно и настойчиво пытался разобраться во всей этой сложной путанице дверей, мебели, стен. Через год он уже добрался до своей первой ложки пищи и капризно отверг давно позабытую материнскую грудь. Эта путаница привела к тому, что он едва не умер от голода; тогда его стали кормить насильно и опять же силой предотвратили его уход из жизни. Натурально, все решили, что он дебил. Еще бы – ребенок, который ищет невидимые предметы, который пытается просунуть руку сквозь сплошную стенку детской кроватки...
Но в четыре года он уже говорил.
Воспоминания детства, усиленные двойным переживанием, никогда не покидали его. И одно из них настигло его теперь, в этой белоснежной, совершенно стерильной камере в полиции, когда он нетерпеливо ожидал документа об освобождении. Ему было девять с половиной, когда он впервые увидел взрыв водородной бомбы. Не то чтобы это была первая водородная бомба за всю войну, нет, эти бомбы десятками падали по всей Земле. Эта была первая, которая сумела пробить хитроумную систему обороны, прикрывавшую американскую глубинку: район между Скалистыми горами и Миссисипи. Бомба взорвалась в сотне миль от Грили. Радиоактивные частицы и пепел безостановочно выпадали в течение нескольких недель, заражая скот и уничтожая посевы. Из зоны вокруг эпицентра грузовики и автобусы без устали вывозили больных и покалеченных. А в ту сторону ехали колонны с военными строителями, чтобы установить ущерб, нанесенный взрывом, и окружить колючей проволокой гигантскую язву, пока она не будет обеззаражена...
По узкой грязной дороге мимо фермы Джонсов шла, казалось, бесконечная колонна карет «скорой помощи», перевозивших пораженных в больницы и госпитали, срочно выстроенные на окраине Денвера. В обратную сторону двигался поток необходимой помощи для тех, кто еще оставался жить в пораженном районе. Как зачарованный, он стоял и смотрел на это движение. С утра до ночи не ослабевал поток автобусов, грузовиков, карет «скорой помощи», пешеходов, велосипедистов, с собаками, домашним скотом, овцами, курами – пестрая разноцветная масса, окруженная разнообразными звуками; мальчик вдруг услышал отдаленные стоны и взволнованно бросился в дом.
– Что там такое? – пронзительно кричал он, дико приплясывая вокруг матери.
Эдна Джонс, его мать, выпрямилась над стиркой. Она отбросила прядь прямых жидких волос со лба и сердито обернулась к мальчику: усталость и раздражение – больше ничего не выражало ее серое, морщинистое лицо.
– Что еще ты там болтаешь? – спросила она недовольным тоном.
– Машины! – кричал он, приплясывая у окна и показывая пальцем.– Ты видишь? Куда они едут? Что случилось?
За окном не было ничего, по крайней мере для нее: она не могла видеть того, что видел ее сын.
Стремительно выскочив на улицу, он снова стал глядеть на колонну, причудливыми силуэтами в свете заходящего солнца пропадавшую за горизонтом. Они все шли и шли... но куда? Что там такое случилось? Он побежал на самый край фермы – дальше ему ходить запрещали. И вдруг ему преградила путь проволока, ржавая, перепутанная колючая проволока. Он почти видел лица людей, почти понимал боль, которую испытывали эти люди. Если бы только подойти поближе...
И в этот момент он очнулся. Только он один видел это шествие смерти. Все остальные, даже сами обреченные, не видели ничего. Он узнал там одно лицо, лицо старой миссис Лиззнер из Денвера. Да, она была там! И лица других людей, тех, которых он встречал в церкви. Все они были не чужие, все соседи, местные жители. Они составляли его окружение, его мир, сморщенный, высохший мир Среднего Запада.
На следующий день старенький, весь покрытый пылью «олдсмобиль» миссис Лиззнер подкатил к их ферме: она решила навестить его мать и выпить с ней чашку чая.
– Вы видели? – сразу закричал он ей.– Вы это видели?
Нет, она ничего не видела. И в то же время она была частью этого. Итак, сомнения больше не оставалось: без толку искать у других ответы на свои вопросы.
В десять лет он наконец сам понял, что к чему, когда и в самом деле взорвалась эта бомба. Миссис Лиззнер умерла, местность вокруг превратилась в пустыню. Эта единственная в своем роде катастрофа, никогда больше не повторявшаяся, не наблюдавшаяся ни раньше, ни потом, не оставляла ему никаких сомнений. То, что когда-то видел он один, теперь коснулось каждого. И эти два события, без сомнения, были связаны одно с другим.
Само собой, он никому ничего не сказал. Когда до него дошло, в чем тут дело, желание говорить об этом пропало.
Он больше не вернулся на ферму. Поняв, что он не такой, как все другие, он не захотел больше заниматься бессмысленным крестьянским трудом. Монотонная работа на ферме для него еще и удваивалась, а это было совсем невыносимо. Пятнадцатилетним костлявым, вытянувшимся подростком, с какими-то своими тараканами в голове, он собрал все свои деньги (что-то около двухсот долларов) и уехал.
Окрестности Денвера с трудом приходили в себя после взрыва. Но он ничему не удивлялся. Год назад он уже предвидел это свое путешествие. Снова, и на этот раз непосредственно, он осматривал зияющий кратер, который оставила бомба, размышляя о тысячах людей, в один миг превратившихся в пепел. Потом он сел в автобус и уехал из Колорадо. Через три дня он уже бродил меж руин Питтсбурга.
Многие заводы здесь все еще продолжали работать. Под землей громыхали кузницы. Но Джонсу на все на это было наплевать, и он продолжил свое путешествие пешком, милю за милей шагая мимо дымящихся развалин и груд искореженного металла – когда-то здесь был крупнейший в мире промышленный центр. Все еще действовали законы военного времени, часто попадались патрули, то и дело останавливающие его для проверки документов.
Когда ему уже было пятнадцать плюс три месяца, он попал-таки в руки компетентных органов; его допросили, сняли отпечатки пальцев и приставили к делу. Его отправили в трудовой батальон, и хоть противно все это было, но он ведь знал, что именно так и случится. Несколько месяцев подряд вместе с другими он с мрачной яростью голыми руками таскал камни, очищая город от развалин,– других средств или каких-нибудь инструментов почти не было. К концу года прибыла техника, и работу вручную прекратили. Он возмужал и окреп и сильно поумнел. И когда ему вручили автомат и отправили на трещавший по швам фронт, война кончилась.
Все это он предвидел. Он смылся из своей части, первому попавшемуся загнал свой автомат за хороший обед и выбросил военную форму. Через день он уже тащился по той самой дороге, с которой начал путешествие; он шел пешком, на нем были джинсы и рваная футболка, за спиной мешок; он пробирался через хаос развалин, оставшихся от войны, созерцая этот новый мир, превратившийся в пустыню.
Почти семнадцать лет его двойная жизнь проходила совершенно бесцельно. Тяжким, мертвым грузом давила на него эта жизнь. Ему и в голову не приходило, что он может как-то использовать свой дар. Он нес его как крест, ни о чем не задумываясь. Жизнь – тяжелая штука, а для него она была тяжелей вдвойне. Ну что тут хорошего, если знаешь, что тебе не избежать несчастий, которые постигнут тебя через год. Если бы миссис Лиззнер могла видеть, как ее останки везут по дороге, ей бы от этого легче не стало.
Нужно было, чтоб кто-нибудь научил его извлекать из своего таланта пользу, чтоб кто-нибудь показал ему, как его можно применить в этой жизни. Таким человеком оказался толстый, вечно потный торговец, одетый в розовую полосатую рубашку и лимонного цвета штаны, владелец потрепанного «бьюика». На заднем сиденье его машины кучами громоздились хрупкие коричневые коробки. Сгорбившись от усталости, Джонс шагал по пыльной обочине, когда возле него с ворчанием остановился «бьюик». Садившийся в эту машину еще год назад Джонс и не обернулся. Сдернув мешок со спины, он молча уселся рядом с водителем.
– Не слышу благодарности,– обиженно пробормотал Хиндшоу, трогая.– Может, хочешь пройтись пешком?
Джонс откинулся на изодранную обивку сиденья и затих. Он знал, что будет дальше: Хиндшоу и не собирался его высаживать. Хиндшоу очень хотелось поболтать с кем-нибудь. Он любил поболтать. Из этой болтовни юноша узнал для себя немало ценного.
– Куда едем? – спросил любопытный Хиндшоу.
В зубах у него торчал мокрый огрызок сигары. Пальцы элегантно вертели баранку. Заплывшие жиром глазки, казалось, могли перехитрить весь мир. Пятна от пива давно лишили рубашку ее естественного цвета. Это был неряшливый, беспечный, насквозь порочный тип, весь пропахший потом и дорожной пылью. И еще он был великим мечтателем и отпетым мошенником вдобавок.
– Никуда,– сказал Джонс с обычным для него угрюмым безразличием. За двенадцать месяцев этот вопрос ему порядком надоел.
– Держу пари, куда-то ты все-таки направляешься.
И вот тут случилось это самое. Слова, действия, которые имели место по периметру движущейся волны, замерли. Год назад измученный мальчишка бездумно произнес какую-то грубость. У него было достаточно времени, чтобы собрать приличный урожай с того, что из этого выросло.
– Я вот тоже знаю, куда едешь ты.
– Ну и куда? – весь вспыхнув, отпарировал Хиндшоу (он ехал в местечко неподалеку, с дурной репутацией, а этот район все еще был на военном положении).
Джонс спокойно стал отвечать.
– Откуда тебе известно? – хрипло спросил Хиндшоу, прерывая подробный рассказ Джонса о его собственной предстоящей деятельности.– Откуда ты набрался таких слов, проклятый щенок? – заорал он испуганно и весь побелев.– Кто ты такой, черт подери, ты что, читаешь чужие мысли?
– Нет,– ответил Джонс.– Просто я тоже еду туда с тобой.
Эти слова отрезвили Хиндшоу. Несколько минут он не мог раскрыть рта; присутствие духа совсем покинуло его; он вцепился в баранку и только пристально глядел на изрытую ямами, разбитую дорогу. То здесь, то там по обеим сторонам попадались брошенные коробки домов. Это были окрестности Сент-Луиса; после успешного обстрела советскими снарядами с бактериологическими наполнителями все люди отсюда были эвакуированы. Местные жители до сих пор еще работали в трудовых лагерях, восстанавливая жизненно важные объекты: в первую очередь промышленные и сельскохозяйственные предприятия.
Конечно, Хиндшоу был напуган, но жадность, вторая его натура, пробудила в нем дикое любопытство. Он из чего угодно мог извлечь для себя выгоду. Бог знает, чего он только не повидал в жизни. И он осторожно продолжил:
– И тебе известно, что в этих коробках,– он ткнул пальцем в сторону заднего сиденья,– попробуй угадать с трех раз.
Но не в природе Джонса было угадывать.
– Магнитные пояса,– не моргнув глазом ответил он.– Пятьдесят долларов за штуку, сорок – оптом, от десяти и выше. Гарантируют безопасность от токсической радиоактивности и бактериологического заражения, если нет – деньги назад.
Взволнованно облизнув губы, Хиндшоу спросил:
– Может, мы с тобой раньше встречались? Где-нибудь под Чикаго? И я говорил тебе об этом?
– И ты еще попытаешься втюхать мне один. Когда остановимся набрать воды.
Хиндшоу вовсе не собирался останавливаться, он и так опаздывал.
– Воды? – промямлил он.– Какой воды? Ты что, хочешь пить?
– Радиатор течет.
– Откуда ты знаешь?
– Через пятнадцать минут...– Джонс стал соображать – он уже забыл, через сколько точно.– Или где-то через полчаса загорится вот эта лампочка, температура. И ты обязательно остановишься. Воду найдем в заброшенном колодце.
– И тебе все это известно?
– Да, мне все это известно.– Джонс раздраженно оторвал висевшую полоску изодранной обшивки сиденья.– Стал бы я говорить.
Хиндшоу не произнес ни слова. Он молча крутил баранку; прошло минут двадцать, как вдруг загорелась лампочка температуры, и он быстро съехал на обочину.
В полной тишине раздавался только жалобный свист радиатора. Несколько струек дыма от перегретого масла спиралями поднимались вверх из отверстия на капоте.
– Так,– пробормотал Хиндшоу дрожащим голосом, нащупывая дверную ручку.– Пойдем посмотрим? Так где, ты говоришь, колодец?