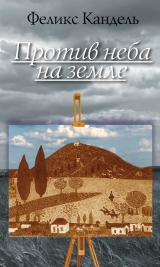
Текст книги "Против неба на земле"
Автор книги: Феликс Кандель
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 14 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
– Из Варшавы мы побежали на Украину, с Украины в Сибирь. Нас бомбили. От ужаса начались схватки. И родилась доченька‚ твоя жена, слабой и недоношенной… Ехали в товарном вагоне. Не было пеленок. Распашонок. Молока у меня тоже не было. Из соседней теплушки принесли куклу. Большую‚ с закрывающимися глазами. Куклу раздели‚ ее платье отдали доченьке. Она и была как кукла...
Старомодных надо беречь. Старомодные – охранители прошлого. У нее десятки крохотных зеркал‚ у тещи Беллы‚ которые она держит под запором‚ в мягкой рухляди‚ чтобы не захватали руками. "В этом отражался отец. В этом – мама. В том – непутевый мой муж…" На полке под стеклом стоят книги. К книгам прислонены фотографии‚ с них поглядывают родные с друзьями: слева живые‚ справа оплаканные. Получив очередное сообщение‚ Белла переставляет фотографию с одной стороны на другую‚ не надеясь на память‚ которая может подвести. В один из дней Шпильман обнаружил‚ что справа разместились улыбающиеся лица‚ слева – пасмурно озабоченные‚ словно переход в иной мир освобождает от хлопот-огорчений.
– На Голанах погибла вся рота. Нам сказали – ты тоже. Кто-то даже видел: в танке или около. У нее начались схватки‚ и родился семимесячный – еле выходили. Тебе сын‚ мне внук... Что же это за век такой? Отчего все недоношенные?..
У Шпильмана нет ответа. У нее – тоже.
– Век прожила в скудости. Ела что придется. Носила что попало. Кровать со шкафом не поменяла ни разу. Умру – так и не узнаю‚ какой матрац мягче‚ какие наряды лучше… Шпильман, ты мне сочувствуешь?
– А как же. Слетать бы тебе в Европу, навестить свое детство.
– Нет моего детства. Удушили его. В газовой камере. Играют теперь на сцене, смакуют идиш, бывших своих соседей поменяв на выдуманных, которые под гримом. Этих они любят.
Берет со сковороды котлету, сочную, румяную, истекающую ароматами, подкладывает ему на тарелку:
– Ад уже был на земле. Мы прошли через ад. Есть надежда, что его отработали и попадем теперь в рай.
– Будем рассчитывать на лучшее, теща моя.
– Лучшее для меня – чтобы не стало хуже, зять мой.
Смотрит‚ как он подбирает еду‚ бурно вздыхает:
– Тебе плохо‚ Шпильман.
– Мне хорошо. Меня усыновили в супермаркете. Прихожу к открытию‚ спрашиваю: что купить? Собирается совет – продавщицы с кассиршами. Все меня знают‚ все жалеют. "Возьми курицу". – "Надоело". – "Шницели". – "Видеть не могу". – "Гамбургер с картошкой". – "Уйду в другой магазин!.." Это на них действует‚ и они предлагают: "Фаршированные перцы". – "Перцы?" – "Перцы. Легко приготовить". – "Что для этого надо?" Берут за руку‚ ведут по магазину‚ набирают нужные продукты – сам себе завидую.
– Ты бы женился‚ Шпильман. Тяжко одному.
– Я не один. У меня ежик.
5
День из дней. Вечер из вечеров. Она является теперь незваной‚ женщина‚ которой Шпильман недодал в лучшие ее годы‚ – так она считает. Оглядывает комнату с камином‚ ввысь вознесенный потолок‚ чистоту с покоем‚ буйство домашних произрастаний – не может отдышаться.
– Ты торопилась? – спрашивает Шпильман.
– Я поднималась по лестнице.
Излишества портят фигуру и притупляют ощущения‚ но обида держится до конца‚ передаваемая по наследству.
– Что ты от меня бегаешь‚ Шпильман?
Цвет опал. Лето миновало. Ночи удлинились и похолодали. Она кокетничает еще по привычке‚ эта женщина‚ но кокетство шло ей дюжину морщин тому назад. Она надеется‚ возможно‚ на продолжение‚ но смотрит на нее не тот Шпильман‚ другой Шпильман‚ совсем‚ быть может‚ не Шпильман. Ноги идут за сердцем – туда‚ где некогда ожидало желание‚ а прошлое стерто‚ смыто‚ прошлое осталось лишь в памяти прикосновений‚ не более; с этой женщиной не о чем помолчать‚ ибо молчание – явление обоюдное‚ настоенное в глубинах ощущений.
– Шпильман‚ – просит женщина. – Увесели надеждой.
Он не понимает порой‚ что она спрашивает. Она не понимает‚ что он отвечает. Так они беседуют.
– Вам повезло‚ – сказал агент по продаже недвижимости. – В ваш дом въезжает интеллигентная семья‚ которую не увидишь‚ не услышишь их криков.
Это оказалась тихая семья‚ которая производила много шума. У них постоянно сверлили‚ прибивали‚ вколачивали‚ перестилали полы‚ меняли ванны с унитазами‚ ломали и возводили перегородки‚ чтобы затихнуть ненадолго‚ набраться сил и средств‚ вновь поломать‚ высверлить и перестроить‚ расходуя деньги и соседские нервы. В этом непрерывном обновлении находило выход несогласие с жизнью‚ стихийное желание перемен‚ но когда хозяйка квартиры обратила внимание на Шпильмана‚ у них всё затихло. Отключились дрели. Отпали за ненадобностью молотки с зубилами. Осталась непрокрашенной половина стены. Шпильман копошился под обломками порушенной жизни‚ ослепший от страданий‚ тыкался кутенком в поисках тепла и наткнулся на тело‚ которое приняло его‚ обогрело‚ обволокло заботой. Она жила в соседнем подъезде‚ и это было удобно. Она прибегала в любое время‚ лишь только представлялся случай‚ неутомимая во всех отношениях‚ и когда он приоткрыл наконец глаза‚ уже приняла решение. "Мой Шпильман"‚ – сказала подругам‚ как застолбила участок‚ а он уходил‚ он выбирался из-под развалин‚ прозревший и сконфуженный. Повиниться бы теперь: "Виноват‚ милая" – вызвать бурные укоризны с пролитием слез. Покаяться: "Я тебе благодарен" – пробудить необоснованные надежды. Она звонит из уличных автоматов для заполнения порожних секретов – так оно завлекательнее‚ взывает с упреком: "Куда ты опять пропал?.." А он не "опять"‚ он давно и навсегда‚ но этим "опять" поддерживается ниточка отношений: годы совместной тайны‚ как годы совместной жизни – не перечеркнуть. В сущности‚ можно ее пожалеть‚ но почему рядом с несчастной женщиной должен оказаться еще один несчастный мужчина?..
– Шпильман‚ тебе не надоело быть Шпильманом?
– Пока нет.
– А мне невмоготу с собой.
– Что-нибудь подберем...
...назовем ее Ципи‚ а лучше Шош, Кохи, Рухи, Браха. Она брюнетка – нет‚ брюнеток и так много‚ – пусть будет шатенка‚ но крашенная в рыжину‚ в проблескивающий на солнце густой медный окрас. Шош – секретарша‚ секретарша у высокого начальства‚ которая не сделает того‚ чего не пожелает‚ не пойдет туда‚ куда не захочет‚ которую не уволить – только терпеть и ублажать. Черты лица грубо прорезаны. На пальцах крупные кольца с камнями‚ в ушах тяжелые серьги‚ на шее тройной ряд ожерелий‚ в руке сигарета‚ на столе вечная чашка кофе устрашающей крепости‚ на стене карточка счастливой семьи: Шош – пятнистые трико в обтяжку могучих форм‚ муж-добытчик возле фургона "Ремонт–покраска"‚ дети-погодки в широченных штанах ниже колен‚ еще мелкие‚ но уже нагловатые‚ наследующие папину хватку. У Шош высокая талия‚ тяжелые бедра с уверенной походкой‚ распахнутые одежды и желание во взоре – не уклониться от жребия. За ней увязываются и от нее бегают‚ получив свое‚ мужчины всех возрастов‚ отмываясь под душем от пахучих объятий; за ней хвостом тянется легенда‚ но это не доступность‚ нет‚ это превосходство сытой женщины‚ от которой многое зависит...
– Не балуешь ты меня‚ Шпильман...
...назовем деву Матильдой‚ неотразимой Цецилией‚ привезем из Канады‚ нет‚ лучше из Рио‚ умыкнув с очередного карнавала‚ долгоногую‚ самбой распаленную‚ без видимых на теле покровов. Отец у нее еврей‚ мама – мулатка: приодеть в пристойное платье до пола‚ подобрать парик‚ провести через гиюр‚ поменять имя на Фейгу‚ выдать замуж за строгого хасида в черных одеяниях‚ поселить в Бней-Браке‚ наделить многоплодием... – но глаза выдадут‚ глаза не упрячешь‚ пусть лучше протанцует самбу от Хайфы до Эйлата‚ продлив до старости тот карнавал‚ мимоходом выходя замуж‚ рожая детей‚ выкармливая пиццей и макаронами‚ облачая в подаренные наряды, меняя между делом вздыхателей‚ словно хранятся они в шкафу‚ обвисли рядком на плечиках‚ чтобы примерить перед выходом из дома‚ опахнуть дерзкими ароматами, – но вздыхателям‚ и ей тоже‚ не сбежать от буйного темперамента...
– Это уже получше.
Досада – ее укрытие…
– Я всё о тебе знаю, неблагодарный. Всё!
– Ну уж… Всё о себе и мне неизвестно.
Они сидят на балконе и смотрят друг на друга: вот женщина‚ из-за которой задерживаются закаты. Мир утихает в ожидании‚ готовясь к вечернему сеансу‚ даже неумолчный рокот с далекого шоссе. Багрянец по кромке небес – не насытиться взором‚ и самолет проскальзывает в синеющей чистоте над здешней сутолокой‚ поблескивая подсвеченными крыльями‚ подмаргивая Шпильману сигналами опознавания.
– Господи! Одним ничего‚ а другим самолет в небе... Конечно‚ в такой квартире можно любить эту жизнь.
Шпильман привык к вечным ее наскокам: лишь болезненная гордость чувствительна на уколы.
– Самолет входит в стоимость квартиры‚ – говорит он. – Это оговорено в договоре при покупке. Каждым вечером‚ для завершения дня.
Самолет входит в стоимость квартиры. И окрестности‚ которые не присвоить глазом. Прозрачность глубин в горах‚ чувствами обогретая растительность на склонах‚ поверху накинутая взвесь печали – горечью неминуемого расставания. Кому оно перейдет по наследству? Кто убережет-озаботится? Для кого жизнь сделается пригожей‚ без непременных бедствий‚ и войдет наконец в стоимость квартиры?..
Блекнет багряное великолепие. Балкон открыт всем ветрам. Двери ветрам открыты. Окна.
– Вот человек‚ которого всё устраивает‚ – говорит женщина‚ на что-то еще надеясь. – Дни проводящий в затыкании ушей. Обожравшийся оптимист‚ которого ничем не проймешь.
Но это не так.
6
Ежик старел. Силы заметно убывали. Иголки на спине седели, выпадая от прикосновений‚ ломкие и неколкие для врага. Ныли лапки‚ ныло его нутро‚ не желая сворачиваться в клубок, задремывали желания‚ затухал аппетит‚ замирали жизненные потребности‚ пробуждаясь вразнобой, без необходимого на то согласия. Ежик зарывался в палую листву и размышлял в оцепенении‚ кто же им позавтракает напоследок. Лисы. Шакалы. Бездомные собаки. Или расклюют поганые вороны. Шпильман подобрал его на тротуаре‚ забредшего невесть откуда‚ сослепу затерявшегося в толчее обуви‚ и принес домой‚ чтобы принял смерть от старости. Достойную смерть в достойных условиях.
– Вместе‚ – сказал‚ – продержимся...
Синь густеет понизу. Глохнет – тускнеет – черепица на крышах. Голоса слышнее издалека‚ лай собак к ночи. Солнце укатывается в горные долины‚ чтобы окунуться в море в вечернем купании и явить себя поутру в чистоте намерений. Глазу раскрываются невозможные дали: пустоты пустот или глубины глубин? Неслышно опадают росные капли‚ смачивая перила на балконе‚ стол со стульями‚ серебрят кудри на голове у Шпильмана. Розоватая кисея разметывается предзакатными ветрами – сквозь нее проглядывает звезда‚ пыхает напоследок угольно-багровым жаром в отчаянной попытке удержать свет‚ цвет‚ восторг.
Чем занимаются люди‚ какими привычностями‚ о том можно не спрашивать. Но чем занят Всевышний в извечных Своих хлопотах? Творит чудесные опыты. Переводит стрелки на путях заблуждений. Наполняет время содержанием‚ выстраивает и заселяет пространства‚ умудряя обитателей и подсчитывая потери. А чем Он занимается в редкие минуты покоя? Наводит сумерки небесные‚ творит закаты‚ которые не повторяются‚ на радость Себе и Своим созданиям.
Укатить солнце в укрытие и тушью‚ волосяной кисточкой прочертить по окоёму контуры приметных возвышений. Перебрать полотнища в закатных окрасах‚ выбрать приглянувшееся‚ непопользованное‚ павлиньим хвостом на полнеба. Укрепить месяц – вызолоченным ноготком на взлете. Разместить поодаль переливчатое создание – пусть это будет Венера. Горстью‚ из лукошка – сеятелем по яшме небес – раскидать маловидные созвездия‚ которым продержаться до рассвета. Щедро‚ единым мазком нанести облако – синь поверху‚ розоватость прощального отсвета в подбрюшии. Пробудить к ночи духовитость цветений, подкурить дымчатую взвесь волшебства‚ подписаться росчерком пера – падучей звездой наискосок‚ залюбоваться‚ запрокинув голову‚ – творение завершено‚ декорация выстроена для вечернего спектакля‚ и он начинается.
Зрителей немного. Всего двое. Впитывающие и насыщающиеся для душевной пользы. Шпильман на стуле в поздние свои шестьдесят и сникший, усталый ежик в ранние его семьдесят. "Господи! – взывают в молчании. – Опустись хоть однажды на этот балкон! Присядь рядом! Взгляни отсюда на дело рук Своих…" Днем балкон обращается в стол для птиц‚ которые приносят еду‚ суетливо насыщаются‚ не убирая за собой‚ и Шпильман находит потом шелуху от зерен‚ остатки исклеванных ягод‚ иссохшие корки‚ которые не пробить клювом. Наведывались на балкон и бродячие кошки‚ считая его своей территорией‚ жили на нем‚ спали на нем‚ рожали шелудивое потомство‚ а когда появился ежик‚ кошки от обиды и ревности стали мочиться у дверей‚ запахами выказывая Шпильману едкий протест. Новый квартирант поговорил с ними по душам‚ и они ушли на другие‚ незанятые еще балконы. Ежик спит теперь на подстилке возле дивана‚ лакает молоко‚ уплетает с аппетитом куриные котлеты‚ в жаркие дни лежит перед крохотным вентилятором‚ а тот его обдувает. Вентилятор дрожит от старания‚ неприметно ползет по скользкому плиточному полу‚ путешествуя на поводке по комнате‚ и ежик передвигается вместе с ним‚ овеваемый прохладными струями. Ему‚ неболтливому‚ Шпильман раскрывает тайники чувств:
– Была у меня жена‚ а кому-то дочь‚ кому-то мать‚ бабушка кому-то. Но мне-то жена‚ плоть моя‚ владычица души моей...
Она работала в музее, в глубоких его подвалах, и Шпильман приходил туда, садился рядом, наблюдая за плавными движениями женщины, без которой не было ему жизни. Из ближних и отдаленных раскопок привозили во множестве черепки, собранные в одном месте, укладывали на стол, а она их подбирала и склеивала – вдумчиво, терпеливо, один к одному, чтобы из битых останков выстроить вазу для цветов, кувшин для вина, сосудец под благовония. Черепок прикладывался к черепку, осколок к осколку, прошлое проявлялось на глазах, выказывая свои формы, оставляя прогалы от несысканных частей, а Шпильман наполнялся покоем, утихали волнения его души, заново собранной из лоскутков, возникала потребность оценить себя по справедливости и проложить путь до завтра.
Говорит ежу:
– Высмотрено в поколениях. Праведникам даны полные годы – родиться и умереть в тот же день... У нее была разница в неделю.
Она ушла в те времена‚ когда машины еще покрывали чехлами‚ чтобы защитить от солнца‚ – кто это делает теперь? Ушла и унесла с собой чистоту‚ открытость‚ окна души настежь‚ а следом за ней – вслед за теплотой – верная тому примета – ушли мелковатые‚ светлого окраса ящерки‚ которые прежде не переводились по комнатам‚ прошмыгивали деловито под ногой‚ забирались под одеяла-подушки. Прошли месяцы. И прошли годы. Ящерки снова вернулись в дом‚ и Шпильман утешился: признали‚ значит‚ и его. Одна из них – самая, должно быть, шаловливая – упала в чашку с водой и захлебнулась. Выложил на подоконник, промокнул салфеткой, пошевелил лапками, как при искусственном дыхании: хвостик дернулся, дрогнула спинка, шелохнулись лапки, – она обсохла на легком сквозняке и убежала по своим делам. Ящерки не боятся ежика. Ежик не боится Шпильмана, сумерничает с ним‚ разглядывая закаты‚ трется о ногу в минуты доверия‚ разве что не мурлычет, – Шпильману на радость.
У каждого свои ежи.
– Я скажу‚ а ты сразу забудь. Обещаешь?
Ежик отвечает молчанием: "Обещаю".
– Я ей не изменял. Редко. Почти никогда. Зачем? Нам было так хорошо! Ночи не могли дождаться...
Квартира неприметно превращается в нору‚ гнездо‚ логово. Воркота по комнатам‚ булькотня‚ квохтанье; даже стиральная машина снисходительно курлыкает‚ словно делает одолжение‚ когда ее включают. В кладовке затаился пылесос‚ который урчит по надобности не хуже кота. Журчит вентилятор‚ охлаждая ежа. В туалете воркует‚ неспешно заполняясь‚ странное приспособление из белого фаянса‚ которым ежи пренебрегают. В ванной комнате поселились Ворчала с Бурчалой‚ чуда мохнатые, чтобы клокотать в трубах сливной водой. Молоко взбулькивает горлом селезня‚ когда переливают из бутылки в кастрюлю‚ а простокваша издает глубокий чувственный гульк спаривающихся сизарей‚ с наслаждением высвобождаясь из тесного пластмассового хранилища. Под плитками пола – если вслушаться – похрустывают, обустраиваясь, невидные ерзуны-пролазы, бегучие, при нужде кусучие, выкидывая наружу излишние им песчинки. Мурлычет холодильник на кухне‚ железное бездушное существо: когда ты полон вкусными, полезными для здоровья продуктами‚ поневоле замурлычешь в сытости и покое. Сметана‚ к примеру. Со сметаны и собака замурлычет‚ а с горчицы и кошка загавкает. Жизнь совершается в накоплении желаний‚ и потому воркота‚ гулькотня‚ квохтанье – это выражения довольства‚ которые скапливаются в душе‚ переполняют ее, звуками выплескиваются наружу.
Здесь‚ на балконе‚ Шпильман приходит в гости к самому себе. Молитвы его – бдения на закате. Молитвы – город в отдалении‚ раскрывающийся навстречу‚ светлый‚ воздушный‚ щедро подсвеченный в ночи. Молитвы – пробуждением от дремоты‚ словно расплескивается по лицу прозрачная‚ зубы леденящая‚ с вершин устремленная вода пригоршнями горных впадин.
Завершается биография горизонтальная‚ разумно и неспешно. На подходе биография вертикальная.
– Что ты всё выдумываешь‚ Шпильман!
– Я не Шпильман. Я теперь Балабус‚ хохотун и насмешник‚ шпиль-менч с бубенцами‚ который домысливает за других. Тридл дидл‚ дидл дудл‚ о-ля-ля!
– Но ежели ты таков, чем же тогда недоволен?..
7
Однажды Шпильман умер во сне. Не совсем‚ правда‚ но шло к этому. Был долгий перебой‚ остановка сердца‚ как вдох без выдоха‚ словно оно задумалось‚ стоит ли продолжать надоедливое занятие. Начиналось соскальзывание души‚ стремительное утягивание по извечному пути, – Шпильман ожидал с интересом‚ будто со стороны, подумать успел‚ как взмолиться: "Я не прошу отсрочки‚ нет-нет‚ этого я не прошу. Пора так пора... Но я же могу еще что-то сделать. Выслушать. Облегчить. Вознести в надеждах. Имейте и это в виду". Тромб прошел по малым сосудам – пусть это будет тромб‚ как проходит нечто тугое‚ колючее, после тяжких потуг‚ раздирая мягкие ткани‚ – и вышел в артерию. Гулко ударило через долгие мгновения. Еще и еще раз. Ноющая затем‚ на полдня‚ пустота в груди‚ эхом отзвучавшего предупреждения: "Вернули! Меня вернули!.."
Звонит телефон. Теща-прелестница умоляет:
– Голубчик‚ поговори со мной.
– О чем‚ Белла?
– Да хоть о чем. Поговори со мной за повышенную кислотность‚ за гипертонию с подагрой со мной наговорись. А то поздно будет.
– Не прибедняйся, теща моя! Ты молодо выглядишь.
– Кому это помогало, зять мой?.. Знаешь‚ сколько набежало на счетчике? Выгляну в окно и ахаю: в какие времена занесло? Какими ветрами?..
– Я тоже ахаю‚ – отвечает с балкона Шпильман.
– Ты молчи. Ты еще молодой‚ а у меня кто-то крадет дни. Вчера был вторник‚ сегодня суббота.
Слышно, как она щелкает зажигалкой, закуривает сигарету, устраивается поудобнее в скрипучем, разношенном кресле, и начинаются рассказы: прошлое – гранитной плитой на спине.
– Мы жили скудно в Сибири. Все вокруг жили скудно, на то и война. Ходила в госпиталь, разрисовывала глаза для пострадавших – не отличить от настоящих. Шли бои, и на глаза был спрос. Я и здесь этим занималась, когда приехали, узнавала свою работу на лицах. Это была редкая профессия, которая не кормила: сколько нужно глаз в такой маленькой стране, да еще разрисованных?..
Молчит, как перебирает старые снимки. Память выдает скупо‚ по капельке‚ чтобы сердце не разорвалось от боли. Память у нее отменная.
– На кладбище было холодно. Мороз пробирал так‚ что не думалось уже ни о чем. Даже о потере. Мы укладывали папу в мерзлую землю. Которую пробивали ломом. Пришли сослуживцы из госпиталя‚ сибиряки и приезжие. Топтались в снегу. Оттирали щеки. Старый еврей в галошах, оледеневший, остекленевший, – Боже‚ как ему было холодно! – шел от одного к другому и отбирал десять мужчин. Они отворачивались перед неизбежным разоблачением. Опускали глаза. Терли рукавицами щеки‚ прикрывая лица. Но старик выделял безошибочно: "Ты... Ты... И ты..." – "Я не еврей‚ – сказал главный хирург. – Что во мне от еврея?" – "Мальчик‚ не спорь со мной. Ты – да еврей". Десять мужчин стояли у могилы. Ежились под взглядами сослуживцев. Старик в галошах читал кадиш. И читал не спеша: "Да возвеличится Имя Его..." – "Так я стал евреем"‚ – сказал назавтра главный хирург.
Сшитое расшивается. Связанное распускается. У тещи Беллы незаконченный чулок на спицах, который вывязывает не первый год – на ребенка‚ на взрослого‚ теперь‚ должно быть‚ на жирафа. Он бесконечен‚ ее чулок; как закрепит узелок напоследок‚ перекусит нитку‚ так и жизнь закончится. Пятку она не начинала вывязывать и не начнет наверное никогда.
– Не переношу некрасивых‚ Шпильман. Стареющих лицом и дряхлеющим телом. Пусть двигаются своими путями‚ а я останусь на этом месте‚ посижу в сторонке. Вы старейте‚ а я не буду. Зачем мне это? Одни огорчения...
Ее поведение не поддается прогнозам. Перескакивания с темы на тему непостижимы.
– Умру – где сохранятся мои ощущения‚ накопленные за жизнь? И сохранятся ли?.. Мы отсмеялись своим смехом‚ отплакали своими слезами, – какая бессмысленная трата! Каких чувств! Это тебе понятно?
Шпильману это понятно: его поколение тоже накопило достаточно. Вы слушали‚ к примеру‚ фортепьянный концерт под охраной автоматчиков‚ которые оберегают от самоубийц с взрывчаткой? Сходите‚ послушайте‚ насладитесь музыкой‚ а потом мы поговорим о полноте ощущений. Вы танцевали на свадьбе с противогазом на боку? Сидели за субботней трапезой‚ когда на вашей улице убивали без жалости? Играли в наших и немцев – в ту войну и после нее? Кто не играл‚ тому не оценить прошлого. А внуки Шпильмана – после стольких кровопролитий – не играют в наших и арабов. Что это значит?..
– Мама говорила: "Люби нас поменьше‚ Белла. Потеряешь – не залатать прореху..." Хочу написать об ушедших‚ Шпильман. О папе‚ маме. О твоей жене. Поминальную книгу. Книгу-кадиш. Чтобы прочитали десять человек – десять‚ только десять! – и сказали "Амен".
– Амен‚ – говорит Шпильман.
В его трубке требовательные гудки. Кому-то некогда. Шпильман переключается на иной разговор‚ напористый голос без стеснения лезет в ухо:
– Мы проводим опрос общественного мнения. На интимные темы. Женщины в доме есть?
– Нет‚ – говорит Шпильман.
– Мужчины?
– Тоже нет.
– А кто есть?
– Есть тот‚ который себя больше не раздаривает. Хватит. Могу продать лишь остатки. По сходной цене. – И возвращается к теще: – Я с тобой.
– Вот я подумала: нельзя уходить торопливо‚ наспех‚ тело и душу не приведя в порядок. К уходу надо готовиться так‚ как готовятся к Песах: вычистить себя, выбелить‚ вытряхнуть крошки‚ завалившиеся по щелям, стряхнуть шелуху‚ налипшую за жизнь‚ встретить свой час с веселием‚ на легком дыхании, чтобы сказали: "Не зря ее отправляли на землю".
– Хорошо говоришь‚ Белла.
– Я уйду от вас на закате. В облаке‚ подсвеченном понизу. В розоватой дымке‚ наброшенной на небеса. В радости и благодарности за отпущенную жизнь‚ – так я уйду от вас в последний‚ лучший свой день... Похорони меня в полночь‚ Шпильман. При лунном свете. На склоне горы. Где небо в чистоте. Звездный перелив. Огни на холмах. Скорбящие в праздничных своих нарядах. Чтобы постояли в тишине и расслышали‚ как возносится моя душа.
– Красиво говоришь‚ Белла.
– Эстет – чтоб ты знал – он и в смерти эстет. Скажешь напоследок для всех: "Век заканчивается не по календарю. Тот век закончился сегодня. С уходом этой женщины". Обещаешь?
– Постараюсь.
– И чтобы не отходили потом от могилы. Теснились друг к другу. Переговаривались неспешно: "Она жила замечательно‚ наша Белла. И ушла замечательно". Чтобы сказали назавтра: "Спасибо‚ что посетила нас".
Шпильман подхватывает:
– А ангелы уже бегут‚ толкаются‚ отпихивают друг друга: "Белла прибыла! Белла! Та самая!.."
– Дурак ты‚ Шпильман. Дураков любят.
– Не сердись‚ Белла. Это я спасаюсь от наплыва чувств.
8
На асфальте расстелено полотно, разложена на нем всякая случайность. Маникюрный набор. Пара матрешек. Кипятильник. Электрическая бритва "Эхо". Бюстгальтер, побывавший в употреблении. Стопка тюбетеек. Медаль "Ветерану труда" с серпом и молотом. Стаканчик из жести с зазубринками по краям для выделывания пельменей, вырубленные из теста образцы, потемневшие от пыли. На складном стуле сидит владелец этого богатства, ожидая покупателей у входа на рынок, – Шпильману он неинтересен, для Шпильмана он дилетант. Нищий, притомившийся на работе, звякает монетами в кружке к привлечению сердобольных. Вечером вернется домой, смоет под душем зной долгого дня, наденет отглаженную рубашку, пиджак с галстуком, отправится с сыновьями в синагогу, положит монету в ладонь убогого калеки, после вечерней трапезы, во главе стола, поблагодарит Того, "Который дает средства к существованию…", – Шпильман его уважает, для Шпильмана он профессионал.
Древний, стручком иссохший торговец пряностями затаился в лавочке‚ будто в глубинах пещеры‚ отрытой в стене дома. В окружении мешков и мешочков‚ банок и баночек с притертыми крышками‚ сберегающих диковинные специи‚ свежие и засушенные‚ молотые и в зернах: тмин‚ ципорен‚ кинамон с кардамоном‚ имбирь‚ кусбара – она же кориандр‚ майоран и мускатный орех‚ черный перец, карри из Мадраса. К мясу, рыбе и птице‚ в супы и салаты‚ к сырам‚ паштетам‚ соусам‚ овощам и хлебу‚ к чаю горячему и чаю холодному. Светит под потолком лампа на шнуре. Смотрят со стены Баба Барух в восточных одеяниях и польский еврей Менахем Бегин. Запахи обволакивают помещение‚ как утяжеляют воздух. Старик‚ не вставая‚ дотягивается до каждой полки‚ отвешивает пряные коренья‚ нану‚ шалфей‚ паприку и базилик‚ шафран и анис‚ розмарин‚ асфодель‚ петрозилию и шамир‚ а в промежутках считывает псалмы с затертых страниц‚ который уж год подряд.
Мир пряностей – прожить и не распознать?.. Шпильман приходит на рынок‚ усаживается рядом с торговцем на скамеечку для ног‚ коленками упирается в подбородок. Сидит. Молчит. Слушает певчую непоседу в клетке, подвешенной под сводом. Напитывается дыханием неведомых земель‚ изобилующих приключениями, которые тревожат‚ вызывают смутную тоску по иным краям, где прорастает в изобилии ядовитая цикута, скачет по полянам мускусная кабарга, клейкая камедь сочится по древесной коре, натекают горькие смолы – обещанием будущих янтарей, и где не разучились еще удивлять и удивляться. Птица в клетке напитывается ароматами заодно со Шпильманом, псалмы напитываются тоже‚ гортанные на звук и терпкие на чувства: "Очисти меня лавандой – и чист буду, омой меня – и стану белее снега..."
На улице обступает Шпильмана тротуарная сутолока‚ наделенная иными выделениями‚ словно враз отобрали заманчивые пространства и некуда теперь податься. Ежик вынюхивает густые запахи‚ запрятавшиеся в его одеждах‚ чихает в раздражении; растения в доме вынюхивают тоже и тоже‚ должно быть‚ чихают. Они прислушиваются к голосу Шпильмана‚ к его шагам‚ неспешному шевелению‚ улавливают‚ быть может‚ теплоту души и тела, а он ощущает жажду стеблей с корнями, не забывая поливать в нужные сроки, и если в горшках пересыхает земля, у Шпильмана пересыхает горло. Убывая из дома на долгие недели‚ он оглаживает листья‚ подпитывает их взглядом‚ нашептывает в чашечки цветов‚ упрашивая продержаться до его возвращения. Приходит соседка‚ подкармливает растения полезными составами‚ но они хандрят‚ блекнут‚ сохнут без Шпильмана‚ а амарилис – чувствительное создание – не зацветает в положенное время. Даже герань на балконе, безотказная страдалица‚ пропеченная солнцем‚ цветущая исправно на кривом утолщении‚ способна затосковать‚ притомиться‚ обронить пожелтевшие враз листья. Когда Шпильман возвращается из путешествия, кактус в малом горшочке, истомившийся в одиночестве, стеснительно раскрывает навстречу трепетные, желтоватые лепестки, – кто бы рассчитывал на подобные нежности при виде грубой, колючей, местами облысевшей громадины, фаллосу подобной?..
Ждет своего часа кадка с землей‚ которую Шпильман оберегает‚ чтобы проклюнулся своенравный цветок ташлиль‚ занесенный ветром‚ принес надежду с утешением‚ но он отчего-то запаздывает. Ему‚ только ему Шпильман ставит для приманивания скрипичные сонаты‚ его‚ только его приваживает чтением любимых строк: "Когда горный фазан тоскует по подруге‚ говорят‚ он утешится‚ обманутый‚ если увидит свое отражение в зеркале. Как это грустно! И еще мне жаль‚ что фазана и его подругу ночью разделяет долина..."
Женщина‚ состарившаяся преждевременно‚ выходит из подъезда с мисками и пакетами; кошки сбегаются от помоек‚ много кошек – она их кормит с малых своих доходов‚ они ей признательны. Пролетает мимо красавица-сойка‚ выказывая голубизну оперений‚ косит на них глазом. Плюхается на крышу наглая ворона‚ бочком‚ вперевалку продвигается к краю‚ постукивая лапками по черепице‚ с интересом поглядывает вниз, склонив голову. Люди ей любопытны, Шпильману любопытны тоже.
– Народ вокруг – расфасованный, со сроком годности. По сто граммов, по двести, триста сорок с довеском…
Ежик не всё понимает из его откровений, не всё усваивает, однако не переспрашивает, оставляя, должно быть, на ночное додумывание. Шпильман тоже не всё понимает, и принадлежность ежика к мужскому или женскому полу определению не поддается.
К зиме опадает листва на деревьях, проглядывает в сквозистых ветвях дом по соседству‚ этажи с подъездами‚ квартира под крышей‚ солнцем высвеченная обитель – спелой виноградиной. И внутри той виноградины – тихо‚ покойно‚ в плавной красоте движений – переплывает от стены к стене‚ готовит себе еду‚ горбится за одинокой тарелкой суховатый мужчина его возраста и размера‚ словно забытый‚ о котором некому вспомнить. Иногда Шпильману кажется‚ что человек напротив копирует его движения‚ иногда кажется‚ что это он сам – Живущий поодаль. Повышенный к нему интерес‚ как к неопознанному объекту‚ но нет под рукой подзорной трубы‚ чтобы разглядеть в подробностях‚ да и появись она, неловко вторгаться без разрешения в чужую жизнь‚ даже если та жизнь неотличима от твоей.
Порой Живущий поодаль опускает шторы на невидимом Шпильману окне‚ комната затухает‚ не просвечивая‚ и можно только гадать‚ чем он там занимается. Порой он появляется на балконе‚ с интересом разглядывает закаты‚ но ежика возле него нет‚ возле него сидит кот. Масти розовой. Пушистости чрезвычайной. Когда предлагают на завтрак творог нулевой жирности, кот взглядывает укоризненно, словно над ним насмехаются, и удаляется обиженно под вопли пристыженного хозяина: "А я, между прочим, ем!.." Когда его расчесывают, шерсть потрескивает от избытка электричества, озонируя пространства, страницы срываются со стола, липнут к коту, а он важно ходит по комнате, облепленный рукописью, косит пепельным глазом. Так ему нравится. Хозяину нравится тоже.








