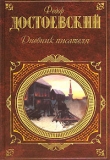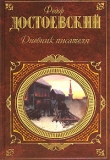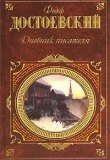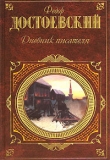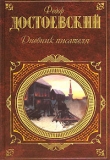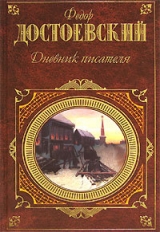
Текст книги "Том 13. Дневник писателя 1876"
Автор книги: Федор Достоевский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 34 (всего у книги 39 страниц)
Этот октябрьский № моего «Дневника» наделал мне и кроме того хлопот, в своем роде конечно. Там есть коротенькая статья «Приговор», оставившая во мне самом некоторого рода сомнение. Этот «Приговор» есть исповедь самоубийцы, последнее слово самоубийцы, записанное им самим для оправдания и, может быть, для назидания, перед самым револьвером. Некоторые из тех друзей моих, мнением которых я дорожу наиболее, отнеслись к статейке этой даже с похвалой, но тоже подтвердили мои сомнения. Похвалили они то, что действительно как бы найдена формула этого рода самоубийц, ясно выражающая их сущность, но они усомнились: понятна ли будет цель статьи для всех и каждого из читателей? Не произведет ли, напротив, она на кого-нибудь совершенно обратного впечатления? Мало того: иные, вот те самые, – которым уже начинали мерещиться еще до того револьвер или петля, – не соблазнятся ли даже ею, по прочтении ее, и не утвердятся ли еще более в своих несчастных намерениях? Одним словом, высказаны были сомнения точь-в-точь те же самые, которые во мне самом уже зародились. В результате вывод: что надо бы было прямо и просто в конце статьи разъяснить ясными словами, от автора, цель, с которою она написана, и даже прямо приписать нравоучение.
Я с этим согласился; да я и сам, когда еще писал статью, чувствовал, что нравоучение необходимо; но мне как-то совестно стало тогда приписать его. Мне показалось стыдно предположить, даже в самом простодушном из читателей, столько простоты, чтобы он сам не догадался о подкладкестатьи и цели ее, о нравоучении ее. Для меня самого эта цель была столь ясна, что я невольно предполагал ее столь же ясною и для всякого. Оказалось, что я ошибся. *
Справедливое замечание, сделанное одним писателем еще несколько лет тому назад, что признаваться в непонимании некоторого рода вещей считалось прежде за стыд, потому что прямо свидетельствовало о тупости признающегося, о невежестве его, о скудном развитии его ума и сердца, о слабости умственных способностей. Теперь же, напротив, весьма часто фраза «Я не понимаю этого» выговаривается почти с гордостью, по меньшей мере с важностью. Человек тотчас же как бы ставится этой фразой на пьедестал в глазах слушателей и, что еще комичнее, в своих собственных, нимало не стыдясь при этом дешевизны приобретенного пьедестала. Ныне слова «Я ничего не понимаю в «Рафаэле» или «Я нарочно прочел всего Шекспира и, признаюсь, ровно ничего не нашел в нем особенного» – слова эти ныне могут быть даже приняты не только за признак глубокого ума, но даже за что-то доблестное, почти за нравственный подвиг. Да Шекспир ли один, Рафаэль ли каин подвержены теперь такому суду и сомнению?
Это замечание о гордых невеждах, которое я передал здесь своими словами, довольно верно. Действительно, гордость невежд началась непомерная. Люди мало развитые и тупые нисколько не стыдятся этих несчастных своих качеств, а, напротив, как-то так сделалось, что это-то им и «духу придает». Замечал я тоже нередко, что в литературе и в частной жизни наступали великие обособления и исчезала многосторонность знания: люди, до пены у рта оспаривавшие своих противников, по десятку лет не читали иногда ни строчки из написанного их противниками: «Я, дескать, не тех убеждений и не стану читать глупостей». Подлинно, на грош амуниции, а на рубль амбиции. Такая крайняя односторонность и замкнутость, обособленность и нетерпимость явились лишь в наше время, то есть в последние двадцать лет преимущественно. Явилась при этом у очень многих какая-то беззастенчивая смелость: люди познаний ничтожных смеялись, и даже в глаза, людям, в десять раз их более знающим и понимающим. Но хуже всего, что чем дальше, тем больше воцаряется «прямолинейность»: стало, например, заметно теряться чутье к применению, к иносказанию, к аллегории. Заметно перестали (вообще говоря) понимать шутку, юмор, а уж это, по замечанию одного германского мыслителя, – один из самых ярких признаков умственного и нравственного понижения эпохи. Напротив, народились мрачные тупицы, лбы нахмурились и заострились, – и всё прямо и прямо, всё в прямой линии и в одну точку. Думаете, что я лишь про молодых и про либералов говорю? Уверяю вас, что и про старичков и про консерваторов. Как бы в подражание молодым (теперь уже, впрочем, седым) еще двадцать лет тому появились странные прямолинейные консерваторы, раздраженные старички, и уж ровно ничего не понимавшие в текущих делах, в новых людях и в молодом поколении. Прямолинейность их, если хотите, даже иногда была жестче, жесточе и тупее прямолинейности «новых людей». О, весьма может быть, что всё это у них от избытка хороших желаний и от великодушного, но огорченного чувства новейшими безрассудствами; но всё же они иногда слепее даже новейших прямолинейников. А впрочем, мне кажется, я сам, осуждая прямолинейность, слишком уже заехал в сторону.
Только что появилась моя статья, и на письмах и лично посыпались мне запросы: что, дескать, значит ваш «Приговор»? Что вы хотите этим сказать и неужели вы самоубийство оправдываете? Иные же, показалось мне, были чему-то даже рады. И вот на днях присылает мне один автор, г-н Энпе, свою статейку, учтиво-ругательную, напечатанную им в Москве в еженедельном журнале «Развлечение» * . Я «Развлечения» не получаю и не думаю, чтоб мне прислал этот № издатель его, а потому приписываю эту присылку любезности самого автора статьи. Он мою статью осуждает и смеется над ней:
«Получил я октябрьский выпуск „Дневника писателя“, прочитал и задумался: много хороших вещей в этом выпуске, но много и странных. Выскажем наше недоумение в самой сжатой форме. Зачем было, например, помещать в этом выпуске „рассуждение“ одного самоубийцы от скуки? Положительно не понимаю, зачем? Это рассуждение, если можно так назвать бред полусумасшедшего человека, давно известно, разумеется несколько перефразированное, всем тем, кому о том знать и ведать надлежит, а потому появление его в наше время, в дневнике такого писателя, как Ф. М. Достоевский, служит смешным и жалким анахронизмом. Теперь век чугунных понятий, век положительных мнений, век, держащий знамя: „Жить во что бы то ни стало!..“ Разумеется, как во всем и везде, есть исключения, есть самоубийства с рассуждениеми без рассуждения, но на это пошлое геройство нынче никто не обращает никакого внимания: уж очень оно, это геройство-то, глупо! Было время, когда самоубийство, особенно с рассуждением, возводилось на степень величайшего „сознания“ – только неизвестно чего? – и героизма, тоже неизвестно в чем состоящего, но это гнилоевремя прошло и прошло безвозвратно, – и слава Богу, жалеть нечего.
Каждый самоубийца, умирающий с рассуждением, подобным тому, которое напечатано в дневнике г-на Достоевского, не заслуживает никакого сожаления; это грубый эгоист, честолюбец и самый вредный член человеческого общества. Он даже не может сделать своего глупого дела без того, чтобы об нем не говорили; он даже и тут не выдерживает своей роли, своего напускного характера; он пишет рассуждение, хотя бы легко мог умереть без всякого рассуждения…
О, фальстафы * жизни! Ходульные рыцари!..»
Прочитав это, я впал даже в уныние. Господи, да неужели много таких у меня читателей и неужели г-н Энпе, утверждающий, что мой самоубийца не заслуживает никакого сожаления, серьезно подумал, что я выставил его ему на «сожаление»? Конечно, единичное мнение г-на Энпе было бы не так важно. Но дело в том, что в настоящем случае г-н Энпе несомненно выражает собою целый тип, целую коллекцию таких же, как он, господ Энпе, тип, даже отчасти похожий на тот беззастенчивый тип, о котором я только что говорил выше, беззастенчивый и прямолинейный, – тип ну вот тех самых «чугунных понятий», о которых сам же г-н Энпе говорит в сделанной мною выписке из его статьи. Это подозрение о целой коллекции, ей-Богу, даже страшно. Конечно, я, может быть, слишком принимаю к сердцу. Но, однако, прямо скажу: несмотря на такую мою восприимчивость, я и коллекции не стал бы отвечать, и вовсе не от пренебрежения к ней (почему же не поговорить с людьми?), а просто потому, что мало в № места. Итак, если отвечаю теперь и жертвую местом, то отвечаю, так сказать, на свои собственные сомнения и, так сказать, себе самому. Вижу, что к октябрьской статейке моей надо неотложно приставить нравоучение, разъяснить и даже разжевать цель ее. По крайней мере совесть моя будет спокойна, вот что.
Статья моя «Приговор» касается основной и самой высшей идеи человеческого бытия – необходимости и неизбежности убеждения в бессмертии души человеческой. Подкладка этой исповеди погибающего «от логического самоубийства» человека – это необходимость тут же, сейчас же вывода: что без веры в свою душу и в ее бессмертие бытие человека неестественно, немыслимо и невыносимо. И вот мне показалось, что я ясно выразил формулу логического самоубийцы, нашел ее. Веры в бессмертие для него не существует, он это объясняет в самом начале. Мало-помалу мыслью о своей бесцельности и ненавистью к безгласию окружающей косности он доходит до неминуемого убеждения в совершенной нелепости существования человеческого на земле. Для него становится ясно как солнце, что согласитьсяжить могут лишь те из людей, которые похожи на низших животных и ближе подходят под их тип по малому развитию своего сознания и по силе развития чисто плотских потребностей. Они соглашаются жить именно как животные, то есть чтобы «есть, пить, спать, устраивать гнездо и выводить детей». О, жрать, да спать, да гадить, да сидеть на мягком – еще слишком долго будет привлекать человека к земле, но не в высших типах его. Между тем высшие типы ведь царят на земле и всегда царили, и кончалось всегда тем, что за ними шли, когда восполнялся срок, миллионы людей. Что такое высшее слово и высшая мысль? Это слово, эту мысль (без которых не может жить человечество) весьма часто произносят в первый раз люди бедные, незаметные, не имеющие никакого значения и даже весьма часто гонимые, умирающие в гонении и в неизвестности. Но мысль, но произнесенное ими слово не умирают и никогда не исчезают бесследно, никогда не могут исчезнуть, лишь бы только раз были произнесены, – и это даже поразительно в человечестве. В следующем же поколении или через два-три десятка лет мысль гения уже охватывает всё и всех, увлекает всё и всех, – и выходит, что торжествуют не миллионы людей и не материальные силы, по-видимому столь страшные и незыблемые, не деньги, не меч, не могущество, а незаметная вначале мысль, и часто какого-нибудь, по-видимому, ничтожнейшего из людей. Г-н Энпе пишет, что появление такой исповеди у меня в «Дневнике» «служит» (кому, чему служит?) «смешным и жалким анахронизмом»… ибо ныне «век чугунных понятий, век положительных мнений, век, держащий знамя: „Жить во что бы то ни стало!..“» (Так, так! вот потому-то, вероятно, так и усилились в наше время самоубийства в классе интеллигентном). Уверяю почтенного г-на Энпе и подобных ему, что этот «чугун» обращается, когда приходит срок, в пух перед иной идеей, сколь бы ни казалась она ничтожною вначале господам «чугунных понятий». Для меня же лично, одно из самых ужасных опасений за наше будущее, и даже за ближайшее будущее, состоит именно в том, что, на мой взгляд, в весьма уже, в слишком уже большой части интеллигентного слоя русского по какому-то особому, странному… ну хоть предопределению всё более и более и с чрезвычайною прогрессивною быстротою укореняется совершенное неверие в свою душу и в ее бессмертие. И мало того, что это неверие укореняется убеждением (убеждений у нас еще очень мало в чем бы то ни было), но укореняется и повсеместным, странным каким-то индифферентизмом к этой высшей идее человеческого существования, индифферентизмом, иногда даже насмешливым, Бог знает откуда и по каким законам у нас водворяющимся, и не к одной этой идее, а и ко всему, что жизненно, к правде жизни, ко всему, что дает и питает жизнь, дает ей здоровье, уничтожает разложение и зловоние. Этот индифферентизм есть в наше время даже почти русская особенность сравнительно хотя бы с другими европейскими нациями. Он давно уже проник и в русское интеллигентное семейство и уже почти что разрушил его. Без высшей идеи не может существовать ни человек, ни нация. А высшая идея на земле лишь однаи именно – идея о бессмертии души человеческой, ибо все остальные «высшие» идеи жизни, которыми может быть жив человек, лишь из нее одной вытекают. В этом могут со мной спорить (то есть об этом именно единстве источника всего высшего на земле), но я пока в спор не вступаю и идею мою выставляю лишь голословно. Разом не объяснишь, а исподволь будет лучше. Впереди еще будет время.
Мой самоубийца есть именно страстный выразитель своей идеи, то есть необходимости самоубийства, а не индифферентный и не чугунный человек. Он действительно страдает и мучается, и, уж кажется, я это выразил ясно. Для него слишком очевидно, что ему жить нельзя, и – он слишком знает, что прав и что опровергнуть его невозможно. Перед ним неотразимо стоят самые высшие, самые первые вопросы: «Для чего жить, когда уже он сознал, что по-животному жить отвратительно, ненормально и недостаточно для человека? И что может в таком случае удержать его на земле?» На вопросы эти разрешения он получить не может и знает это, ибо хотя и сознал, что есть, как он выражается, «гармония целого», но я-то, говорит он, «ее не понимаю, понять никогда не в силах, а что не буду в ней сам участвовать, то это уж необходимо и само собою выходит». Вот эта-то ясность и докончила его. В чем же беда, в чем он ошибся? Беда единственно лишь в потере веры в бессмертие.
Но он сам горячо ищет (то есть искал, пока жил, и искал с страданием) примирения; он хотел найти его в «любви к человечеству»: «Не я, так человечество может быть счастливо и когда-нибудь достигнет гармонии. Эта мысль могла бы удержать меня на земле», – проговаривается он. И, уж конечно, это великодушная мысль, великодушная и страдальческая. Но неотразимое убеждение в том, что жизнь человечества в сущности такой же миг, как и его собственная, и что назавтра же по достижении «гармонии» (если только верить, что мечта эта достижима) человечество обратится в тот же нуль, как и он, силою косных законов природы, да еще после стольких страданий, вынесенных в достижении этой мечты, – эта мысль возмущает его дух окончательно, именно из-за любви к человечеству возмущает, оскорбляет его за всё человечество и – по закону отражения идей – убивает в нем даже самую любовь к человечеству. Так точно видали не раз, как в семье, умирающей с голоду, отец или мать под конец, когда страдания детей их становились невыносимыми, начинали ненавидеть этих столь любимых ими доселе детей именно за невыносимостьстраданий их. Мало того, я утверждаю, что сознание своего совершенного бессилия помочь или принести хоть какую-нибудь пользу или облегчение страдающему человечеству, в то же время при полном вашем убеждении в этом страдании человечества, может даже обратить в сердце вашем любовь к человечеству в ненависть к нему. Господа чугунных идей, конечно, не поверят тому, да и не поймут этого вовсе: для них любовь к человечеству и счастье его – всё это так дешево, всё так удобно устроено, так давно дано и написано, что и думать об этом не стоит. Но я намерен насмешить их окончательно: я объявляю (опять-таки покабездоказательно), что любовь к человечеству даже совсем немыслима, непонятна и совсем невозможна без совместной веры в бессмертие души человеческой. Те же, которые, отняв у человека веру в его бессмертие, хотят заменить эту веру, в смысле высшей цели жизни, «любовью к человечеству», те, говорю я, подымают руки на самих же себя; ибо вместо любви к человечеству насаждают в сердце потерявшего веру лишь зародыш ненависти к человечеству. Пусть пожмут плечами на такое утверждение мое мудрецы чугунных идей. Но мысль эта мудренее их мудрости, и я несомненно верую, что она станет когда-нибудь в человечестве аксиомой. Хотя опять-таки я и это выставляю пока лишь голословно.
Я даже утверждаю и осмеливаюсь высказать, что любовь к человечеству вообщеесть, как идея, одна из самых непостижимых идей для человеческого ума. Именно как идея. Ее может оправдать лишь одно чувство. Но чувство-то возможно именно лишь при совместном убеждении в бессмертии души человеческой. (И опять голословно).
В результате ясно, что самоубийство, при потере идеи о бессмертии, становится совершенною и неизбежною даже необходимостью для всякого человечка, чуть-чуть поднявшегося в своем развитии над скотами. Напротив, бессмертие, обещая вечную жизнь, тем крепче связывает человека с землей. Тут, казалось бы, даже противоречие: если жизни так много, то есть кроме земной и бессмертная, то для чего бы так дорожить земною-то жизнью? А выходит именно напротив, ибо только с верой в свое бессмертие человек постигает всю разумную цель свою на земле. Без убеждения же в своем бессмертии связи человека с землей порываются, становятся тоньше, гнилее, а потеря высшего смысла жизни (ощущаемая хотя бы лишь в виде самой бессознательной тоски) несомненно ведет за собою самоубийство. Отсюда обратно и нравоучение моей октябрьской статьи: «Если убеждение в бессмертии так необходимо для бытия человеческого, то, стало быть, оно и есть нормальное состояние человечества, а коли так, то и самое бессмертие души человеческой существует несомненно». Словом, идея о бессмертии – это сама жизнь, живая жизнь, ее окончательная формула и главный источник истины и правильного сознания для человечества. Вот цель статьи, и я полагал, что ее невольно уяснит себе всякий, прочитавший ее.
Кстати уж. Мне, пожалуй, укажут, что в наш век убивают себя люди и никогда не занимавшиеся никакими высшими вопросами; тем не менее убивают себя загадочно, безо всякой видимой причины. Мы действительно видим очень много (а обилие это опять-таки своего рода загадка) самоубийств, странных и загадочных, сделанных вовсе не по нужде, не по обиде, без всяких видимых к тому причин, вовсе не вследствие материальных недостатков, оскорбленной любви, ревности, болезни, ипохондрии или сумасшествия, а так, Бог знает из-за чего совершившихся. Такие случаи в наш век составляют большой соблазн и так как совершенно невозможно в них отрицать эпидемию, то обращаются для многих в самый беспокойный вопрос. Все эти самоубийства я, конечно, объяснять не возьмусь, да и, разумеется, не могу, [46]46
Я получаю очень много писем с изложением фактов самоубийств * и с вопросами: как и что я об этих самоубийствах думаю и чем их объясняю?
[Закрыть]но зато я несомненно убежден, что в большинстве, в целом, прямо или косвенно, эти самоубийцы покончили с собой из-за одной и той же духовной болезни – от отсутствия высшей идеи существования в душе их. В этом смысле наш индифферентизм, как современная русская болезнь, заел все души. Право, у нас теперь иной даже молится и в церковь ходит, а в бессмертие своей души не верит, то есть не то что не верит, а просто об этом совсем никогда не думает. И, однако, это вовсе иногда не чугунный, не скотского, не низшего типа человек. А меж тем лишь из этой одной веры, как уже и говорил я выше, выходит весь высший смысл и значение жизни, выходит желание и охота жить. О, повторяю, есть много охотников жить без всяких идей и без всякого высшего смысла жизни, жить просто животною жизнью, в смысле низшего типа; но есть, и даже слишком уж многие и, что всего любопытнее, с виду, может быть, и чрезвычайно грубые и порочные натуры, а между тем природа их, может быть им самим неведомо, давно уже тоскует по высшим целям и значению жизни. Эти уж не успокоятся на любви к еде, на любви к кулебякам, к красивым рысакам, к разврату, к чинам, к чиновной власти, к поклонению подчиненных, к швейцарам у дверей домов их. Этакий застрелится именно с виду не из чего, а между тем непременно от тоски, хотя и бессознательной, по высшему смыслу жизни, не найденному им нигде. А иной из таких вдобавок застрелится, предварительно выкинув какую-нибудь скандальную мерзость, скверность, чудовищность. О, глядя на многих из этаких, разумеется, трудно поверить, чтоб они покончили с собою из-за «тоски по высшим целям жизни»: «Да они ни об каких, целях совсем и не думали, они ни об чем таком никогда и не говорили, а только делали „пакости“» – вот всеобщий голос! Но пусть не заботились и делали пакости: высшая тоска эта – знаете ли вы твердо, какими сложными путями в жизни общества передается иногда иной душе и заражает ее? Идеи летают в воздухе, но непременно по законам; идеи живут и распространяются по законам, слишком трудно для нас уловимым; идеи заразительны, и знаете ли вы, что в общем настроении жизни иная идея, иная забота или тоска, доступная лишь высокообразованному и развитому уму, может вдруг передаться почти малограмотному существу, грубому и ни об чем никогда не заботившемуся, и вдруг заразить его душу своим влиянием? Укажут мне, пожалуй, опять, что в наш век умерщвляют себя даже дети или такая юная молодежь, которая и не испытала еще жизни. А у меня именно есть таинственное убеждение, что молодежь-то наша и страдает, и тоскует у нас от отсутствия высших целей жизни. В семьях наших об высших целях жизни почти и не упоминается, и об идее о бессмертии не только уж вовсе не думают, но даже слишком нередко относятся к ней сатирически, и это при детях, с самого их детства, да еще, пожалуй, с нарочным назиданием.
«Да семейства у нас вовсе нет», – заметил мне недавно, возражая мне, один из наших талантливейших писателей * . Что же, это ведь отчасти и правда: при нашем всеобщем индифферентизме к высшим целям жизни, конечно, может быть, уже и расшаталась наша семья в известных слоях нации. Ясно по крайней мере до наглядности то, что наше юное поколение обречено само отыскивать себе идеалы и высший смысл жизни. Но это-то отъединение их, это-то оставление на собственные силы и ужасно. Это вопрос слишком, слишком значительный в теперешний момент, в теперешний миг нашей жизни. Наша молодежь так поставлена, что решительно нигде не находит никаких указаний на высший смысл жизни. От наших умных людей и вообще от руководителей своих она может заимствовать в наше время, повторяю это, скорее лишь взгляд сатирический, но уже ничего положительного, – то есть во что верить, что уважать, обожать, к чему стремиться, – а всё это так нужно, так необходимо молодежи, всего этого она жаждет и жаждала всегда, во все века и везде! А если бы и смогли и в силах еще были ей передать что-нибудь из правильных указаний в семье или в школе, то опять-таки и в семье и в школе (конечно, не без некоторых исключений) слишком уж стали к этому индифферентны за множеством иных, более практических и современно-интересных задач и целей. Молодежь шестого декабря на Казанской площади, без сомнения, лишь «настеганное стадо» в руках каких-то хитрых мошенников, судя по крайней мере по фактам, указанным «Московскими ведомостями» * ; что выйдет и что окажется из этого дела – я далее ничего не знаю. Без сомнения, тут дурь, злостная и безнравственная, обезьянья подражательность с чужого голоса, но всё же их могли собрать, лишь уверив, что они собраны во имя чего-то высшего и прекрасного, во имя какого-то удивительного самопожертвования для величайших целей. Пусть даже это «искание своего идеала» слишком в немногих из них, но эти немногие царят над остальными и ведут их за собою, – это-то уже ясно. Что же, кто виноват теперь, что их идеал так уродлив? Уж конечно, и сами они, но ведь и не одни они. О, без сомнения, даже и теперешняя окружающая их действительность могла бы спасти их от их уродливой оторванности от всего насущного и реального, от их грубейшего непонимания самых простых вещей; но в том-то и дело, что наступили, значит, такие сроки, что оторванность от почвы и от народной правды в нашем юнейшем поколении должна уже удивить и ужаснуть даже самих «отцов» их, столь давно уже от всего русского оторвавшихся и доживающих свой век в блаженном спокойствии высших критиков земли русской. Ну вот и урок, – урок и семье и школе и блаженно-убежденнейшим критикам: сами же они теперь не узнают своих последствийи от них отрекаются, но… но ведь и их-то, «отцов»-то, разве можно опять-таки винить окончательно?Сами-то они не суть ли продукты и следствия каких-то особых роковых законов и предопределений, которые стоят над всем интеллигентным слоем русского общества уже чуть ли не два века сряду, почти вплоть до великих реформ нынешнего царствования? Нет, видно двухсотлетняя оторванность от почвы и от всякого делане спускаются даром. Винить недостаточно, надо искать и лекарств. По-моему, еще есть лекарства: они в народе, в святынях его и в нашем соединении с ним. Но… но об этом еще после. Я и «Дневник» предпринимал отчасти для того, чтоб об этих лекарствах говорить, насколько сил достанет.