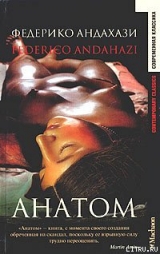
Текст книги "Анатом"
Автор книги: Федерико Андахази
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 9 страниц)
Messere Джироламо, один из самых процветающих шелковых фабрикантов в Венеции, а до прошлого года еще и глава гильдии, был уже стар и потому решил удалиться от публичной жизни и целиком предаться праздности, чтобы насладиться немногими годами, которые ему остались. На самом деле, он и без того всю жизнь пребывал в праздности, только сейчас, вместо того чтобы играть в карты с коллегами в своей конторе в гильдии, он занимался этим в своем весьма гостеприимном палаццо. У messere Джироламо ди Бенедетто было две слабости: карты и дети. Разумеется, он терпеть не мог, когда его называли педофилом. В конце концов, что дурного в том, чтобы любить детей и сколько-то помогать им деньгами, особенно если родители ребенка бедны?
Цена, которую назначила мадонна Крета, показалась ему довольно высокой, но он не стал возражать: денег у него было предостаточно, даже если бы он захотел истратить их все, то за оставшиеся ему годы не сумел бы. И хотя было хорошо известно, что у него сохранилась привычка скупиться, в таких деликатных вопросах он не останавливался перед затратами. Он лишь попросил мадонну Крету подробно описать ему девочку. Messere Джироламо ди Бенедетто слушал с отрешенным видом и, казалось, наслаждался самим предвкушением. Если бы messere мог знать, как обойдется с ним малышка Нинна, он предпочел бы умереть в тот же день.
IV
Как было условлено с мадонной Кретой, messere Джироламо пришел в бордель к назначенному часу. Он предусмотрительно явился заранее, чтобы пройти никем не замеченным. Ему пришлось переждать нескольких прохожих и задержаться из-за нескончаемой беседы двух женщин перед входом в соседнюю лавку. Когда же они распрощались, он выждал некоторое время, надвинул шляпу, чтобы она затеняла лицо, и, наконец, торопливым шагом вошел в небольшой дворик.
Чуть пренебрежительным жестом messere Джироламо отверг бокал вина, который предложила ему мадонна Крета. Ему не терпелось. Его изношенное сердце билось сейчас с юношеской силой – такой случай выпадает не каждый день. Склонность к детям уже доставляла ему неприятности, дважды его публично обвиняли в насилии над детьми, но несмотря на это, по счастью, он сумел с помощью щедрых «знаков внимания» уговорить своих обличителей не подавать в суд. В Венеции ходило много слухов о склонностях messere Джироламо. Но мадонна Крета была гарантией тайны. Ее занятия прежде всего предполагали сдержанность. Именно по этой причине она почти не чувствовала угрызений совести, получая обещанные двадцать дукатов.
Мадонна Крета провела его в специально приготовленную для этого случая комнату. Стоя в дверном проеме, радушная хозяйка пригласила messere Джироламо ди Бенедетто войти и, прежде чем оставить его наедине с девочкой, любезно предупредила:
– Наслаждайтесь, но смотрите, не обижайте ее.
Когда messere Джироламо ди Бенедетто увидел маленькую Нинну, глаза его загорелись. Это походило на сбывшийся сон – девочка лежала на животе совершенно обнаженная. Сначала messere слегка похлопал ее по ягодицам и провел узловатыми старческими пальцами по крепким бедрам. На спинку девочки упала ниточка тягучей слюны, он растер ее ладонью. Нинна не выражала никакого сопротивления и даже нежно улыбалась, когда старик, в полном восторге, посадил ее к себе на колени. Уже много лет messere Джироламо ди Бенедетто страдал бессилием, а сейчас от этого печального явления не осталось и следа, и он сказал себе, что маленькая Нинна – настоящее чудо. Конечно, это была не та эрекция, что составляла его гордость в юные годы, но все же лучше, чем ничего. Он взял девочку подмышки, приподнял и посадил ягодицам на свой член, скромно приподнимавши плащ, который messere все еще не снял. Уже давно он не приходил в такое возбуждение. Нинна, ощутив выпуклость, потерлась об нее попкой, словно кошечка, чем еще больше распалила старика, который нетерпеливо приподнял плащ и, взяв член в руки, продемонстрировал его девочке. Нинна рассмотрела фиолетовую штуку, которую теребил старик, и тут же протянула к ней ладони. Ручка Нинны была настолько мала, что не смогла обхватить и половины головки члена.
– Не хотите ли вы поцеловать моего дружка? – спросил ее старик, и Нинна, которую, казалось, позабавило, как «ее» клиент именовал эту штуку, улыбнулась, ее улыбка показалась messere откровенно сладострастной. Да, это подходящее слово «сладострастие» никогда раньше ему не приходилось видеть такой чудесной склонности у маленьких девочек. И действительно, если бы кто-то посторонний наблюдал эту сцену, то несомненно решил бы, что маленькая Нинна занимается «совращением старцев». Как и просил messere Джироламо ди Бенедетто, Нинна приблизила губы к его члену – теперь уже совсем твердому и вставшему сильнее, чем когда-либо, в том числе в дни юности, – и поцеловала его, как кормилица Оливия учила ее целовать щеки донны Сидонны, чему она, правда, всегда противилась. Словно взрослая женщина, Нинна закрыла глаза и провела губами вокруг головки. Старик сидел, выкатив глаза, и трепетал, как лист. Словно вскормленная не грудным молоком, а млеком члена – никто не обучал ее искусству фелляции, – Нинна раскрыла рот, насколько смогла, и забрала туда всю головку целиком. Старик не верил своим глазам.
– Маленькая шлюха, – прошептал он, – маленькое отродье семи поколений шлюх.
И пока он говорил, девочка смотрела на него зелеными глазами с длинными ресницами и все глубже вбирала член в рот. Потом Нинна ощутила содрогания в основании того, что держала во рту. И в этот самый момент она изо всех сил сжала челюсти, вонзив зубы в плоть до самых десен, и с силой бросилась с кровати на пол. На несколько секунд Нинна зависла в воздухе, держась зубами за член старика, пока, наконец, откушенный кусок не оторвался. Messere Джироламо ди Бенедетто ничего не понимал, пока не увидел поток крови, бьющей из основания члена. Только тогда он разглядел – словно в бреду, – что головки члена нет. Девочка глядела на старика с ангельской улыбкой, жуя кусочек плоти, и ее взгляд, прикованный к клиенту, который уже валился с кровати на пол, описал параболу Ноги – напряженные, как струны лютни, – торчали в виде буквы V над кроватью, что показалось Нинне довольно изящным.
Когда прошло оговоренное время, мадонна Крета приоткрыла створку двери и, все еще не заходя в комнату, прошептала:
– Время истекло, messere, надеюсь, вы не обидели девочку.
Мадонна Крета споткнулась о труп своего клиента и, не успев ни за что ухватиться, поскользнулась в луже крови и грохнулась на пол рядом с телом. Нинна, сидевшая в углу комнаты, все еще перекатывала во рту кусочек плоти и казалась довольной началом своей работы. Она улыбнулась мадонне Крете, как бы говоря: «Ты довольна? Так я должна зарабатывать себе на пропитание?»
В этот же день Нинна София была жестоко избита колодкой для обуви.
Творец
I
Несмотря на панику, мадонна Крета сумела завернуть в холст труп messere Джироламо ди Бенедетто, сунула девочку себе подмышку и села в небольшую гондолу. Заплатив звонкой монетой за молчание гондольера, она столкнула за борт умер кастрата и девочку в относительно тихом месте Канал-Гранде.
И, словно по предначертанию судьбы, избитое тельце Нинны Софии было выброшено на набережную Сан-Бенедетто, прямо на мол, к которому спускалась лестница из дворика Школы, которую тридцать лет назад основал Массимо Трольо.
Массимо Трольо был fattore delle puttane, самым почитаемым во всей Европе. На самом деле, он покупал, продавал и грабил не хуже любого торгаша. Но это было только началом долгой и трудоемкой работы, первая ступень в дорогостоящем и, соответственно, прибыльном занятии. Массимо Трольо был выдающимся педагогом, в нем соединялись черты наиразвратнейшего педераста и учителя в самом высоком смысле.
Fattore, «отец», как его называли некоторые, был основателем самой престижной Scuola di Puttane, отцом, если можно так выразиться, племени самых прекрасных в Венеции проституток, самой Ленны Грифы и всех куртизанок, которые украшали двор Медичи, куртизанок, которые пленяли сердца монархов и архиепископов. Всех куртизанок, в честь которых возводились самые роскошные дворцы Венеции.
Ни одна императрица не получала более блестящего образования, чем проститутки Массимо Трольо. Младшие, вроде маленькой Нинны Софии, были предметом самых тщательных забот. Мадонны – старшие проститутки – должны были воспитывать девиц более нежного возраста. Они купали их в молоке волчицы, потому что вода была запретна из-за заразных болезней, к тому же, как учил Массимо Трольо, молоко волчицы способствует развитию и препятствует старению. Девочкам протирали кожу слюной кобылы, чтобы тело не было дряблым и один день в неделю им приходилось спать в свинарнике рядом со свиньями, чтобы они выучились переносить любые, самые отвратительные запахи и самое неблагодарное общество.
Массимо Трольо был автором «Школы куртизанок»*, книги, состоящей из семисот пятнадцати афоризмов, разделенных на семь книг – несомненно, навеянной «Афоризмами» Гиппократа. В ней, наряду с прочим, утверждалось, что лучшие проститутки получаются из девочек, рожденных от:
1. плотника и доярки;
2. охотника и монголоидной женщины, лучше всего китаянки;
3. моряка и вышивальщицы.
Кроме того, он утверждал, что «женщина в состоянии зачать младенца от семи мужчин, семенной секрет которых соединяется в матке и сочетается один с другим в соответствии с семенной силой каждого из отцов».
«Быть Творцом куртизанок – высочайшее искусство, высшее, чем быть парфюмером или даже алхимиком; как и они, мы соединяем сущности наиболее благородные с наиболее низкими, самые антагонистические и самые гармоничные».
Массимо Трольо проявил особый интерес к девочке, которую ему подарило провидение. Чтобы не оставалось никаких сомнений в том, что она – одна из его воспитанниц, с нее сняли прежний браслет и надели новый – золотой, украшенный рубинами, – где было написано ее новое и окончательное имя – Мона София. Он редко видел девочек с подобным характером, рано развившимся умом и редкостной, неповторимой красотой. В детском теле Моны Софии воплощались все путаны, некая сущность путаны в чистом виде. Однако Мона София не была свободна от двух больших и, несомненно, таинственных недостатков, с которыми вынужден сражаться учитель путан: от любви и наслаждения. Никогда еще Массимо Трольо не видел такой безмерной ненависти, какую источала девочка; его беспокоило не то, что он был объектом этого чувства, а то, что, как он знал по опыту – и об этом свидетельствовал афоризм IX, – «насколько женщина склонна к ненависти, настолько же она склонна к любви». Его тревожило и другое: не столько отсутствие каких-либо проявлений печали, сколько подозрение, что бесчувственность Моны Софии это маска, под которой скрыта печаль, и чем сильнее печаль девушки, тем острее наслаждение, которое она дарит, И, наконец, начальное образование путан посвящено не чему иному, как запрету любви и наслаждения. Эта работа велась долго и терпеливо, чтобы как не однажды уже случалось, – в один прекрасный день неблагодарная не ушла, влюбившись в какого-нибудь мужчину. Среди прочих афоризмов Массимо Трольо были следующие:
– Развратить труднее, чем воспитать.
– Легче заменить одну нравственную систему другой, чем лишить кого-либо нравственности.
– Воспитание на нравственных примерах способствует формированию куртизанки.
– Как и философ, учитель куртизанок должен быть проводником нравственности.
– Для монарха удобнее существование куртизанок ради денег, чем существование куртизанок ради удовольствия.
Теория Массимо Трольо основывалась на эллинистических канонах. Афоризмы, выходившие из-под его пера, и, соответственно, его практика были – почему бы и нет? – теми же, что в «Метафизике» Аристотеля. Аристотелевской была его концепция женщины и мужчины, и аристотелевским, разумеется, было его суждение о воспроизводстве. Он также припадал к аристотелевскому источнику, чтобы дать объяснение, каким образом «мужчина должен быть, по естественным причинам, полезен женщине». В главе «О чудовищной природе женщины» он говорит: "Как учил Аристотель, сперма мужчины есть сущность, сущностная возможность превратить определенную возможность в будущее существо. Мужнина несет в своем семени дух, форму, личность, то есть kinesis, который создает из вещи живую материю. Мужчина, в конце концов, это тот, что дает вещи душу. Семя несет движение, которое ему сообщает его родитель, оно есть исполнение идеи, соответствующей форме самого родителя, однако не предполагает передачу материи со стороны мужчины. В идеальных условиях будущее существо будет тяготеть к полной тождественности отцу. Женщина предоставляет материальную опору в виде своей крови, телесности, плоти, которая стареет, ветшает и умирает. Сущность души неизменно мужская. Как учил Учитель, рождение девочек, во всех случаях, результат слабости родителя по причине болезни, старости или слишком раннего зачатия.
Женщина всегда дает материю, а мужчина – творческое начало: для нас это, в действительности, соответствующая каждому из них функция, и именно – быть самкой и самцом. Необходимо также, чтобы самка предоставила тело, определенное количество материи, но это не обязательно для самца: не обязательно, чтобы инструменты существовали в изделиях, которые они создают, так же в них нет того, кто их изготавливает".
Это отнюдь не единственное замечание Массимо Трольо относительно зачатия, кроме того, он писал – и всегда под интеллектуальным покровительством Аристотеля, – о самой генеалогии живого существа: «Семя содержит в себе форму в возможности». «Семя это не часть формирующегося плода, как ни одна частица не переходит от столяра к изделию, над которым он работает, чтобы соединиться с деревом, так и ни одна частица семени не может вмешаться в создание эмбриона». И подтверждает примером: «Музыка – это не инструмент, и инструмент – не музыка. Однако музыка тождественна предшествующей мысли автора».
Следовательно, суть теории Массимо Трольо такова: собственность, отцовская власть, право обладать наследием части создателя, то есть отца. Поскольку ясно, что целью Аристотеля было не что иное, как новое подтверждение греческого права.
Женщина, согласно теории, просто прах, чья сущность – это кровь, появляющаяся раз в месяц: неочищенная жидкость, нечистая, необработанная, инертная и аморфная, но несомненно, затронутая духом, kinesis, своего слабого родителя.
Мона София была самой красивой, раньше других развившейся ученицей Массимо Трольо. У нее, кроме этого, рано проявилась готовность к профессии. Она была редкостно чувственна для своих лет. Когда Моне исполнилось шесть лет, Массимо Трольо счел, что девочка может приступить ко второму этапу образования.
В «Школе куртизанок» ученицы с ранних лет получали религиозное образование, их учили античной мифологии, обучали, разумеется, чтению и письму не только на родном языке, но и на греческом и латыни. «Школа» была в высшей степени возрожденческим институтом, престижным, как любая из многочисленных художественных школ на полуострове. По правде говоря, «Школа» получала субсидию от городских властей, а каждая из учениц возводилась в ранг государственной служащей.
Мона обожала истории, которые ей рассказывала Филипа, ее воспитательница. Каждый раз, слушая историю про Иону в чреве кита, она широко раскрывала глаза и просила Филипу опустить лишние подробности и сказать ей сразу, что станет с героем.
Все было прекрасно, пока Филипа не начинала выдвигать обвинения. Мона категорически отказывалась отвечать за распятие Господа нашего Иисуса Христа, ей были невыносимы обвинения в том, что Он умер ради нее. Кроме всего прочего, кто она такая? Как может повлиять ее незначительное существование на смерть – ни больше ни меньше – самого Спасителя?
Кроме того, она не признавала собственной вины или отрицала свое сообщничество в грехах Евы, которую она к тому же никогда не видела. Однако, в конце концов, Мона София принималась без особой убежденности кивать головой, поскольку могла вынести что угодно, только не пронзительные крики Филипы, от которых у нее лопались барабанные перепонки.
Мона София в силу способностей Массимо Трольо, а возможно, и вопреки его собственным желаниям, стала его лучшим произведением.
Десять лет образования и заботливого обращения принесли свои плоды: Мона София была самой прекрасной женщиной в Венеции. Творец куртизанок умел быть терпеливым. Когда его ученице исполнилось тринадцать лет, он объявил ей, что пришла пора посвящения. Мону представили обществу на ежегодном празднестве, которое Массимо Трольо устраивал в своем палаццо. Это была волнующая церемония, на которой каждая закончившая школу куртизанка получала приказ о назначении на должность государственной служащей из рук какого-нибудь почтенного деятеля Республики. Когда назвали имя Моны Софии, воцарилась изумленная и благоговейная тишина. По сравнению с женщиной, которая входила в двери залы, Венера Медицинская показалась бы неотесанной крестьянкой.
Со всех концов Европы в «Школу» съезжались знатные господа и тратили целые состояния. Менее чем за полгода Массимо Трольо окупил все – до последнего дуката —затраты на свою ученицу. В течение первого года Творец куртизанок получил впятеро больше, чем вложил в нее. Тело Моны Софии увеличило состояние Массимо Трольо на… две тысячи дукатов
Свобода
I
На втором году после окончания Мона София явилась в роскошный scriptorium* Массимо Трольо. Творец вел бухгалтерию «Школы», склонившись над толстой тетрадью с золотым обрезом.
– Я пришла объявить вам о своей свободе, – произнесла Мона София, даже не поприветствовав его.
Массимо Трольо поднял взгляд от счетов. Он ясно расслышал фразу, но не понял ее, словно его собеседница говорила на неизвестном языке.
– Вот документ, который освобождает меня от вашего покровительства, – сказала она, протягивая ему пергамент, исписанный красными чернилами. – Не вставайте, не надо, только поставьте вашу подпись вот здесь, —Добавила Мона София, кладя документ на письменный стол.
Массимо Трольо откровенно расхохотался. За всю долгую жизнь к нему никто не обращался с просьбой – если так можно назвать требование его ученицы, – настолько бесстыдной. Да, ему не раз приходилось страдать от побегов своих неблагодарных учениц. Для примера он наказал одну возвращенную беглянку – в таком случае обычно ампутировали палец на ноге, – но чтобы ученица вот гак вторгалась в его покои с подобными претензиями… Да это же наглость, откровенный абсурд!
– Напоминаю тебе, что у «Школы» есть свои правила и нормы, – начал Массимо Трольо с теплой отцовской улыбкой, – поэтому…
Не дав учителю закончить фразу, Мона София вытащила кинжал из золотых ножен и приставила острие клинка к своей груди. Совершенно хладнокровно она сказала:
– Мое тело с избытком расплатилось с вами за образование, которое вы мне дали, и, если вы согласитесь выслушать меня, я буду благодарна вам. Я испытываю к вам почтение и преклоняюсь перед вами. Но сейчас я требую, чтобы вы вернули то, что принадлежит мне: мое тело.
Массимо Трольо побледнел и тут же покраснел от гнева. Стараясь держать себя в руках, он ответил:
– Мертвая ты мне не нужна. Я могу, если хочешь, подписать то, что ты мне дала, но почему ты думаешь, что я не верну тебя правом, данным мне законом? Ты знаешь, каким бывает наказание.
Мона София улыбнулась. – Вы не станете калечить мое тело. Я ваше создание. Но не считайте меня неблагодарной. Если вы прочтете бумагу, то увидите, что я не забыла о вас; я стану отдавать вам десятую часть денег, что заработаю своим телом, вплоть до того дня, когда кто-то из нас двоих умрет. Выбор – либо десятая доля, либо ничего, – сказала она, втыкая кинжал себе в грудь чуть глубже, и капля крови скатилась по ее животу.
Массимо Трольо обмакнул перо в чернильницу и подписал документ. Мона София опустилась на колени и поцеловала руки своего учителя, а затем навсегда покинула «Школу».
Оставшись один в своем кабинете, Массимо Трольо безутешно плакал.
Плакал, как ребенок.
Плакал, как отец.
Как Матео Колон познакомился с Моной Софией
I
Анатом познакомился с Моной Софией во время своего краткого пребывания в Венеции осенью 1557 года. В палаццо одного герцога, где присутствовал по случаю праздника, который его гостеприимный хозяин устраивал в честь дня своего святого. Мона София стала взрослой искушенной женщиной. Ей было уже пятнадцать лет.
Возможно, из-за высказывания Леонардо да Винчи, не понимавшего, почему мужчины стыдятся своей мужественности и «скрывают свой пол, в то время как должны украшать его со всей торжественностью, словно правителя», возможно, именно поэтому в тот год, в соответствии с модой, мужчины всячески демонстрировали и пышно украшали свои гениталии. Почти все приглашенные, если не считать самых престарелых, были наряжены в панталоны светлых тонов, подчеркивающие их мужские достоинства с помощью лент, крепившихся на поясе и в паху. Те, у кого были веские причины благодарить Создателя, разумеется, следовали этой моде. Те же, у кого таких причин не было, прибегали к различным ухищрениям, чтобы идти в ногу со временем и не выглядеть обделенными природой. В "Подвале Мавра'1 продавались бутафорские накладки, которые можно было пристроить под панталоны, чтобы придать блеск мужчинам не столь блестящим. Среди множества украшений – от орнаментов из бусинок, обрамлявших «правителя», до эффектной отделки жемчугом, – были ленты с привязанными к ним четырьмя-пятью колокольчиками, которые выдавали желание "его милости1'. Таким образом, дамы узнавали, насколько они желанны кавалерам по перезвону бубенцов.
Этот праздник ничем не отличался от других: он начался «танцем с поцелуями», в котором не было никаких определенных правил, все двигались, как хотели. А когда пары «разбивали» или они создавались заново, кавалеру с дамой полагалось обменяться поцелуем.
Матео Колону чужды были танцы, он, хотя и не был старым человеком, носил традиционный камзол, который придавал ему солидный вид среди этой откровенной демонстрации мужских гениталий. И, разумеется, он был награжден взорами женщин более чем те, кто выставлял напоказ свои величественные звонницы, подлинные или бутафорские.
В середине празднества появилась Мона София. Она не нуждалась в том, чтобы о ее прибытии объявляли. Двое рабов-мавров опустили ее паланкин у дверей зала. Если до ее появления внимание кавалеров делилось между тремя-четырьмя женщинами, то теперь самая красивая из них казалась себе, по сравнению с новоприбывшей, сутулой, хромой или горбатой. Мона София была сложена великолепно. Шелковое платье, обнажавшее спину до начала бедер, почти не скрывало тела. В вырезе до половины сосков при каждом шаге колебалась грудь. Посередине лба на нити Фероньеры покачивался изумруд, сверкание которого затмевалось блеском зеленых глаз. Мона София была встречена благовестом сотни колокольчиков.
II
Матео Колон, хотя и находился в отдаленном углу зала, не мог не заметить красоты новой гостьи. Он собрался с духом и прекратил беседу с одной склонной к ипохондрии дамой, которая замучила его перечислением своих болезней.
Мону Софию встретил гостеприимный хозяин, который тут же увлек ее на танец с поцелуями. Согласно правилам, кавалер приглашал даму поцелуем, и, станцевав несколько па, она меняла кавалера – и так далее. Несомненно, это был самый подходящий танец для обольщения. Правила были таковы: если дама не была заинтересована ни в одном из кавалеров, компромиссным выходом для нее было пригласить женатого мужчину. Если же дама выбирала холостяка, становились очевидны ее стремления. Кроме того, существовали правила и относительно поцелуев. Если дама лишь касалась губами щеки кавалера, это означало, что она просто собирается потанцевать и немного развлечься; напротив, если она награждала его благосклонным звучным поцелуем, это означало более или менее официальные намерения, например, матримониальные. Но если она касалась губами губ кавалера, становились ясными сладострастные желания дамы: это был дерзкий, страстный призыв.
Мона София танцевала на восточный манер: поставив обе руки на талию и покачивая бедрами. Все кругом с любопытством ждали момента, когда ей придется сменить пару. По этой причине каждый из молодых людей оспаривал у другого право стоять в первом ряду, выставляя на всеобщее обозрение – без малейшего стыда, – свое объемистое изукрашенное желание. Однако Моне Софии при других обстоятельствах приходилось видеть многих из юношей, щеголявших теперь неизвестно откуда взявшейся мужественностью, без всяких украшений, кроме тех, с которыми они явились в этот мир. Она рассматривала каждого из тех, кто надеялся быть избранным ею, направлялась к одному из них, а затем, когда, казалось, уже решилась, вдруг поворачивалась на каблуках и шла к другому, которым тоже пренебрегала. Не переставая двигаться в такт мелодии, которую выводили лютни, Мона София скользила и кружилась по зале; кавалеры толпились вокруг. Внезапно Матео Колон увидел, как груди Моны, трепетавшие у края выреза, манят его своими сосками. Мона София решительно подошла к анатому. В других обстоятельствах Матео Колон ощутил бы смущение, но сейчас, видя, как к нему приближается женщина, какой ему не доводилось видеть, он не мог отделаться от ощущения, что кроме нее в зале никого нет. Однако он слышал оживленный говор собравшихся и звуки лютни, он видел даже толпу гостей. Он испытывал то же, что крыса под взглядом змеи. Он не мог, даже если бы захотел, увидеть ничего, кроме зеленых глаз, блеском затмевавших изумруд, висевший на лбу между бровей. Мона София приблизила губы к губам анатома – он почувствовал в ее дыхании аромат мяты и розовой воды – и тут, словно горячий ветер, мимолетно, ощутил в касании ее губ краткую ласку языка. Да, он танцевал, нет, он был сдержан. Он был галантен. Он даже сумел скрыть, что с той минуты и до самой смерти не сможет обходиться без этого аромата мяты и розовой воды, без этого горячего мимолетного ветра, без омута этих зеленых глаз. Он танцевал. Никто бы не сказал, что, словно жертва змеи, в кровь которой неумолимо проникает яд, этот угрюмый танцующий человек только что подхватил смертельную болезнь. Он танцевал.
Навсегда, до самой своей смерти, он будет помнить, как танцевал, очарованный этими злыми глазами, до последнего дня он будет помнить, словно большой церковный праздник, как они удалялись по коридорам, садам и галереям и как в одной из отдаленных комнат дворца, куда доносился едва слышный звук лютни, он целовал ее розовые соски, твердые, словно жемчужины, и нежные, как лепестки цветка. До самой своей смерти он будет помнить, словно черный, но столь сладостный день, ее голос – жаркий, как огонь, ее быстрый язык – опаляющий, как адское пламя. До последнего дня жизни он будет помнить, словно тот, кто в пост отказывается и от разрешенной пищи, дабы продлить неутоленный голод, как он отверг ее тело и взамен, поправляя камзол, сказал:
– Я хочу написать ваш портрет.
И, словно потерпевший кораблекрушение, который принимает облака на горизонте за сушу, он поверил, что видит любовь в этих зеленых глазах, опушенных изогнутыми ресницами. Но это были лишь облака.
– Я хочу написать ваш портрет, – повторил он; душу его переполняла страсть.
И он верил, что видит страсть в этих змеиных глазах. Мона София поцеловала его с бесконечной нежностью.
– Можете навестить меня, когда захотите, – сказала она и прошептала:
– Приходите завтра.
Анатом видел, как она оправила платье, как в последний раз подставила ему свою грудь для поцелуя, повернулась на каблуках и пошла к двери. Тогда он услышал, как она сказала, прежде чем исчезнуть:
– Приходите завтра, я буду ждать вас. Но это были лишь облака.
III
На следующий день, ровно в пять часов вечера, Матео Колон поднялся по семи ступенькам, ведущим во внутренний дворик борделя «Рыжий фавн». Он тащил на спине походный мольберт, нес в руках холст, зажимал под правым локтем палитру, а к поясу его камзола был прикреплен узкий мешочек с красками. Он так нагрузился, что едва не наорал на нерасторопную управляющую заведением.
Когда Матео Колон заглянул в комнату Моны Софии, она, одетая во что-то кружевное и прозрачное, заплетала косы перед зеркалом, стоявшим на туалетном столике. Анатом, так и застывший со всем своим снаряжением, видел в зеркале те самые глаза, в которых вчера была любовь. Вот они сейчас, и принадлежат они только ему, только его глазам. Тут он кашлянул, давая знать о своем присутствии.
Даже не повернув головы, Мона София жестом пригласила его войти.
– Я пришел написать ваш портрет.
Даже не повернув головы, Мона София объявила:
– Что вы будете делать во время визита, мне совершенно безразлично. – И тут же добавила: – Кстати, если не знаете, такса десять дукатов.
Вы меня не помните? пролепетал Матео Колон.
– Если бы я увидела ваше лицо… – сказала она своему неизвестному собеседнику, лицо которого скрывал от нее свернутый холст.
Тогда анатом сложил на пол свой багаж. Мона София принялась рассматривать его в зеркале.
– Не думаю, что видела вас прежде, —с сомнением в голосе произнесла она и повторила: – Десять дукатов.
Матео Колон положил десять дукатов на ночной столик, развернул холст, натянул его на подрамник. Достал краски из висевшего на поясе мешочка, приготовил кисти и, не говоря ни слова, приступил к портрету, который должен был бы называться «Влюбленная женщина».
IV
Каждый день, когда механические фигуры на Часовой башне отбивали пять, Матео Колон поднимался по семи ступенькам, ведущим во внутренний дворик борделя на улочке Боччьяри, входил в комнату Моны, клал десять дукатов на ночной столик и, пока натягивал холст, даже не сняв плаща, говорил Моне, что любит ее, что, хотя она не хочет знать его, он видит любовь в ее глазах. Нанося на холст мазок за мазком, он умолял ее покинуть бордель и уехать с ним на другую сторону горы Вельдо, в Падую, говорил, что, если она захочет, он покинет свой университетский кабинет. И Мона, лежа обнаженной на постели, с сосками, твердыми, как зернышки миндаля, и нежными, как лепесток фрезии, неотрывно смотрела на Часовую башню, возвышавшуюся за окном, дожидаясь, пока снова раздастся бой часов. И когда он, наконец, звучал, она смотрела на этого человека исполненным злобы взглядом:
Твое время истекло, – говорила она и удалялась в туалетную комнату.
И каждый день, в пять часов вечера, когда тени от колонн Сан-Теодоро и крылатого льва сливались в одну продолговатую полосу, пересекавшую пьяццу Сан-Марко, анатом приходил в бордель со своим мольбертом, холстом и красками, клал десять дукатов на ночной столик и даже не снимал камзол. Смешивая краски на палитре, он говорил, что любит ее, что, хотя она сама не знает этого, он видит любовь в ее глазах. Он говорил ей, что даже рука Бога не смогла бы вновь создать такую красоту, что, если владелица не разрешит их брак, он выкупит Мону, отдав за нее все деньги, какие у него есть, что она оставит этот позорный публичный дом и они будут жить вместе в его родной Кремоне. И Мона София, которая, казалось, нисколько не слушала его, проводила рукой по своим бедрам, мягким и крепким, словно выточенным из дерева, и дожидалась, пока раздастся первый из шести ударов колокола, и это будет означать, что время ее клиента истекло.







