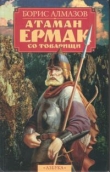Текст книги "Димитрий Самозванец"
Автор книги: Фаддей Булгарин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 39 страниц)
– Делай, что тебе угодно! – сказала Федосья.
Боярин взял перо и, написав несколько строк, сказал:
– Да погибнет ненавистный род князей Черкасских! Они также свойственники покойного царя и Романовых.
– Пиши князей Шестуновых, – примолвила Федосья. – Князь Федор неотступно просил тебя помириться с женою и бросить меня, несчастную.
Боярин написал и сказал:
– Уж коли губить Шестуновых, так туда же дорога князьям Репниным и Сицким, их родственникам и приятелям. Князь Иван Васильевич Сицкой голосит в Думе Боярской и часто отвергает мои предложения. Вечная ему память! – примолвил боярин, улыбнувшись.
– Ну, так вечная память! – повторила Федосья.
Боярин стал снова писать, приговаривая:
– Вечная память знаменитому боярину, любимцу покойного царя Ивана Васильевича, Богдану Яковлевичу Вельскому! Аминь!
– Что ты это, Семен! – воскликнула Федосья. – Боярин Вельский – друг царя исстари, помог ему сесть на престол, возвысил род ваш…
– А теперь, когда более ничего не может сделать, так в землю, чтоб не заваливал дороги и не припоминал старины царю Борису. Вечная память!
– Вряд ли успеешь! – примолвила Федосья.
– Так ты поможешь, – возразил боярин. – С Вельским должны погибнуть князья Милославские, родственники его и старинные приятели. Мои первые злодеи князья Шуйские, которые и в Думе и на пирах явно враждуют со мною и, наконец, клеврет их и друг печатник Щелкалов.
– Воля твоя, Семен, но ты затеваешь не по силам! – сказала Федосья. – Щелкалов – старый друг и товарищ царский, добрый и смирный старичишка: он корпит над своими бумагами и не мешается ни в какие дела, кроме посольских. Он прославился заслугами и милостью трех царей от Иоанна до Бориса. Его тебе не удастся свергнуть, да я не вижу, для чего?
– Удастся или не удастся – увидим, а нужно для того, чтоб дать это место брату моему или взять себе. Он друг Вельского, Шуйских, Романовых – вот и преступление!
– Пиши князя Бахтеярова-Ростовского, – сказала Федосья. – Он не послушал просьбы моей и не освободил от правежа купца Голубцова.
– Готово, – сказал боярин. – Но я забыл Карповых, – примолвил он. – Это старинные враги Годуновых. Пришла пора от них избавиться (45).
– На первый случай довольно, – сказала Федосья. – Вот уже одиннадцать первостатейных боярских и княжеских родов, а всего будет душ до сорока. Не надобно слишком пугать царя большим числом; ты знаешь, что он неохотно решается на строгие меры, и тут нельзя будет работать исподтишка, как он любит, а надобно будет ударить лицом к лицу, при солнечном свете. Умерь свой жар, Семен! Одиннадцать родов поведут за собою много других, а как начнется дело да розыск, так явятся и доносчики, и свидетели, и улики. Поверь мне, довольствуйся на первый раз этим.
– Послушаюсь тебя, делать нечего, – отвечал боярин, положив перо, – надобно было бы еще вписать десятка два. Но ты правду говоришь, как начнется розыск над первыми родами, то явятся и доносчики. Тогда будет легче работать. Ну, прощай, моя любезная Федосья! Благодарю тебя и вовеки не забуду твоей прислуги. Все твое: и я сам, и все, что имею! Пекись только о том, чтоб я был в милости у царя и мог губить моих завистников, – боярин обнял, поцеловал свою любовницу и, свернув бумагу, пошел к себе в дом. Федосья, провожая его до ворот, сказала ему:
– Не забудь же, Семен, донести царю, что эти имена я велела тебе написать, смотря в мое стальное зеркало, которое ты у меня видел.
– Конечно, это твое дело, – примолвил боярин, улыбаясь. – Я только посланец твой и исполнитель воли царской!
ГЛАВА II
Беглецы. История чернеца Леонида.
В густом лесу, среди огромных дубов, кленов и лип протекал ручей ключевой воды. Здесь отдыхали Иваницкий (в монашеской одежде), чернецы Леонид и Варлаам, бежавшие с ним из Москвы, и присоединившийся к ним в пути крылошанин Чудова монастыря Мисаил Повадин. Сей последний, тучный телом, роста исполинского, почти выбился из сил и лежал, распростершись на траве. Черные его волосы были в беспорядке, полуоткрытые глаза устремлены были на один предмет, пот лился градом с высокого чела. Варлаам разводил огонь и укреплял сошки; Леонид, почерпнув воды из ручья небольшим котликом, развязывал узел, в котором находились съестные припасы: крупа, толокно, сушеное мясо и ветчина. Иваницкий сидел один на обрушившемся дереве и хладнокровно смотрел на своих товарищей. Все молчали.
Когда котел закипел на огне, Леонид сел возле Иваницкого, а Варлаам распростерся на траве и, вздохнув, сказал:
– Господи Боже мой! когда кончатся наши мучения!
– Что, уж твердость твоя растаяла на весеннем солнышке? – возразил Иваницкий с горькой улыбкой. – Беда царевичу Димитрию, если он не найдет в России слуг тверже и мужественнее! Стыдись, Варлаам! При первом опыте ты уже готов отречься от своего государя законного! Ты, служитель церкви, должен подавать мирянам пример мужества, постоянства, самоотвержения в деле общественном, в деле отечества! – При сих словах Мисаил приподнял голову и устремил взоры на Иваницкого, который продолжал:
– Не видите ли вы, братья, что провидение Божие явно покровительствует нас как первых сеятелей блаженства на земле русской, первых провозвестников истины, с которою сопряжено счастье России. Противу нескольких безоружных иноков царь Борис поднял всю силу самодержавия, все ухищрения коварства, чтоб поймать нас, чтоб смертию запечатлеть уста, возгласившие пришествие мстителя. Но все усилия Годунова сокрушились, и мы безопасно прошли от Москвы до пределов России, прожили весело остаток зимы и Северских городах, по обителям братий-отшельников, нашли везде пособие и защиту! Не видите ли чуда в избавлении брата Мисаила, который уже был в когтях демонских и спасен единственно промыслом от пытки и верной смерти? Наше дело правое, святое, и мужу праведному подобает умереть за истину, терпеть, страдать, но не упадать духом.
– Все это правда, – сказал Мисаил, – но если б мы были, по крайней мере, уверены, что тот, за кого мы терпим, истинный царевич Димитрий и что мы страданиями своими принесем ему пользу.
– Как! – воскликнул Иваницкий, вскочив с своего места, – ты осмеливаешься сомневаться в святой истине, возглашенной мною? Ты, взысканный мною из праха к славе и почести, назначенный быть одним из первых слуг законного государя! Придет время, и первые вельможи, первые святители будут завидовать тебе, недостойному! Ты сомневаешься также в пользе от твоего страдания. Дело уже сделано: слово истины уже изречено, весть о спасении царевича утверждена в России и подвиг ваш кончен. Провидение довершит остальное. Теперь должно помышлять только о нашем спасении, и в этом мы успеем, при помощи Божией.
Мисаил в молчании прилег снова головою на свою котомку. Варлаам сказал:
– Я не потерял ни твердости, ни мужества, но разве не позволено человеку облегчить страдания жалобою? От Брянска гонятся за нами сыщики Борисовы, как хищные враны за кровавою добычей. След наш открыт, и если б мы не кружили доселе по лесам и болотам, то давно уже попались бы в руки наших злодеев. На последнем нашем ночлеге в селе Невкли добрая наша хозяйка сказала нам, что на рубеже литовском нарочно поделаны заставы и стоит стража для поимки людей, бежавших из Москвы. Ты сам сознался, Иваницкий, что это силки на нас. Образник Степан, дотоле исправный наш путеводитель, обещал провести нас лесом к Любечу и переправить на другой день чрез Днепр в землю литовскую; но он изменил нам и бежал при входе в этот непроходимый лес. Быть может, он известит слуг Борисовых, и они устремятся на нас, как на лютых зверей! Зачем льстить себя пустою надеждою? Гибель наша неизбежна. Если даже образник Степан не откроет нашего убежища, то голод принудит нас выйти из лесу. Вот уже третьи сутки, как мы скитаемся без дороги в этой дебри и, может быть, вместо того, чтоб удалиться от опасности, приближаемся к ней! Скажи теперь ты, мудрый наш путеводитель Иваницкий, что может спасти нас от мщения Бориса, если сыщики его окружат лес, займут окрестные селения?
– Смерть! – воскликнул Иваницкий, – муж храбрый и благоразумный обязан изыскивать и употреблять все средства к сохранению своей независимости, а когда не может, тогда должен отдать врагам земную свою оболочку и освободиться душою.
– Итак, ты предлагаешь нам смерть как средство к избавлению? – сказал Мисаил Повадин. – Но этим средством мы могли бы давно освободиться от преследований Бориса. За смертию не гоняются, как за пирушкой.
– Малодушный! – воскликнул Иваницкий. – Я призывал вас на подвиг великий, а для совершения великих дел жизнь и смерть не ставятся в расчет.
Леонид, молчавший до сих пор, привстал и сказал:
– Восприяв одежду иноческую, мы уже отреклись от мира, умерли для земли, и каждое наслаждение, которое мы вкушали на земле, было преступлением. Покаемся, братья, в сию минуту опасности и славною смертию за истину загладим грехи наши! Лучшая жизнь не стоит славной и благочестивой смерти. Умереть всем надобно, рано или поздно. Несколько дней, годов не составляют посмертного богатства, ибо по смерти истребляется память числа годов жизни, а жизнь измеряется делами. Благословим Бога за избрание нас в поборники достославного подвига и решимся твердо умереть, когда исчезнут все средства к спасению. Мы с Иваницким подадим вам пример, как должно кончить жизнь, посвященную служению истины.
Иваницкий бросился в объятия Леонида, прижал его к сердцу и сказал:
– Таких людей мне надобно!
Варлаам вскочил с своего места и, подошед к Иваницкому, взял его за руку, примолвив:
– Прости, брат! стыжусь минутной слабости, но я покажу тебе, что и я русский, умею умереть за царя законного. – Иваницкий обнял и поцеловал Варлаама в лицо. Мисаил молчал и зажмурил глаза, притворяясь спящим.
– Любезный друг Варлаам! – сказал Иваницкий. – Если только человек допустит слабости проникнуть в душу, в ней тотчас зарождаются сомнения, предчувствия, страхи и все исчадия расстроенного воображения. Опасность наша не так велика, как ты предполагаешь. Образник Степан бежал от нас не для измены, но от страха, услышав в Невкле о заставах на границе, опасаясь подвергнуть себя нашему гневу в случае, если б он сбился с дороги в темном, непроходимом лесу. Если б он хотел изменить нам, он имел к тому случай в Городне, в Седневе. Напротив того, он сам известил нас о погоне и поиске за нами. Лес этот примыкает к Днепру, как нам сказано в Невкле. До сих пор мы шли влево, чтоб добраться до Любецкой переправы, и оттого долго блуждали, не будучи в состоянии держаться прямо чрез заросли. Возьмем теперь вправо, к стороне Лоева, и я надеюсь, что еще к вечеру мы будем на Днепре. Невозможно, чтоб Борис окружил всю границу сыщиками, как цепью! Мы непременно найдем свободное место, а если нет, то силою прорвемся. Нас четверо сильных, здоровых и смелых мужей – и сыщики смертны! Сразимся, если нужно, и верно победим, ибо здесь дело не о награде за поимку беглых монахов, но о жизни, чести, о благе России! Итак, друзья, будьте спокойны: отдохнем, подкрепим силы пищею и пустимся в путь.
Мисаил в это время приподнялся с земли, а Варлаам пошел к огню снять котел.
– К каше с ложкой ты первый, Мисаил! – сказал Леонид, – а к делу последний. Глядя на твой рост, нельзя не удивляться, что столь огромное тело вмещает в себе столь малую душу. Это – точно пустая башня! – Все улыбнулись. Мисаил молчал.
Если человек уверен, что он подвизается за истину, то в самые горькие минуты среди опасностей утешение находит легкий путь в душу и укрепляет ее. Леонид и Варлаам убеждены были, что они подвергают себя опасностям и трудятся в пользу законного государя, и притом государя несчастного, лишенного наследия предков коварством, и потому слова Иваницкого, которого они уважали как посланника, как друга царевича Димитрия Ивановича, возбудили в них прежнее мужество и решимость умереть за правду. Мисаил Повадин, человек слабого ума, преданный чувственным удовольствиям, не мог возвыситься до понятий, одушевлявших его товарищей. Он унывал и раскаивался в том, что подвергнулся преследованиям, разделяя притом сомнение тех, которым он возвещал о появлении царевича, насчет истины сего события. Варлаам избрал Мисаила к провозглашению сего известия для того только, что он более других посещал народные сборища на ярмарках и праздниках. Мисаилу открыта была тайна таким образом, что он не мог изменить главным заговорщикам. Хрущов, которого Мисаил никогда не видал, переодевшись купцом, употчевал его и сказал о появлении царевича. Мисаил тотчас известил об услышанном Леонида и Варлаама, которые присоветовали ему распускать под рукою в народе сие известие. Когда беглецы подкрепили силы свои пищею, Варлаам сказал Мисаилу:
– Ты нам говорил, что был в руках у сыщиков и освободился чудом, но не объяснил, каким образом. Расскажи-ка от скуки!
– Да, брат, было страху! – отвечал Мисаил. – Как подумаю, то и теперь мороз подирает по коже. Если б вы были в таких тисках, как я, то не храбрились бы теперь за глаза. Я возвращался из Александровской слободы в Москву с тремя приятелями. Верстах в семи от Москвы мы зашли на постоялый двор выпить по чарке. Там застали мы человек десять разного народа. Приятель мой иконописец Сенька Лубков назвал меня по имени, и вдруг один широкоплечий и толсторожий удалец кинулся мне на шею, и давай целовать и прижимать меня! "Ты Мисаил Повадин?" – воскликнул он. – "Что ж тут веселого для тебя?" – спросил я, наскучив его обниманиями. – "Ведь ты из Суздаля?" – спросил удалец. – "Да". – "Сын протопопа Ксенофонта?" – "Да". – "Племянник стрелецкого сотника Петра Никифорова, а потому двоюродный брат дочери его, Акулины?" – "Само по себе разумеется". – "Давно ли ты, Мисаил, получал письма из Суздаля?" – "Месяца три". Тут удалец снова бросился обнимать и целовать меня и, отведя в сторону, сказал: "Я жених Акулины, муромский купец Петрушка Лихонин. Поедем со мною в Москву, я тебе порасскажу много кое-чего о твоей родне и напою таким медом, какого ты не пивал от роду. А теперь выпьем-ка за здоровье твоего отца, дяди и двоюродной сестры, моей невесты!" – Мы выпили порядочную красоулю, и я увидел, что мои товарищи также познакомились с бывшими тут людьми и куликают добрым порядком. Новый мой знакомец взял меня за руку, вывел на двор и сказал: "У меня есть кибитка, сядем и поедем скорее в Москву. Уж смеркается, что нам дожидаться твоих товарищей: они навеселе, а притом и без тебя знают дорогу!" Выпив еще по чарке, мы сели с двумя товарищами нового моего приятеля в кибитку, запряженную удалою тройкою, и помчались вихрем. В голове у меня шумело, и мне сделалось душно и тошно в кибитке. Я хотел выйти, но мне советовали остаться. Я стал настаивать, чтоб меня выпустили, но товарищи мои держали меня силою. Подозревая злой умысел, я стал рваться, но новые мои приятели скрутили меня веревками и завязали рот полотенцем. "Попался тетерев на приманку! – сказал мне тот удалец, который назвался женихом моей двоюродной сестры Акулины. – Потолкуй-ка прежде с боярином Семеном Никитичем Годуновым да расскажи ему о царевиче Димитрии Ивановиче; ты, вишь, большой мастер рассказывать! Авось боярин прижжет тебе язык, так лучше будет пропускать мед в глотку". Злодей долго шутил надо мною и над моею роднёю, как вдруг кибитка ударилась об ухаб и опрокинулась. Я упал в снег и чуть не задохся. В это время наскакала тройка из Москвы. В открытых санях сидело четыре человека с извозчиком. Они бросились помогать нам. Увидев меня связанного, добрые люди спросили, кто я таков и кто таковы мои губители. "Мы сыщики царские и везем этого монаха по слову и делу к боярину Семену Никитичу Годунову". – "Пустое, вы воры и разбойники! – закричали добрые люди. – И будьте вы прокляты с вашим боярином!" После этого они бросились ко мне; сыщики стали отгонять их. Тут подоспела другая тройка с четырьмя приятелями моих избавителей, завязалась драка, сыщиков прибили до полусмерти, лошадей их выпрягли и взяли с собою, а меня развязали, полумертвого положили в сани и поскакали во всю конскую прыть. Проехав верст десяток от места драки, избавители мои свернули с дороги и остановились в лесу; один из них дал мне рубль, ломоть хлеба, флягу с водкой и сказал: "Ступай, отче! Спасайся как можешь и где можешь. Если пройдешь этим лесом прямо верст пятнадцать, то выйдешь на большую Серпуховскую дорогу". Я стал благодарить их, хотел узнать, кому обязан спасением, но они не слушали меня, ударили по лошадям и помчались по проселочной дороге. Вот каким чудом я спасен из рук дьявольских!
– И после этого ты осмеливался семневаться в чудесном спасении царевича Димитрия Ивановича! – сказал Иваницкий.
– Я не сомневаюсь, но только пересказываю, что слышал от других. Не все верят… – отвечал Мисаил.
– Верят многие, поверят и все, когда царевич явится, – возразил Иваницкий.
– Как же тебя не задержали в пути? – спросил Леонид.
– Кажется, меня никто не искал, – отвечал Мисаил. – Я шел спокойно, от монастыря до монастыря, от села до города, и дошел до Брянска. Тут встретил я образника Степана, который известил меня, что вы в городе и что сыщики царские ищут беглых монахов из Москвы. Как я также вышел из Москвы не по добру не по здорову, так пристал к вам, и вот попал, как зверь, в лес!
– Прибавь: нам на беду, себе во спасение, – примолвил Леонид.
– Попал, как зверь! Что правда, то правда, – сказал, смеясь, Варлаам. – Чего тебе опасаться здесь? Ты дома.
– Шутите, смейтесь, пока я высплюсь, – сказал Мисаил и бросился на траву.
– Этот Мисаил – обоз в нашем войске, – сказал Иваницкий. – Полезен в безопасности и хлопотен в опасности. Если б он не нес на своих плечах наших припасов, то лучше бы нам было двигать бревно, чем водить с собой эту тушу. Но как он оказал услугу царевичу, то я должен спасать его от гибели.
– Скажу спасибо, когда исполнишь обещание, – проворчал Мисаил и закрылся рясою. Варлаам также лег отдыхать. Иваницкий и Леонид отошли шагов сто от товарищей и сели на мураве на берегу ручья.
– Ты никогда не отдыхаешь после обеда по обычаю русскому, – сказал Леонид.
– Сон – образ смерти, – отвечал Иваницкий. – Человек рожден для деятельности, и пока природа бодрствует при свете солнечном, сон не должен держать тела и души в узах.
– Я буду бодрствовать с тобою, – сказал Леонид.
– Нет, отдохни, друг! – возразил Иваницкий. – Ты изнурен, и сон подкрепит тебя.
– Могу ли я спать в моем положении! – воскликнул Леонид. – Вот приближается минута, в которую я должен разлучиться или с жизнью, или с отечеством. Одно стоит другого! Не думай, друг, чтоб я колебался или упал духом. Нет, но невольная грусть, как камень, нажимает сердце и холодит его печальными предчувствиями. Друг мой, я столько уже. претерпел в жизни, что она не может иметь для меня никакой прелести. Я потерял даже надежду на счастье. Но оставить отечество и, быть может, навсегда, тяжело русскому сердцу. Я уже странствовал, гонялся за призраком блаженства земного, любил – и все потерял! В отечестве моем под ризою отшельника я приобрел спокойствие, которое теперь снова разрушено… – Леонид закрыл глаза руками.
– Любезный друг, – сказал Иваницкий. – Я умею чувствовать твое положение и" разделять скорбь твою. Но душа твоя закрыта для меня. Открой мне тайну твоей жизни и страданий, ты облегчишь себя и найдешь утешение в сострадании друга. Радости умножаются, а грусть ослабевает от раздела.
– Так, между нами не должно быть ничего сокрытого, и если мне суждено погибнуть, ты, может быть, спасешься и сохранишь обо мне память. Слушай, я поведаю тебе повесть моей жизни, или, лучше сказать, моих несчастий. Я родился в Великом Новегороде. Отец мой, Михаил Криницын, был первостепенный гражданин и в числе своих предков считал многих посадников и военачальников. Нас было три брата и две сестры, нежно и равно любимых родителями. Я был младший. Мне было шесть лет от рождения, когда царь Иван Васильевич, посланный небом для казни россиян, устремился с кровожадными своими клевретами на погубление славного Новагорода. Это было в 1570 году. Помню, что в один зимний вечер отец собрал всех нас в свою светлицу, благословил, плакал над нами и что мать моя, прижимая меня к груди, молилась перед образом и орошала меня слезами. На другое утро я пробужден был воплями и стонами. Свирепые воины скакали на конях по улицам, гнали перед собою народ, как стадо, и убивали безоружных своих братии. Я не понимал тогда сего злодейства, но врожденные человеку чувства, страх и жалость, отозвались в младенческой душе моей. Я трепетал, видя льющуюся кровь и растерзанные тела, плакал, слыша вокруг себя стенания. Разбойники Иоанновы вломились в дом наш, в глазах наших умертвили родителя, разграбили имущество, обнажили даже иконы от златых и серебряных окладов и родительницу мою, с нами и слугами, ударами выгнали из дому и погнали с толпою народа к Волхову. Мы шли по грудам тел, по крови, испуская вопли и рыдания. Приблизясь к реке, к тому месту, где она не замерзает, мы увидели, что жен, детей и старцев свергают с мосту в воду и что разбойники, разъезжая на лодках, бьют баграми и секирами несчастных, ищущих спасения (46). Та же участь ожидала нас. Мать моя вела меня за руку. Проходя чрез груды тел, она сказала мне: "Приляг, Алеша, здесь, закрой глаза и притворись спящим. Когда смеркнется, я приду за тобою; но до вечера лежи смирно и не шевелись". Полумертвый от страха, я послушался матери, лег между телами и закрыл глаза. Не знаю, что происходило вокруг меня до вечера. Вопли и стенания не умолкали, и я лежал, не смея перевесть дыхания. Когда же вопли утихли, я открыл глаза, искал взорами родимой, протягивал руки и осязал одни бездушные тела. Голод и жажда мучили меня. Я утолил жажду снегом, но холод пронял меня, я не мог долее оставаться на одном месте. Не видя матери, я встал, осмотрелся кругом и хотел идти домой, но в темноте не нашел дороги и прошел через мост за Волхов. В одной поперечной улице услышал я шаги человеческие и, не предвидя опасности, побежал к человеку, догнал его и со слезами стал просить, чтоб он проводил меня до дому. Это был отец Анастасий, священник, которого я часто видал в доме моих родителей. Он взял меня за руку, велел молчать и продолжал путь. Из улицы мы свернули в сторону, перелезли чрез несколько плетней и заборов и очутились в поле. Я не мог более идти от усталости. Добрый священник взял меня на плечи, подкрепил силы мои куском черствого хлеба и продолжал путь. Достигнув леса, отец Анастасий бросился на колена и, воздев руки к небу, стал молиться. Я смотрел на него и плакал, помышляя о моих родителях и братьях. Не постигая всего моего бедствия, я чувствовал одну горесть временной разлуки. Избавитель мой, отдохнув, пошел в лес, ведя меня за руку, а иногда неся на плечах. Чрез несколько времени мы увидели в лесу огонь. Священник взлез на дерево, чтоб узнать, что за люди при огне, и к радости своей увидел, что это новгородцы, наши несчастные братья, спасшиеся от кровопролития. Мы поспешили к ним и были приняты с радостию и слезами. Несколько семейств успело укрыться здесь при приближении передовой дружины Иоанновой, предчувствуя бедствие. Запасы их были истощены. Несколько смелых юношей решились идти в ближнее селение и, только в сие время возвратились с небольшим количеством толокна, которое тотчас было разделено на ровные части. Отец Анастасий призвал всех к молитве, и несчастные, блуждая в родной земле, как дикие звери, со слезами умоляли судью небесного усмирить гнев судьи земного и спасти отечество от погибели. Мы провели ночь в яме, устланной мохом и ельником. Меня призрели добрые женщины, как родное детище, и плакали надо мною. Все знали и уважали моих родителей. Утром, после общей молитвы, отец Анастасий отправился в путь, взяв меня с собою. Мы благополучно достигли до какого-то монастыря; добрые иноки укрывали нас несколько дней и, снабдив всем нужным, отправили в дорогу. Не помню, сколько времени продолжалось наше путешествие и где мы перешли чрез рубеж России, но помню только, что к весне мы прибыли в Киев.
Отец Анастасий отдал меня на руки одному из своих старинных друзей греческому купцу Филиппу Критосу, который был женат на киевлянке греческого исповедания. Они были в браке уже несколько лет, но не имели детей. Сострадая о моей участи и зная уже о бедствиях отечества нашего, они усыновили меня и поклялись пещись обо мне и тогда, когда б Бог даровал им потомство.
Умолчу о летах отроческих, которые не представляют ничего занимательного. Меня сперва обучали грамоте на дому, а после отдали в училище, находящееся при знаменитой Киевской духовной школе, единственной на севере (47) для обучения юношества православного в науках, которыми славится Западная Европа. Я только ходил в училище в часы учения, но жил дома и пользовался нежностию моих благодетелей, как родной их сын. По прошествии шести лет от вступления моего в дом моих благодетелей господь Бог услышал молитвы их и благословил детищем. Моя вторая мать родила дочь, которая названа была Калерией (48); чрез два года она разрешилась от бремени другою дочерью, Зоей.
Между тем я возрастал и уже начал посещать духовную Школу. Калерия и Зоя в младенчестве почитали меня братом, и я любил их со всею нежностию единокровного. Но младшая сестра, Зоя, возбуждала во мне от детства большую нежность, а пришед в тот возраст, когда женская прелесть возмущает душу и воспаляет сердце, она зажгла во мне любовь не братскую, но пылкую страсть, которая составляет радость и мучение жизни…
Иваницкий при сих словах прервал рассказ Леонида.
– Ты любил, Леонид! – воскликнул Иваницкий, быстро схватив за руку своего товарища. – И ты мог порицать любовь мою к Ксении! Может ли сердце входить в какие-нибудь расчеты? Любовь зарождается противу нашей воли, но я не хочу прерывать тебя – продолжай!
Леонид продолжал:
– Зое было не более пятнадцати лет от рождения, когда я открылся ей в любви моей, открылся без намерения, следуя внушению одной страсти, заглушавшей все другие чувства. Зоя меня любила. Она объявила мне, что не будет никогда счастливою, если не будет моею женою, и позволила мне просить у родителей руки ее, лишь только старшая сестра выйдет замуж. Калерия знала о нашей любви, но мы скрывали до времени наши чувства пред родителями. Я был счастлив целый год: любил, ежедневно видел Зою, говорил с нею, слышал от нее уверения в любви ко мне, питался надеждами. Вдруг грянул гром и разрушил счастие мое – навеки.
Леонид остановился, вздохнул тяжело, и глаза его наполнились слезами.
– Я могу теперь плакать, – сказал он. – Это одно утешение, которое принесло мне время. – Помолчав немного и успокоившись, он продолжал:
– Ты знаешь, что даже единоземцы наши ведут жизнь свободную в Киеве, соображаясь более с нравами польскими. Дом благодетелей моих посещали многие из польских дворян и обедали за одним столом с целым нашим семейством. Один из богатых польских панов, уже пожилых лет, Прошинский, пленился красотою Зои и, не смея сам объясняться с девицею, предложил чрез свах родителям отдать ее за него замуж, обещая сверх подарка значительного имения будущей жене по венечной записи дать отцу 20000 злотых на его торговые обороты. Дела отца Зои были в то время в расстройстве; кроме того, греческое сребролюбие отозвалось в душе (я должен сказать это, хотя чту память благодетеля); к этому присоединилось тщеславие от союза с богатым дворянином, и Критос решился пожертвовать дочерью, как он говорил, для блага семейства. Мать не смела противиться воле своего мужа, и Зое объявили, чтоб она готовилась выйти замуж за Прошинского, которого она видела только несколько раз. Не будучи в состоянии преодолеть себя, Зоя бросилась в ноги родителям, открылась в любви ко мне и просила их со слезами не губить ее и сочетать со мною. Мать растрогалась, но неумолимый отец запер дочь свою в терем, призвал меня, осыпал упреками, назвал неблагодарным, соблазнителем и выгнал из дому, угрожая убить меня, если я осмелюсь предпринять что-нибудь противу его воли. Скрепив сердце, я безмолвно выслушал его упреки, не понимая, чтоб нежная и почтительная любовь могла назваться неблагодарностью и соблазном. Я не хотел ни оправдываться, ни сделаться в самом деле неблагодарным, платя дерзостью за несправедливость. Новгородская гордость во мне пробудилась. Я вышел из дому и стал искать убежища у моих школьных товарищей. Один из них принял меня в скромное свое жилище и, узнав о причине моего изгнания из дома благодетелей, видя мою безмолвную горесть, которая превратилась в какое-то умственное оцепенение, наблюдал за мною, опасаясь самоубийства. Но я не думал лишать себя жизни. Я ни о чем не думал! Образ Зои занимал мое воображение и поглощал все другие помыслы; я не мог расстаться с этим образом, начертанным в сердце и памяти, и для того жил!.. Не постигаю, как я не лишился ума. Друг мой принуждал меня разделять с ним его трапезу: я ел и пил, не чувствуя ни позыва к пище, ни вкуса. Ложился в постель, засыпал и видел одну Зою; пробуждался и думал об ней одной. Таким образом прошло два месяца, и я не выходил из моей светлицы, не смел пройти по улице, опасаясь, чтоб страсть не завлекла меня к дому родителей Зои, куда мне запрещено было приближаться, а я, по чувству благодарности и по врожденной гордости, не хотел нарушить воли моего прежнего благодетеля. В один вечер незнакомый человек принес мне письмо от матери Зои и кошелек с золотом. Вторая моя мать со слезами заклинала меня покориться судьбе, забыть несчастную Зою и удалиться из Киева. Благодетельница моя называла меня любезным своим сыном, уверяла в своей привязанности и просила не огорчать ее сопротивлением. Я хотел возвратить ей золото, но боялся оскорбить. На другой день я отправился в Варшаву без всяких видов и намерений. Мне было все равно, где бы ни быть, когда нельзя было проживать в Киеве. Друг мой нашел мне попутчиков, купцов из Варшавы, и я с ними отправился в путь.
Добрые мои спутники по равнодушию моему ко всему земному и по безмолвию моему заключили, что я болен. Я в самом деле был болен. Скорбь снедала меня. Один из них предложил мне жительство в своем доме, на что я согласился. Тщетно мой хозяин старался рассеять меня удовольствиями сей веселой столицы. Я бегал от людей и от забав: веселость других увеличивала скорбь мою. Каждый из этих людей, думал я, имеет отечество, семейство, любит или может любить – а я сирота бесприютный, в чужой земле, без надежды на счастье, я не должен смешиваться с людьми счастливыми, не должен отравлять их наслаждений моим присутствием. Я бродил днем по окрестностям города, по лесам и в городе посещал только церковь православную. Там, пред общим отцом, переносясь мыслию в общее отечество рода человеческого, я умолял его прекратить мое жалкое существование в сей юдоли плача. Проливая слезы пред алтарем Всевышнего, я в одной только молитве находил утешение.