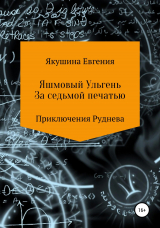
Текст книги "Яшмовый Ульгень. За седьмой печатью. Серия «Приключения Руднева»"
Автор книги: Евгения Якушина
Жанр:
Исторические детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 4 страниц)
Евгения Якушина
Яшмовый Ульгень. За седьмой печатью. Серия «Приключения Руднева»
Яшмовый Ульгень
Глава 1.
Александра Михайловна с царственной грацией помешивала сахар в чашке голубого английского фарфора и с несколько наигранной печалью взирала на Белецкого.
– Ах, Фридрих Карлович! Если бы не вы, я чувствовала бы себя совершено одинокой. Совершенно! Таков удел стареющей матери!
– Полноте, Александра Михайловна! – привычно возразил Белецкий – Вы никогда не будете стареющей, ибо истинная красота, душевная и телесная, времени не подвластна.
Этот диалог с легкими вариациями происходил между ними практически ежедневно. И хотя Белецкий вёл его, не задумываясь над предметом беседы, он не врал. Во-первых, Фридрих Карлович Белецкий был человеком исключительной честности. А, во-вторых, Александра Михайловна Руднева, в девичестве графиня Салтыкова-Головкина, была и впрямь женщиной необыкновенно прекрасной внешности и истинной духовной силы.
Белецкий воззрился на свою собеседницу, любуясь ей.
Александра Михайловна в свои сорок два года сохранила девичью лёгкость фигуры, которую изыскано дополняла благородная стать зрелой женщины. Лицо её с тонкими аристократическими чертами было всегда приветливо и немного задумчиво. Несколько глубоких морщин пересекали высокий белый лоб, легкие морщинки залегли в уголках глаз и губ и, хотя были они на вид не скорбными, а лишь печальными, таили в себе великую тоску и боль. Им вторила седая прядь, оттеняющая пышные медно-каштановые волосы, обычно собранные в какую-то сложную, но элегантную прическу, из которой вечно выбивалось несколько непослушных локонов. Самым замечательным в этой женщине были обрамленные длинными черными ресницами глаза, огромные, цветом похожие на дымчатый топаз – голубовато-серые, глубокие и задумчивые. Взгляд этих восхитительных глаз обычно легко скользил по поверхности предметов, тонко касался собеседников, не заглядывая в глубину, но если вдруг замирал на человеке, то делался пристальным и будто бы брал душу в плен.
Характер у Александры Михайловны был под стать её взгляду. При поверхностном знакомстве он виделся легким, мягким и даже немного театральным, но те избранные, кто знали эту женщину ближе, почитали в ней мудрое спокойствие, несгибаемую волю и доброту ко всякому божьему творению. Белецкий был счастливцем из числа посвященных.
Фридрих Карлович Белецкий познакомился с Александрой Михайловной одиннадцать лет назад, когда ему было всего шестнадцать лет. Его, осиротевшего отпрыска старинного служивого немецкого рода, ввёл в семью Рудневых покойный супруг Александры Михайловны, Николай Львович Руднев, знаменитый исследователь Сибири, реформатор Корпуса военных топографов, географ и этнограф. Николай Львович хорошо знал отца мальчика, служившего при Алтайской этнографической комиссии, и счёл своим долгом оказать содействие сироте.
Юноша был умен и усерден. К тому времени он окончил классическую гимназию и хотел поступать на инженерные курсы, но со смертью родителя лишился всякого дохода и был вынужден отказаться от своих планов. Руднев поручал Белецкому переписывать путевые журналы экспедиций, каталогизировать коллекцию находок, разбирать деловую и научную переписку.
Не сказать, что канцелярская работа нравилась молодому человеку, но он был счастлив быть сопричастным великому делу и мечтал о том дне, когда Руднев возьмет его с собой в настоящую экспедицию, видевшуюся юноше в самых романтических красках. И, дабы быть в полной мере готовым к этому великому испытанию силы и духа, Белецкий тратил жалование на уроки фехтования, верховой езды и стрельбы. Обучал его вышедший в отставку драгунский поручик, латавший за счет недорогих уроков «сИроту-немчурёнку» вечное своё безденежье, в котором пребывал из-за пагубного пристрастия к горячительным напиткам.
Кроме благородных мужских искусств, Белецкий также постигал и высокое мастерство простой дворовой драки, держа, правда, сей факт в тайне от своего покровителя и его домашних.
Осознание необходимости этого навыка пришло к нему после прискорбного для его юношеского самолюбия происшествия. Однажды, пробегав целый день по Москве с поручениями, он затемно пешком возвращался в особняк Рудневых на Пречистенке. Несмотря на поздний час и страстное желание оказаться дома побыстрее, Белецкий предпочел сэкономить на извозчике. Он знал Москву, где родился и вырос, как свои пять пальцев, и потому из любой её точки в любую другую мог найти короткий маршрут через малые переулки и проходные дворы. Однако в позднее время даже близь благообразной Пречистенки темные заулки и тупики изобилуют личностями сомнительными и лихими. Зная это, молодой человек все-таки пренебрёг опасностью, не то рассчитывая на удачу, не то веруя в свою физическую подготовку, укрепленную уроками драгунского поручика, не то просто не думая о плохом в силу юношеского легкомыслия. Как бы то ни было, Белецкому не повезло. В каких-нибудь десяти минутах от дома он столкнулся с налетчиком, который с одного удара свалил драгунского ученика с ног, жестоко побил и отнял у него пальто, шапку и сапоги. Больше, по чести сказать, отбирать у молодого человека было нечего. Самым постыдным в этой истории было то, что бандит был года на три младше Белецкого, но у того при этом не было против напавшего ни единого шанса, так ловко уличный мальчишка дрался.
Залечив ссадины и синяки, а пуще всего раненую гордость, Белецкий отправился на поиски своего обидчика. В планах его была отнюдь не месть. Невзирая на романтичность своей юношеской натуры, он был человек не по годам рассудительный и прагматичный. Опыт уличной драки убедительно показал, что стиль борьбы a-la «налетчик» крайне эффективен в сравнении с благородным боем, а стало быть, в некоторых ситуациях может оказаться незаменимым. В частности, подумал Белецкий, во время стычек с аборигенами в исследовательской экспедиции, что означало для него однозначную необходимость освоения данного навыка.
На поиски мальчишки потребовалось всего лишь несколько дней, тот сам вновь попытался напасть на Белецкого в темном переулке, но на этот раз, готовый к атаке, молодой человек успел увернуться, схватить мальчугана за тонкую шею и припереть к стене. К величайшему изумлению пойманного врасплох налетчика, бить его странный барчонок не стал, а предложил платить, если тот будет с ним каждый день драться. Мальчишка, вероятно, счёл Белецкого за сумасшедшего, но лупить человека по договоренности, да еще и за плату, было несравненно более легким ремеслом, чем грабёж, так что договор он честно исполнил, и через полгода Белецкий легко побеждал своего учителя.
В 1888 году Николай Львович приступил к организации очередной экспедиции в горный Алтай и объявил Белецкому, что берет его с собой. К тому времени молодой человек прожил в семье Рудневых уже три года и стал в ней абсолютно своим. Александра Михайловна была к нему добра и заботлива. Привязались к Белецкому и дети Рудневых: старшая Софи и младший Митенька.
Забавная и живая Софи, двенадцати лет, лишь изредка приезжавшая домой из пансиона на каникулы, поверяла ему свои детские тайны и просила подпевать вторым голосом во время домашних концертов. Белецкий держался с ней крайне почтительно, изображая преданного королевского вассала.
Его пугала мыль о том, что Софи вырастет в прекрасную девушку, вернется домой, и – О, боже! – он непременно в неё влюбится. Будучи человеком высоких нравственных представлений, Белецкий считал недопустимым даже тень вожделения к дочери своего покровителя, но знал за собой слабость легко влюбляться. Правда, опыта в любовных делах он не имел, но разгорающаяся в его пылкой душе любовная страсть, которую он испытал за свою жизнь уже целых пять раз, заставляла его считать себя слишком падким на женские чары.
Молодой человек утешал себя тем, что к тому времени, как повзрослевшая Софи вернется домой, он уже давно будет в экспедиции, где-нибудь в диких Алтайских землях, а может быть, даже и героически погибнет во имя исследовательской науки и славы России.
Предположить, что и Софи имеет все шансы в него влюбиться, он, конечно, не мог. Додумайся он до этого, перепугался бы ещё больше.
Намного проще все было с сыном Рудневых – Митенькой. Тихий, хрупкий, слабого здоровья, этот ребенок был избалован вниманием и заботой всех, от главы семейства до младшей кухарки. Но это не портило мальчика. Он рос мечтательным, добрым и немного замкнутым. На момент появления Белецкого в доме Рудневых Митеньке было шесть лет. Вариант отправки мальчика в гимназию или заграничный пансион даже не рассматривался по причине его частых болезней, и к нему приглашали учителей домой. Митенька учился хорошо, легко постигая любые науки, но не проявляя особого интереса ни к одной из них. Любимым занятием мальчика было рисование. По всему дому обожающей матерью были развешены его творения, хотя и детские, но свидетельствующие о незаурядном таланте.
Митенька сразу проникся к Белецкому доверием и симпатией. Не взирая на свою застенчивость и неразговорчивость, он охотно оставался с ним в библиотеке, рассматривал старинные иллюстрированные книги или просил почитать. Надо сказать, что, не в пример большинству своих сверстников, Митенька и сам бегло читал, но больше любил слушать. Помимо библиотеки, они часто ходили вместе гулять либо на Пречистенский бульвар, если Рудневы жили в своем Московском доме, либо на берег Пахры, если семейство обитало в усадьбе близь Милюково. Обыкновенно Митенька просил Белецкого что-нибудь рассказать, а сам же говорил мало. Рядом с мальчиком молодой человек чувствовал себя взрослым и сильным. Чувство это было непривычным, но приятным.
Наступила холодная весна 1888 года. Последняя экспедиция Руднева начала неумолимый отсчет времени до своей трагической развязки. Тогда ещё никто не ведал, что ждет их впереди, в том числе и Белецкий. Опьяненный предвкушением неизведанных приключений и неминуемой славы, он видел впереди лишь яркий радужный свет надеж и мечтаний. И все, чему было суждено случиться через год и в корне поменять его судьбу, казалось бы, уже явственно предначертанную и неизменную, стало для него ударом невообразимой силы.
Руднев покинул Москву в конце апреля 1888 года. Полгода потребовалось на то, чтобы выйти к месту слияния рек Бия и Катунь. В этих местах Руднев основал лагерь, который планировал впоследствии преобразовать в российский центр этих далеких и диких мест. Следующие полгода экспедиция Николая Львовича исследовала самые необыкновенные, овеянные древними легендами поселения и покинутые становища, собирая уникальный материал как для картографов и географов, так и для этнографов и историков. Одной из целей Руднева было разгадать тайну кезер-таш – древних каменных изваяний в Курайской степи. Однажды он отправился к ним с небольшим отрядом, чтобы самолично осмотреть место для временной стоянки, и не вернулся. Никто не вернулся из той группы. Спасательный отряд, в рядах которого был и Белецкий, нашел лишь останки людей. Лошади, оружие и оборудование исследователей были похищены. Видимо, отряд подвергся нападению какого-то воинственного племени из числа тех, что приходили с Туркестанских земель и мстили русскому царю за выстроенное им на крови Степное генерал-губернаторство.
Раздавленный горем и чувством неискупимой вины, Белецкий вернулся в Москву, сопровождая бренные останки своего покровителя.
Похожий более на приведение, чем на живого человека, он явился в дом на Пречистенке, чтобы передать вдове бумаги и личные вещи Николая Львовича.
Не смея поднять глаза на Александру Михайловну, Белецкий пробормотал слова соболезнования и отдал ей портфель с бумагами.
– Фридрих Карлович! Голубчик! Вы же останетесь с нами жить? – внезапно спросила его Александра Михайловна.
Белецкий вздрогнул, как от удара, и растерянно посмотрел на неё. Прекрасное лицо вдовы Рудневой осунулось и посерело, глаза её выцвели от слез и стали, казалось, еще огромнее, а в медно-каштановых волосах появилась седая прядь, серебристо-белая, как снежные вершины Алтайских гор.
– Да как же это, Александра Михайловна? – хриплым, будто не своим, голосом спросил потрясённый Белецкий. – Я не смею. Я…не… Простите меня, Александра Михайловна!
– Фридрих Карлович, милый, я знаю, как вам тяжело! Но прошу!.. Не оставляйте нас! Ради Николая Львовича! Ну как же я буду одна?! А Митенька как?! Без мужчины!
Александра Михайловна схватила его за руку и порывисто сжала в своих тонких и холодных пальцах.
Так Белецкий узнал, что такое милосердие, поняв вдруг, что эта женщина, лишившаяся любимого мужа, не то что прощает его, когда и сам он не мог найти себе прощения, но даже не имеет в мыслях винить его и, более того, сочувствует его безграничному горю. Пораженный осознанием этого, он рухнул перед ней на колени и разрыдался. Это были первые и единственные слезы, пролитые Белецким по своему покровителю.
Белецкий остался в доме Рудневых. По-прежнему занимался перепиской и другими секретарскими работами, теперь уже для Александры Михайловны, но основной его заботой стал Митенька. Белецкий был при мальчике и воспитателем, и гувернером, и камердинером, а главное, единственным доверенным лицом, перед которым десятилетний Митенька не стеснялся открывать душу, слишком уж ранимую для такого юного человека.
Смерть отца мальчик пережил тихо, но глубоко. Знали об этом лишь преданный Белецкий и мудрая Александра Михайловна. Остальные считали, что Митенька слишком мал и, слава Богу, не может понять свалившегося на семью горя.
Всего лишь один раз между Митенькой и Белецким состоялся разговор о гибели Николая Львовича. Однажды, когда Белецкий укладывал его спать и спросил, что почитать ему на ночь, мальчик тихо, но твердо попросил рассказать, что случилось в Курайской степи. Не зная, как уйти от тяжелого разговора, Белецкий рассказал сыну великого исследователя все, как было. Митенька выслушал его молча, не задавая вопросов. Ни одной слезинки не скатилось по его щекам, ни одного всхлипа не сорвалось с плотно сжатых детских губ. Более они никогда не возвращались к этой теме.
Глава 2.
Приватное чаепитие Александры Михайловны и Белецкого было прервано появлением Софи.
Девушка стремительно вошла на террасу, и та сразу озарилась каким-то особенным веселым сиянием. Было у Софьи Николаевны такое удивительное свойство приносить с собой радостный свет, где бы и в каком обществе она ни появлялась. Молодой человек поднялся и поклонился.
Как и предполагал в свое время еще совсем юный Белецкий, крошка Софи выросла в очаровательную девушку. Она унаследовала от матери стройность фигуры и лёгкость движений. Волосы у Софи были того же медно-каштанового оттенка, но, в отличие от матери, она не убирала их в высокую прическу, а лишь перехватывала лентой или заплетала в толстую косу по моде современных прогрессивных девушек. Лицо её было живым и открытым. Всякое чувство в полной мере отражалось на нём, будь то радость или грусть. А когда она сердилась, то забавно надувала губы и морщила носик в золотистых веснушках. Это казалось Белецкому очень милым. От отца Софи унаследовала чуть раскосые темно-карие глаза, глядящие на окружающих внимательным и проницательным взглядом. Иной раз в глазах этих вспыхивало упрямое яростное пламя, но чаще в них плясали озорные золотистые искорки.
Опасения Белецкого о возможных романтических чувствах к Софье Николаевне, к счастью для него, не оправдались. Как-то само собой между ними выстроились очень доверительные, но абсолютно платонические отношения, схожие более всего с соратничеством. Молодые люди поверяли друг другу сокровенные мысли, делили заботу и тревоги за Александру Михайловну и Митеньку, вели философские споры. Они очень уважали друг друга и ценили свою дружбу.
Отучившись в пансионе, Софи вернулась домой и начала посещать общеобразовательные курсы профессора Герье при Московском университете. Девушку увлекали идеи укрепления позиции женщин в общественной жизни и научной деятельности. Она мечтала посвятить себя либо какой-нибудь науке, либо образованию крестьянских детей, либо ещё какому-нибудь столь же благородному и значимому для России делу. Мать её идей не разделяла, но и не препятствовала.
Два года подряд во время летнего проживания в Милюковском имении Софья Николаевна открывала класс для детишек из ближайших деревень, где учила их грамоте, арифметике, азам истории и естествознания. Учеников набиралось немного, да и те посещали уроки нерегулярно, поскольку летом у крестьянских детей хватало и другой, куда более серьезной и важной для крестьянской жизни работы, а на третий год в классе и вообще никого не оказалось. Энергичная Софи падать духом не стала и хотела было обратиться к уездным властям с просьбой о помощи в создании местного женского училища для девочек мещанского сословия, но тут в её судьбе возник Зорин.
Аркадий Петрович Зорин был представлен Софи во время праздника, который ежегодно организовывали в Милюково в день летнего солнцестояния. Традицию эту завел Николай Львович, а Александра Михайловна не стала её прерывать. Зорин учился на врача и подавал большие надежды. Был он статен и красив, а голова его, так же как и у Софи, была забита благородными помыслами облагодетельствовать низшие сословия.
В первый же день своего знакомства Софи и Зорин, забыв о гостях и приличиях, уединились на террасе усадьбы и до позднего вечера проговорили о необходимости становления системы среднего образования и массовой медицины для всех граждан страны во всех уголках бескрайней России. А на следующее утро каждый из них проснулся с внезапным, но абсолютно ясным пониманием того, что другой для него самый близкий и дорогой человек. Через неделю Аркадий Петрович пришёл в дом Рудневых просить у Софьи Николаевны руку и сердце, а у Александры Михайловны – благословление на брак с её дочерью. И согласие, и благословление были получены, а свадьбу было решено сыграть ближайшей осенью.
– О ком сплетничаете? – весело спросила Софи, подсаживаясь к столу, и, как в детстве, стянула из сахарницы кусок рафинада.
– Помилуйте, Софья Николаевна, да когда же это мы сплетничали? – с улыбкой возразил ей Белецкий. Он всегда начинал улыбаться при её появлении, хотя в обычное время улыбчивость была для него несвойственна.
– Ой, Белецкий! Да вы с матушкой, как две старые кумушки, вечно ведете свои скучные разговоры то о соседях, то о ценах, то о газетах. Ну вот чего вы, скажите мне, сидите тут в такое замечательное утро? Шли бы прогулялись!
– Я жду, когда Дмитрий Николаевич проснется. С ним и пойду, – ответил Белецкий, отодвигая сахарницу из-под протянутой руки Софи. – А вам, Софья Николаевна, как прогрессивной и сосватанной девице, не пристало рафинад пальцами из сахарницы таскать.
Софи и Александра Михайловна звонко рассмеялись.
– И то правда, Фридрих Карлович, ну что вы тут со мной время теряете! Пойдите, погуляйте с Софи. Митенька ещё часа два спать будет, к тому времени вы уж воротитесь.
Белецкий откланялся Александре Михайловне, целомудренно взял Софью Николаевну под локоть, и молодые люди спустились с террасы в сад.
Надо сказать, что Александра Михайловна была единственной, кто называла Белецкого по имени и отчеству. Обычно он всем представлялся лишь по фамилии, предпочитая, чтобы его так и называли, хотя не то, чтобы ему не нравилось его немецкое имя, или он стеснялся своего происхождения, о котором как-то даже и не задумывался.
Немцем он был лишь по крови. Его отец, артиллерийский инженер, приехал в Россию в составе военного представительства, влюбился в русскую женщину, да и остался в этой странной, так никогда и не понятой им стране, пойдя на службу при Географическом Обществе. Он сменил свою непривычную для русского уха фамилию Bellezer на Белецкий, но сохранил в своем доме немецкие традиции. Сына же своего он воспитал в двуязычии и даже крестил его в православной церкви. Так что во Фридрихе Карловиче почти совсем ничего немецкого и не осталось. Разве что безукоризненное немецкое произношение да пресловутые немецкие аккуратность и пунктуальность.
Внешность у Белецкого тоже ничем не выдавала этнических корней: ни светлых волос, ни голубых глаз, ни бюргерской полноты. Он был высок ростом, узок в кости, жилист, и, при всей своей вечной худобе, отличался недюжинной силой в сочетании с изрядной ловкостью движений. Лицо его вряд ли можно было назвать красивым, было оно худым и даже каким-то аскетичным, но привлекало четкостью и правильностью черт: острые скулы, тонкий нос, резко очерченный подбородок, тонкогубый рот, будто прорезанный лезвием. Глубоко посаженные зеленоватые глаза смотрели на мир цепко и внимательно. Он чисто брился, не нося ни усов, ни бороды, оставляя лишь небольшие, гладкие, идеальной формы бакенбарды. Волосы темно-русого цвета он коротко стриг и гладко зачесывал назад. Это расходилось с модными веяниями, но выгодно подчеркивало его высокий чистый лоб. Красавцем себя Белецкий не считал, но в целом на внешность свою не жаловался, тем более что её незаурядность подтверждал неизменный интерес к его персоне со стороны слабого пола.
Побродив по саду в обществе Софьи Николаевны чуть более часа, Белецкий решил, что пора-таки будить Митеньку. В это лето семнадцатилетний Руднев-младший взял в привычку проводить ночи за чтением или рисованием, засыпать лишь под утро и просыпаться к обеду. Этакий богемный режим Белецкому категорически не нравился, и он всячески препятствовал установившемуся распорядку дня своего подопечного.
Митенька к тому времени, однако, уже не спал. Он лежал, раскинувшись на мягкой постели, и обдумывал очень серьезный вопрос, не дававший ему покоя с того момента, как директор гимназии вручил ему аттестат и похвальный лист за отличную успеваемость и примерное поведение.
Обучение в гимназии Митенька начал с четвертого класса, а начальный курс первых трех классов прошёл с домашними учителями. Волнуясь за здоровье сына, Александра Михайловна и в четвертый-то класс не хотела его отправлять, но Белецкий настоял на том, что мальчику нужны дисциплина и общество себе подобных. А главное, говорил он, Митеньке необходимо в полной мере вкусить все радости и горести отрочества, ибо без этого опыта невозможно полноценное и гармоничное становление мужчины. Взрастить же из мальчика настоящего мужчину Белецкий почитал своим долгом.
Когда Митеньке исполнилось десять, Белецкий приступил к закалке и физическому укреплению слабого здоровьем отрока. Постепенно приучал он мальчика к гимнастике и благородным мужским занятиям: верховой езде, фехтованию, стрельбе, а после принялся обучать его приемам борьбы без оружия, разработанным им самим на основе стиля, некогда перенятого у мальчишки-налетчика, и диковинных единоборств, почерпанных во время Алтайской экспедиции. Летом Белецкий водил мальчика в походы с ночёвкой под открытым небом, а зимой выгонял босиком на снег.
К тринадцати годам Митенька в полной мере укрепился и телом, и духом, хотя и остался таким же мечтательным, застенчивым и сосредоточенным на своем внутреннем мире мальчиком. Всем иным занятиям, как и ранее, он предпочитал чтение и рисование. А из всех мужских искусств ему были интересны разве что фехтование и верховая езда, поскольку Митенька грезил о рыцарях и героях войны 1812 года.
В гимназию Митенька поступил легко и учился блестяще, однако друзей, как, впрочем, и врагов, среди одноклассников не заимел, поддерживая со всеми ровные и немного отстранённые отношения.
Оно и вообще, отношение мальчика к жизни казалось несколько безучастным, будто бы смотрел он на этот мир и его обитателей через тюлевую завесу, не желая подходить ближе и остерегаясь касаться любого предмета. Но впечатление это было обманчивым. Подобно своей матери, Митенька скрывал под своей внешней туманной оболочкой замечательную душевную силу. За мечтательностью и нелюдимостью прятались неуемная любознательность, удивительная проницательность, немалая воля и страстная романтичность.
Митенька и внешне больше походил на мать, чем на покойного отца. Среднего роста, даже чуть ниже, был он хрупок сложением, а движения его были легки и изящны. Лицом Митенька был невероятно красив, словно античный герой. Точеные черты, обыкновенно спокойные и невозмутимые, обрамляли слегка волнистые волосы цвета холодного золота. Глаза Митеньки, как и глаза Александры Михайловны, были великолепно большие, чуть более серые, чем у матери, с тем же невероятным туманным взглядом, которой в один момент мог стать удивительно пронзительным, проникающим в самую душу, и гипнотически завораживающим.
Сам Митенька о своей красоте не подозревал и, более того, считал свою внешность истинной напастью, из-за которой ему вечно выпадало играть девиц в спектаклях театрального гимназического кружка.
Не умел Митенька пока и ценить свои таланты. И это неумение стало причиной тревог, обуревавших его с момента окончания гимназии.
Получив прекрасное среднее образование, Митенька столкнулся с вопросом, что делать дальше. Нужно было как-то выбрать себе жизненный путь и выбрать непременно правильно. Само собой, путь этот должен был быть тернист и вести к славе. Выбрать следовало что-то такое, что было бы направлено на благо России, и в чём Митенька непременно бы оказался лучшим и достойнейшим из всех. Однако ни в чём таком он не находил в себе особых задатков.
Можно было пойти по стопам отца, но это значило бы обречь себя на вечное пребывание в тени великого человека. Можно было бы выбрать военную службу, но маменька наверняка не перенесёт его героическую гибель на поле брани. А если без героической гибели, то и смысла не было надевать воинский мундир. Можно было бы стать инженером-изобретателем, но всё значительное – электричество, двигатель внутреннего сгорания и даже аэроплан – уже изобрели.
Оставался, конечно, вариант стать знаменитым художником, но и тут не все было ладно. В России более всего ценились пейзажи, парадные портреты, сцены из жизни простого народа или монументальные полотна о древних трагедиях и исторических баталиях. Ничего из этого Митеньке рисовать не хотелось. А то, к чему лежало сердце, ни признания, ни тем более славы обещать не могло. Митенька бредил прерафаэлитами, течением в России непопулярным и призираемым за своё отступничество от высоких канонов.
Про прерафаэлитов он узнал от учителя рисования, господина Вайстока, хмурого англичанина, явно недолюбливавшего всех гимназистов поголовно. Что заставило Вайстока покинуть Туманный Альбион и, тем паче, пойти преподавать нерадивым отрокам, оставалось для всех загадкой. Однако учителем он был замечательным, а в Митеньке, который, похоже, не нравился ему меньше остальных мальчиков, разглядел талант. Однажды он оставил его после урока и показал альбом с чудесными литографиями. Он рассказал, что это новое течение, очень модное в Британии среди молодых людей, и предложил Митеньке попробовать в нём свои силы. Митенька был сражён. Оказывается, сюжетом картины могли быть рыцари и прекрасные дамы, а не только греческие скульптуры, натюрморты с яблоками да среднерусские пейзажи!
В день выпуска Вайсток подарил своему ученику небольшую репродукцию картины сэра Эдварда Бёрн-Джонса «Сэр Ланселот у часовни святого Грааля», и теперь Митенька всюду возил её с собой и вешал на самое видное место.
Картина эта не просто поражала юношу своей художественной ценностью. Спящий рыцарь в серебристо-белых латах казался ему идеальным героем, эталоном благородства и жертвенности, к которому ему, Митеньке Рудневу, непременно надо стремиться. Так вот и дОлжно жить, думал молодой человек, обязательно дать кому-нибудь или чему-нибудь клятву верности и отправиться на поиски чудесной реликвии, ну, или чего-то в этом роде, способного даровать мир и счастье всем людям до единого, а между делом еще и спасать слабых, лучше, конечно, прекрасных девиц или, в крайнем случае, стариков и детей.
В тот момент, когда мысли доходили до спасения девиц, Митеньке в последнее время почему-то сразу представлялась дочь предводителя уездного дворянства Аннушка Бородина, хотя она и мало походила на томных и бледных дев с картин английских романтиков. Аннушка была веселой и румяной, с бойким звонким голосом и заливистым смехом. От мыслей о ней на душе у Митеньки становилось светло и радостно. Вот и сейчас, вспомнив об Аннушке, он позабыл о своих душевных терзаниях и улыбнулся.
В этот момент в дверь настойчиво постучали, и, не дожидаясь ответа, в спальню стремительно вошёл Белецкий. Суровый воспитатель хмуро сдвинул тонкие брови и скрестил руки на груди.
Митенька забарахтался среди пуховых подушек, не сразу изловчившись выбраться из них и сесть.
– Доброе утро, Белецкий! – смущенно поприветствовал он наставника, ожидая очередного нагоняя за непростительно долгое пребывание в постели.
– Утро? Утро, Дмитрий Николаевич, кончилось часа четыре назад, – ледяным тоном отчеканил Белецкий. – Я снова вынужден обратить ваше внимание, что благородному человеку не пристало вставать позже шести утра.
Митенька помалкивал, терпеливо снося отповедь. Он знал, что никакие его оправдания приняты не будут, а лишь спровоцируют более жесткие и саркастические замечания.
– Извольте одеться, сударь. Мы идем на реку плавать, – Белецкий положил перед Митенькой рубашку и английские спортивные брюки.
По тому, что и сам наставник был без сюртука, а лишь в одной рубашке с жилетом, Митенька понял, что рассчитывать на завтрак до ненавистного ему купания не приходится. А то, что на ногах у Белецкого были спортивные туфли, предвещало неизбежность пробежки до реки.
Постоянные ежедневные тренировки в любое время года и при любой погоде превратили Митеньку в сильного и спортивного молодого человека, но полюбить их он так и не смог. Что касалось купания в реке, то тут дело было даже не в плавании или холодной воде. Митеньке было ужасно стыдно, но он страшно боялся пиявок, которыми изобиловало илистое дно Пахры. Даже не то, чтобы именно боялся, скорее испытывал к ним сильнейшее брезгливое отвращение. Однажды такая дрянь присосалась к его ноге, и он заметил это, только выйдя на берег. Митеньку до сих пор передергивало от воспоминания о том, как он сидел на траве и тихо подвывал, а неустрашимый Белецкий снимал с него распухшего кровососа и после прижигал маленькую, но сильно кровоточащую ранку.
Митенька принялся обреченно натягивать рубашку, Белецкий никогда не помогал ему с одеванием, разве что с подвязыванием галстука. Он вообще был строг со своим подопечным, хотя и почтителен. С самого начала Белецкий обращался к Митеньке исключительно на «вы» и по имени и отчеству, а тот с детских лет привык называть наставника на «ты», хотя более ни с кем из взрослых себе этого не позволял. Впрочем, Белецкий был не таким уж и взрослым, с Митенькой их разделяло всего десять лет.








