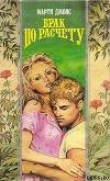Текст книги "Брак по расчету. Златокудрая Эльза"
Автор книги: Евгения Марлитт
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 35 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
– Я знаю, как это приятно, – перебила его с восторгом молодая женщина. – Когда я, бывало, с Магнусом возвращалась домой после сбора растений, усталая, голодная, и сворачивала около фонтана в длинную аллею, которую ты знаешь, то я еще издали видела за стеклянной стеной накрытый стол в зале, а вокруг него – милые старые стулья, тоже тебе известные, и в тот момент, когда Ульрика замечала нас, под кофейником вспыхивал синий огонек. Такое возвращение усладительно – невероятное удовольствие, особенно когда приближается гроза и ты несешься к дому, а дождевые капли уже падают тебе на лицо, и вот, уже в доме, защищенная от непогоды, слышишь, как воет буря и потоки дождя льются на землю.
– И так возвращаться ты и мечтаешь с тех пор, как живешь в Шенверте?
Ее глаза вспыхнули, сложенные руки невольно прижались к сердцу, и радостное «да» чуть не сорвалось с языка, но она овладела собой и не произнесла его.
– Мама считает, что Трахенберги вымирают, вырождаются, – сказала она с пленительной улыбкой, уклоняясь от прямого ответа. – Жить тихой, мирной домашней жизнью в тесном кругу близких людей, стараться по мере сил делать их счастливыми и в этом видеть свое собственное счастье – вот истинное наслаждение. Пусть оно будет «доморощенным», как называет его мама, и пусть уже лет десять его не существует в Рюдисдорфском замке, но именно оно сделало нас, сестер и брата, настолько сильными, что мы смогли перенести ужасную перемену в нашей жизни, чуть не погубившую маму… Впрочем, мы не похожи на тех домоседов, которые делаются эгоистами, совершенно отказываются общаться с другими людьми, ограничиваясь тесным кружком своих родных. У нас у всех беспокойный нрав: нам хочется мыслить, совершенствоваться… Ты будешь смеяться, но мы пили кофе без сахара и ели хлеб без масла, чтобы на сэкономленные деньги приобретать лучшие книги и инструменты для исследований и выписывать разные газеты… Такая жизнедеятельность доставляет наслаждение, и теперь, прочитав твои «Письма из Норвегии», я не понимаю… Ах, они великолепны, они потрясают душу! – прервала она себя и положила руку на лежавшие на столе листки. – Если бы ты согласился напечатать их!..
– Тс-с! Ни слова больше, Юлиана! – воскликнул Майнау, и румянец, вспыхнувший на его щеках при первых восторженных словах жены, сменила мертвенная бледность. – Не вызывай снова уснувших мрачных духов, которых ты раз растревожила обоюдоострым клинком! – Он прижал руку к боковому карману. – Письмо твое было со мной в Волькерсгаузене; оно так хорошо написано, Юлиана, что действительно могло бы служить Соборным посланием, направленным против мужского тщеславия… У тебя светлый философский ум; я во многом признаю твою правоту, хотя не думаю, что, лишь обеднев, можно убедиться, что истинное счастье заключается в искренней, задушевной совместной жизни.
Он взял со стола свою рукопись и стал рассеянно перебирать листы; вдруг из нее посыпались маленькие листочки; он с удивлением подхватил их.
– Да, представь себе! – с улыбкой сказала Юлиана. – Твои живые письма вдохновили меня так, что я невольно взялась за карандаш и начала иллюстрировать их.
– Должен сказать, Юлиана, что это превосходно сделано! Удивительно, что твои рисунки так точны и с такими мельчайшими подробностями переносят на бумагу описанное мной, как будто не я писал, а ты. Именно эта бесстрастная объективность и дает тебе такое превосходство надо мной… – Он говорил желчно и резковато. – А что, Юлиана, если бы мы с тобой объединили наши усилия, то есть я буду писать, а ты иллюстрировать? – предложил он небрежно.
– Охотно; присылай мне твои путевые заметки в любом количестве…
– Бывшей жене?
Юлиана невольно вздрогнула. Она могла бы ему сказать: «Наши отношения в Шенверте ненормальны. Мы должны делить радость и горе, а вместо этого идем врозь, каждый своей дорогой; ты должен быть моим защитником, а между тем позволяешь оскорблять меня и у тебя и в мыслях нет заступиться за свою жену. Такие отношения ненормальны, мне они не нужны, и не имеет значения, что свет осудит меня». Но из всего, что промелькнуло в ее голове, она сказала только следующее:
– Мне кажется, что писатель и художник, иллюстрирующий его произведения, вполне могут общаться посредством переписки. Никто не может осуждать нас за то, что мы расстаемся не смертельными врагами, а сохраняем дружеские отношения.
– Как могла ты решиться предложить мне это? Я не хочу твоей дружбы! – воскликнул он запальчиво и вскочил со скамейки. – Конечно, мне пришлось падать с большой высоты, на которую я сам себя возвел, но все же я из числа тех людей, которые скорее умрут с голоду, чем попросят милостыню.
Вероятно, лесничиха видела эту сцену из полуоткрытого окна и испугалась этой серьезной супружеской размолвки. Она тихонько позвала Лео, чтобы показать ему во дворе жеребенка, – ей стало жаль мальчика.
Майнау несколько раз прошелся по дорожке, посмотрел на желтые ноготки, окаймляющие грядку капусты, и неторопливо вернулся к столу, у которого молодая женщина дрожащими руками собирала разлетевшиеся листочки.
– В Шенверте в мое отсутствие ничего особенного не случилось? – спросил он с деланым спокойствием, тихо барабаня по столу пальцами.
– Ничего, все по-старому, кроме того разве, что Габриель сильно тоскует и плачет, ведь он скоро должен уехать отсюда, а Лен выглядит очень расстроенной.
– Лен? Что до этого Лен? И как тебе могла прийти в голову мысль, что эту женщину может что-нибудь на свете расстроить? Почему ты как-то по особенному смотришь на все в Шенверте? Лен расстроена! Это бессердечное, грубое, бесчувственное существо без нервов! Да она, верно, благодарит Бога, что наконец избавится от этого мальчишки!
– Я думаю совершенно иначе.
– А! Уж не обнаружила ли ты в ней чувствительную душу, как недавно открыла в этом апатичном, вялом мальчике смелый гений Микеланджело?
Эта холодная насмешка, это намерение рассердить и обидеть ее огорчило Лиану, но она не хотела больше с ним ссориться.
– Я не помню, чтобы я сравнивала Габриеля с каким-нибудь знаменитым художником, – возразила она, серьезно глядя на него. – Я сказала только, что подавляется его замечательный талант к живописи, и это я могу повторить.
– Да кто же его подавляет? Если он настолько талантлив, как ты уверяешь, то в монастыре-то ему и представится возможность развить свои способности… Среди монахов есть много высокоодаренных художников… Впрочем, что нам из-за пустяков спорить! Ни я, ни дядя не определяли участь мальчика: мы только исполняем волю покойного, полагавшего, что он должен посвятить свою жизнь служению Церкви.
– Действительно ли ты читал записку с его последней волей?
Он встрепенулся, его огненный взгляд впился в ее глаза.
– Юлиана, остановись! – проговорил он глухо, угрожающе подняв указательный палец. – Похоже, тебе хочется опорочить дом, который ты покидаешь. Ты, очевидно, хотела сказать: «Я знаю, что секвестр весьма подпортил репутацию Трахенбергов, но в Шенверте тоже хватает грехов, к примеру, огромное богатство баронов имеет сомнительное происхождение». На это я ответил бы тебе: дядя скуп, он в высшей степени одержим бесом гордости и высокомерия; он имеет свои маленькие слабости, с которыми сложно мириться, но с его рассудительностью и с его каменным сердцем он никогда не мог стать игрушкой дурных страстей и всегда поступал как истинный дворянин, – в этом я нисколько не сомневаюсь и сочту личным оскорблением, если кто-нибудь, хотя бы шутя, намекнет на такое щекотливое обстоятельство, как, например, подложное завещание или тому подобное… Запомни это, Юлиана! А теперь, я полагаю, нам пора домой: вершины деревьев что-то подозрительно зашелестели; хотя на дворе уже сентябрь, но такая духота, что следует ждать грозы… Наше возвращение будет далеко не таким радостным, как ты недавно описывала, но что поделаешь! Будем довольствоваться тем, что есть.
Она молча повернулась и пошла в домик лесничего за Лео, ощущая внутренний трепет. «Лиана, он ужасен!» – воскликнула в день свадьбы Ульрика, а тогда он был лишь холоден и спокоен. Что бы сказала она, если бы могла видеть эти вспышки гнева, когда его голос и жесты несли в себе угрозу! Однако же Лиана при этом робко молчала. Она была глубоко оскорблена его несправедливостью, но теперь он стал ей понятнее, нежели когда драпировался в напускное безразличие: такова была его натура, помимо воли проявлявшаяся в его описаниях и привлекавшая ее. В противном случае она не могла бы предложить ему дружеские отношения. Но он их отверг. Краска стыда залила бледные щеки Лианы, и она невольно закрыла лицо обеими руками.
Глава 19
Тяжелые свинцовые тучи, предвещавшие бурю с грозой, действительно собирались над Шенвертом, когда наши герои вышли из леса. Майнау, почти все время молчавший, предложил переждать непогоду в охотничьем домике, но Лиана не согласилась, полагая, что гофмаршал будет очень беспокоиться о Лео, и они быстрым шагом пошли через лес. Буря набирала силу. В саду кружились сорванные ветром листья, спелые плоды со стуком падали на землю и катились через дорожку.
Майнау от досады даже топнул, когда, не доходя до замка, они встретили конюха, который доложил вкратце, что верховые лошади герцогини и фрейлины стоят в конюшне: герцогиня отправилась кататься и, по случаю надвигавшейся грозы, заехала в Шенвертский замок.
– Ну разве не радостно мое возвращение в Шенверт? Разве можно ожидать более любезной и более заботливой встречи? – произнес Майнау насмешливым тоном, кивком указывая на крыльцо замка.
Герцогиня в синей амазонке показалась из стеклянной двери; ветер развевал ее черные локоны и рвал белые страусовые перья на шляпке, но она, ухватившись обеими руками за перила, устремила пристальный взгляд на супругов, которые вели Лео за руки. Она была настолько изумлена, что даже не заметила поклона Майнау. Горделиво повернувшись, она быстро вернулась в зал и спокойно села в кресло между своим духовником и гофмаршалом как раз в тот момент, когда Майнау, его жена и сын вошли в зал.
Казалось, что и здесь носились грозные тучи, – в такой зловещий полумрак был погружен обширный зал. Гипсовые фигуры у стен походили на привидения; им под стать было и мрачное, мертвенно-бледное лицо царственной гостьи; даже глаза ее утратили свой обычный блеск и напоминали два тлеющих уголька. На вежливый поклон Лианы она высокомерно кивнула.
– Что у тебя за фантазия, Рауль? – сердито крикнул гофмаршал своему племяннику. – Бросаешь на дороге экипаж и лошадей, чтобы предпринять сентиментальную прогулку по лесу!.. Известно ли тебе, что едва не случилось несчастье? Как можешь ты доверять бешеных волькерсгаузенских лошадей такому глупому малому, как Андре? Они ускакали от него, и он пришел сюда полумертвый от страха.
– Смешно… Он не в первый раз один управляется с ними; они, верно, чего-то испугались. Впрочем, в моем возвращении через лес нет и тени сентиментальности: мне просто не хотелось жариться на солнце в экипаже.
– А вы, баронесса, лучше бы отправились одна в ваш лесной дом, к которому вдруг так пристрастились, – сказал старик резко молодой женщине, даже не повернувшись к ней лицом, находя лишним ради нее изменять свое покойное положение. – Я убедительно прошу вас не считать моего внука своей собственностью, это трахенбергским достоянием вы можете распоряжаться по своему усмотрению. Я о нем очень беспокоился.
– Я сожалею об этом, господин гофмаршал, – произнесла она искренне, спокойно выслушав все колкости.
Герцогиня вдруг повеселела. Она привлекла к себе Лео и стала его ласкать.
– Но ведь он цел и невредим, добрейший барон! – сказала она мягко старику.
Лео резким движением высвободился из ее прекрасных рук: маму наследного принца он не любил и нередко говорил об этом. Но ему очень понравился ее хлыстик, который лежал возле нее на столе: его золотая ручка представляла собой прекрасной работы голову тигра с бриллиантовыми глазами.
– Этот хлыстик есть на портрете, что стоял у папы на письменном столе, – сказал он, имея в виду большую фотографию герцогини в костюме амазонки. – Но только теперь он больше не стоит там, – при этих словах он рассек воздух хлыстиком, – и всех других портретов тоже нет, а то место, где они висели, затянуто новой красивой драпировкой. Дурацкого старого башмака тоже нет.
– Что же, барон Майнау, это значит? – спросила герцогиня, затаив дыхание. – Вы собрали все эти воспоминания в одном месте?
Необузданная гордыня царственной женщины проявилась в ее осанке, в глухом же, дрожащем голосе слышались и смертельный страх, и тревожное ожидание… Она хорошо знала убранство комнат Майнау: не один вечер провела она там при жизни его первой жены.
Он стоял пред ней спокойно и чуть ли не насмешливо встретил ее пылавший страстью взгляд.
– Ваше высочество, они аккуратно уложены; я уезжаю на долгое время, а потому не могу оставить их на произвол пыли и неосторожных рук прислуги.
– Но, папа, ведь ты же поставил мой портрет на то место, где стоял стеклянный колпак со старым башмаком! – не унимался Лео. – А над ним висит новая картинка, которую нарисовала мама.
Быстро повернув голову, Майнау бросил робкий и вместе с тем гневный взгляд на молодую женщину. Казалось, он сердился на то, что она слышала эту детскую болтовню.
– Так ты конфисковал картину, Рауль? – живо спросил гофмаршал. – Я позволил себе сомневаться, когда баронесса сообщила мне, что ее у нее нет… Извините, баронесса! Я был несправедлив к вам. – И старик с саркастической торжественностью поклонился Лиане. – Что ж, пожалуй, у тебя, Рауль, она надежнее сохранится и пусть себе там висит! А известно тебе, во сколько сама художница оценила ее? В сорок талеров…
– Я попрошу тебя позволить мне решить этот вопрос так, как я сочту нужным, – запальчиво прервал его Майнау.
Старик немного испугался, увидя его нахмуренное лицо: ему показалось, что сжатая правая рука молодого барона готова была угрожающе подняться. Герцогиня и ее фрейлина сидели, ничего не понимая в их перепалке, но придворный священник, до этого державшийся отстраненно, наклонился вперед и, опираясь на обе ручки кресла, с напряженным вниманием следил за этой сценой, как будто он по взгляду и движениям вспыльчивого красавца барона разгадал его заветную тайну.
– Боже мой, не волнуйся так по пустякам, дорогой Рауль! – увещевал его гофмаршал. – Из-за чего ты горячишься? Я ведь говорю как есть.
Майнау серьезно посмотрел ему в лицо.
– Я в этом не сомневаюсь, дядя, но зачастую ты выбираешь такую форму… Я готов поклясться в том, что ты человек справедливый, ведь ты единственный оставшийся в живых Майнау, на благородство которого я вполне полагаюсь, потому что оно составляет отличительную черту нашего рода… Кстати, мне пришло на ум пересмотреть записки, посредством которых дядя Гизберт на одре болезни объяснялся с окружающими… Я вспоминал его в Волькерсгаузене, глядя на его великолепный портрет, написанный масляными красками, и с ужасом отметил, что он очень пострадал от сырости и пыли и теперь требует реставрации. Чтение записок станет для меня как бы его прощальным приветом.
– Ты можешь посмотреть их. Но разве сейчас подходящее для этого время?
– Они, верно, хранятся в столе редкостей? – небрежно спросил Майнау, указывая на него. – Если бы ты потрудился его отпереть…
Гофмаршал торопливо встал со своего кресла, ковыляя, побрел к столу и отпер ящик, в котором сохранялась записка графини Трахенберг. Осторожно взял он своими тонкими пальцами розовый листок и с коварной улыбкой показал ее герцогине.
– Блаженные воспоминания, ваше высочество! Казалось бы, всего лишь душистый розовый листок, а между тем он стоил мне нескольких тысяч! – воскликнул он смеясь и бросил записку назад в ящик, после чего вынул свернутые в трубку бумаги, перевязанные черной лентой. – Вот, мой друг! – сказал он, передавая рулон Майнау, который тотчас же развязал его.
– А вот, прямо сверху лежит распоряжение дяди Гизберта относительно Габриеля! – воскликнул Майнау, беря маленькую бумажку. – Это, верно, последнее письменное выражение его воли?
– Да, это была последняя его воля, – с невозмутимым спокойствием подтвердил гофмаршал, возвращаясь к своему креслу.
Майнау взял еще несколько листков и разложил их рядом на столе.
– Странно! – заметил он. – Это последнее распоряжение, как я слышал, было написано им за несколько часов до его смерти, а между тем здесь тот же его неизменный своеобразный почерк – приближение смерти не лишило твердости его руку! Тем лучше, иначе можно было бы усомниться в неподдельности этой незасвидетельствованной записки.
Герцогиня с любопытством взяла у него из рук листок.
– Характерный почерк, но его трудно разобрать, – заметила она. – «Я предназначаю Габриеля для духовного звания; он должен идти в монастырь и молиться там за свою падшую мать», – читала она, запинаясь.
– Не хочешь ли и ты, Юлиана, взглянуть на это последнее распоряжение умершего? – небрежно обратился Майнау к молодой женщине, которая стояла за пустым креслом, положив руки на его спинку.
Очевидно, он хотел пристыдить ее, Лиана чувствовала это и потому даже не подняла глаз. Никто из присутствующих не понимал значения этой сцены, только для нее каждое слово было ударом метко направленного ножа. Зачем она была так неосторожна, приподняв завесу тайны, которую раскрыла ей Лен? Майнау держал перед ней две записки, и она, не дотрагиваясь до них, внимательно сравнивала их. Это был одинаковый почерк до мельчайших деталей, и притом такой своеобразный, что подделать его было бы немыслимо, и все же…
Вошедший лакей подал Майнау на серебряном подносе визитную карточку и тем самым разрядил обстановку.
– Ах да! – воскликнул гофмаршал, хлопнув себя по лбу. – Я совсем забыл, Рауль! Час тому назад сюда приезжал молодой человек и так непринужденно вышел из экипажа, точно имел намерение здесь остаться… Он даже утверждал, что приехал по твоему приказанию, и, если бы мне не выпало несказанное счастье встретить ее высочество, я принял бы его, чтобы узнать, в чем дело.
– Действительно, он здесь останется, дядя: это новый наставник Лео, – равнодушно ответил Майнау, аккуратно складывая бумаги.
Гофмаршал наклонился вперед, будто не расслышал слов племянника.
– Я, кажется, не так понял тебя, любезный Рауль, – проговорил он медленно, точно взвешивая каждое слово. – Неужели ты действительно сказал «новый наставник Лео»? Быть может, я так долго спал или был в горячке, что ничего об этом не знаю?
Майнау саркастически усмехнулся.
– Все решилось довольно быстро, дядюшка. Мне раньше рекомендовали этого молодого человека, и теперь, когда он мне понадобился, я вызвал его сюда. К счастью, он был свободен и приехал двумя днями раньше назначенного мною срока. И я досадую из-за того, что не смог заранее предупредить тебя о его приезде.
– Это не изменило бы моего отношения к этому, и вот что я скажу тебе: этот свалившийся как снег на голову молодой человек не останется в Шенверте!
Майнау еще держал в руках бумаги, намереваясь положить их обратно в ящик письменного стола. При последних неслыханно дерзких словах старика он вдруг повернулся к нему, и дамы опустили глаза при виде искаженного гневом прекрасного лица Майнау.
Гофмаршал внешне никак не выказал своего волнения, кроме того что выставил вперед подбородок, а его пальцы судорожно сжимали пунцовый носовой платок.
– Могу ли я, по крайней мере, узнать, что побудило тебя так внезапно… совершить государственный переворот? – спросил он.
– Ты сам бы мог ответить на этот вопрос, дядя, – сказал Майнау, сдерживая гнев. – Я уезжаю надолго, как уж давно известно всем и каждому; баронесса едет в Рюдисдорф, она не будет больше заниматься с Лео. – Последние слова Майнау произнес с такой холодностью, что герцогиня подняла глаза и бросила торжествующий взгляд на молодую женщину, которая продолжала спокойно стоять на прежнем месте. – И, что для меня всего важнее, – продолжал Майнау, – мы не можем требовать от господина священника и зимой так же часто посещать Шенверт, чтобы давать Лео уроки Закона Божия.
– Ну, уж этого я понять не могу! Да, я думаю, ты и сам не считаешь эту причину главной! Ты отлично знаешь, что его преподобие совсем недавно соглашался обучать Лео и другим предметам.
– О, это я хорошо помню! – сухо отозвался Майнау. – Но я так боюсь неправильного преподавания всеобщей истории и естественных наук, что лишь выскажу ему свою благодарность за его доброту и самопожертвование.
– Господин барон! – воскликнул священник, вскочив с места.
– Что угодно вашему преподобию? – медленно, с презрением, спросил Майнау и смерил его гневным взглядом.
Презрение в его голосе прозвучало до того ясно, что придворный священник в бешенстве сделал резкое движение, но гофмаршал схватил обеими руками его руку, стараясь снова усадить его.
– Рауль, я не понимаю тебя! Как можешь ты так оскорблять духовника ее высочества, да еще в присутствии самой герцогини! – воскликнул старик, задыхаясь.
– Оскорблять? Разве я говорил о подложных векселях или о чем-нибудь подобном?.. Неужели ты считаешь, что католический богослов может представлять вещи такими, какими они являются на самом деле? Не должен ли он категорически отрицать многое, что ясно как день и непреложно, как дважды два четыре, чтобы остаться верным своему учению?
Гофмаршал всплеснул руками и откинулся на спинку кресла.
– Бога ради, Рауль, я еще никогда не слыхал от тебя ничего подобного!
– Ну да, – отозвался, пожимая плечами, Майнау, – ты прав: я в это никогда не вмешивался. Но мне представляются очень слабыми доводы и оружие противника, который в крайнем случае укрывается за своим щитом с девизом: «Для Бога нет ничего невозможного». Да и что за охота умышленно раздражать себя, когда любишь Божий мир и хочешь наслаждаться им? Я решился пойти на радикальные меры вследствие неудавшейся попытки уничтожить колдунью в индийском саду – попытки, едва не лишившей зрения моего сына. Я не доверяю такому преподаванию Закона Божия, которое приводит к столь плачевным последствиям, и нахожу, что нужно, не теряя времени, заняться серьезным образованием молодой головы, потому что старых голов, не одна тысяча которых тяготит нашу землю, уже невозможно переделать.
– Как вы несправедливы, барон Майнау! Неужели вы в самом деле так думаете о святой простоте? – воскликнула святоша фрейлина, не будучи более в состоянии удержаться, чтобы не вмешаться в разговор. – Не сами ли вы недавно заявляли, что цените ее в женщинах?
– Я подтверждаю это и сегодня, фрейлейн, – ответил он своим обычным небрежным тоном. – Прекрасное, ясное, обрамленное шелковистыми кудрями чело, которое не мудрствует, беззаботно болтающий коралловый ротик, – как это все привлекательно для нас, мужчин!.. Да, я люблю таких женщин, но не отдаю им предпочтения.
– А когда локоны поседеют и на коралловых губках перестанет играть беззаботная улыбка, тогда игрушку бросают в угол, не так ли, барон Майнау? – резко спросила герцогиня, небрежно играя своим хлыстиком, при этом бриллиантовые глаза на тигровой головке сверкали всеми цветами радуги.
– А разве эти женщины желали бы чего-нибудь другого, ваше высочество? – спросил Майнау с холодною улыбкой.
– Да, теперь понятно, почему многие из женщин берутся за латынь, ботанику и химию, которыми так мучили нас в юном возрасте, – резко засмеялась герцогиня. – Говорят, что я все-все очень легко схватываю, а может быть, это следствие с летами пробуждающегося во мне внутреннего стремления самой все испробовать… Что бы вы сказали, барон Майнау, если бы я по вашему возвращению с Востока встретила вас латинской речью, повела бы вас в лабораторию и угостила бы разными образчиками моих ученых занятий?
– Фу! «Синий чулок» в неряшливой одежде с непричесанными волосами! – воскликнул, засмеявшись, Майнау. – Ваше высочество, я питаю к таким женщинам врожденную антипатию; но мне иногда кажется, что могут быть женщины, которые, подобно мужчинам, собственным разумом стараются изучить тайны и чудеса природы, которые самостоятельно думают и следят за всеми явлениями на нашей планете, причем эти занятия для них вторичны, а главная задача их жизни состоит в том, чтобы охранять спокойствие «семейного очага» и держать бразды домашнего правления нежными, милостивыми, но твердыми руками.
– Дорогой барон Майнау, может быть, найдется великий художник, который нарисует вам такую женщину! – воскликнула фрейлина и принялась насмешливо хихикать, между тем как герцогиня резко поднялась с места.
Как только Майнау и священник заспорили, Лиана обняла Лео и отошла с ним в нишу самого отдаленного окна. Буря разразилась проливным дождем, который немилосердно хлестал в окна; сквозь пелену дождя виднелись вершины деревьев, которые, подобно прикованным привидениям, гнулись под напором ветра, а на лужайках стояли огромные лужи воды. Молния уже давно перестала сверкать, а вот у стола, к которому теперь молодая женщина стояла спиной, собралась страшная гроза: Майнау, этот необыкновенный человек, вдруг восстал против незримой опеки, которую до сих пор молча игнорировал, потому что хотел невозмутимо наслаждаться жизнью. И он пошел еще дальше – он отказался от прежних воззрений, и кто знает, было ли то следствием такого же каприза, по которому он избрал себе в жены бедную протестантку, или же в нем действительно совершился внутренний переворот?
Молодая женщина не обернулась даже тогда, когда услышала шум отодвигаемых стульев и твердые шаги священника, величественно направившегося к стеклянной двери; вслед за этим Майнау подошел к письменному столу и громко задвинул ящик. Почти в тот же момент зашелестело платье, нежный запах жонкиля [19]19
Жонкиль – один из видов нарцисса. ( Примеч. ред.)
[Закрыть]– любимых духов герцогини – повеял в нише, и чья-то рука обняла талию молодой женщины.
– Ваш образ пленителен, прекрасная женщина, – прошипела ей на ухо герцогиня, – но вы напрасно хлопочете – я берусь устроить этими белыми, нежными, но твердыми руками все так, что все ваши старания окажутся тщетными, особенно учитывая предстоящее путешествие.
Губы, произносившие эту угрозу, были бледны и судорожно дергались, и молодая женщина буквально окаменела при виде искаженного гневом лица герцогини.
– Оставь мою маму! Ты делаешь ей больно! – крикнул Лео, протиснувшись между женщинами, но герцогиня уже отступила.
– Не бойся, голубчик, я на это не способна! – сказала она с веселым смехом и подошла к зеркалу, чтобы поправить шляпку и подколоть распустившиеся от ветра локоны; фрейлина поспешила ей на помощь.
Между тем Лиана, отойдя от окна, подошла к Майнау; ее сердце еще трепетало от испуга.
– Никогда не позволяй этой женщине дотрагиваться до тебя, я этого не хочу, – потребовал он мрачно и таким глухим голосом, что только она одна могла его слышать.
– Боже мой, что за несносная погода! Моему Арминиусу придется переночевать в Шенверте, – воскликнула герцогиня; она стояла спиной к залу, но в зеркале были видны ее сверкающие глаза. – Будьте так добры, барон Майнау, отправьте меня домой! Я должна ехать, уже поздно.
Майнау вызвался сам отвезти ее, так как никому не доверял своих бешеных серых рысаков. Он вышел, чтобы отдать приказания относительно отъезда герцогини и заодно поздороваться с новым наставником Лео.
Герцогиня как ни в чем не бывало подсела к сердито молчавшему гофмаршалу и начала с ним болтать, стараясь вовлечь в разговор и священника, пока не возвратился Майнау в дождевике и рысаки не подъехали с громким ржанием к крыльцу, где ожидали ее выхода два лакея с раскрытыми зонтами.
– Хотите поехать со мной? – спросила она священника.
Он сослался на то, что обещал сыграть вечером партию в шахматы с гофмаршалом, и спокойно отступил назад, когда Майнау резко и с шумом распахнул стеклянную дверь, возле которой стоял священник.
Прекрасная герцогиня, всем поклонившись, выпорхнула из зала под руку с Майнау, а гофмаршал, кряхтя, возвратился к своему креслу.
– Пожалуйста, закройте дверь, – сказал он брюзгливо священнику, опускаясь на подушки. – Вы бы не должны были и давеча отворять ее, дорогой друг; я не смел протестовать, потому что, кажется, герцогиня этого желала, но сырой воздух свинцом лег на мои ноги, и завтра я буду совершенно нездоров; к тому же гнев и досада сдавливают мне горло… Пожалуйста, отвезите меня в мою теплую спальню; там я отдохну и подожду, пока затопят камин, а то здесь стало ужасно холодно… Ну, Лео, ты пойдешь со мною! – крикнул он мальчику, прижавшемуся к молодой женщине.
– Я хотел бы остаться с мамой, она совсем одна, – сказал ребенок.
– Мама никогда не бывает одна: с нею «духи природы», и она не нуждается в нас, – ответил, лукаво подмигнув, старик. – Пойдем со мной!
Он схватил за руку сопротивлявшегося мальчика и потащил его за собой, сидя в кресле, которое священник вывозил за дверь.