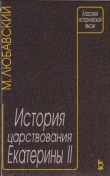Текст книги "Афродита у власти: Царствование Елизаветы Петровны"
Автор книги: Евгений Анисимов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 34 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
И вот в этот момент, к своему несчастью, в шатер вошел шут императрицы Аксаков. «Он держал в своей шапке ежа, она спросила, откуда он пришел, он ей ответил, что был на охоте и поймал редкостного зверя. Она захотела узнать, что это такое было, и подошла к нему, чтобы посмотреть, что он держал в шапке, в эту минуту еж поднял голову. Ее величество страшно боялась мышей, а тут ей показалось, что голова ежа была похожа на голову мыши, она пронзительно вскрикнула и бросилась бежать со всех ног к палатке, которая служила ей спальней. Минуту спустя она прислала приказание убрать накрытый к обеду стол…»
Так закончился один из обедов государыни. Впрочем, Екатерина не знала продолжения истории с ежом. Аксаков был схвачен и доставлен в пыточную камеру Тайной канцелярии, где его и допрашивали по принятым в политическом сыске вопросам: «Кто тебя это делать подучил?» и «Для чего это сделал?» Дальнейшая судьба шута неизвестна.
Страшен был гнев царицы, который она вымещала на приближенных. Ее прекрасные черты уродливо искажались, лицо наливалось пунцовой краской, глаза сверкали, и она начинала быстро и визгливо говорить, почти кричать. «Она меня основательно выбранила, – вспоминала Екатерина, – гневно и заносчиво… я ждала минуты, когда она начнет меня бить, по крайней мере я этого боялась: я знала, что она в гневе иногда била своих женщин, своих приближенных и даже своих кавалеров». Доставалось и мужу Екатерины, великому князю и наследнику престола Петру Федоровичу: «Но она приказала ему молчать и так разъярилась, что не знала уже меры своему гневу». В другой раз «она прямо прошла из большой в свою малую комнатную церковь. Там она показалась до такой степени раздраженной, что заставила дрожать от страха всех присутствующих… Императрица выбранила всех своих горничных, как старых, так и молодых, число которых было немалое и доходило, пожалуй, приблизительно до сорока, певчие и даже священник – все получили нагоняй». Позже Екатерина поняла, что спасти положение могла ритуальная, почему-то сильно успокаивающая государыню фраза: «Виноваты, матушка!». Так обычно говорили провинившиеся дворовые девки своей помещице.
Сплетни, слухи об интимной жизни придворных были для Елизаветы всегда любимым развлечением. Ради них государыня оставляла всякие важные дела; она углублялась в разбирательство семейных скандалов, вела допросы об обстоятельствах супружеских измен, тайных адюльтерах. При этом она демонстрировала высокую требовательность к своим погрязшим в грехах дамам и кавалерам и была сторонницей сурового наказания прелюбодеев и прелюбодеек. Изучив такое «дело», Елизавета порой ограничивалась тем, что ругала грешника или грешницу, как это было с фрейлиной Чоглоковой, которую она публично обзывала «дурой, скотиной». Иным виновным проказникам она давала «оплеушину» и приказывала жить смирно. Но иногда она передавала дело в Тайную канцелярию. Так было с доносом жены отставного прапорщика князя Никиты Хованского, которая донесла, что «оной Хованской ей и дочери [их] говаривал, что когда вас возьмут во дворец, то вы там зблядуетесь и придворных дам называл блядями, да и вас-де во дворце всякому непотребству научат». Дело Хованского особо заинтересовало императрицу обилием самых непристойных подробностей: «З женою своею девятнадцать лет не жил, а содержал ее в самом крайнем притеснении и никуда из дому не выпущал, а сам жил со многими служанками своими, отлуча мужьев их в деревни, а девок сильно (то есть насильно. – Е.А.) растлевал» и т. д.
Государыня тщательно следила за ходом расследования. Хованский во всем отпирался и ссылался как на свидетельницу на свою жену. Когда же «ему сказано, что об оном о всем показывает на него жена ево, то он сказал, что [на нее] не шлетца, однако как оная ево жена в допросе и в очной ставке с ним ево, Хованского, во всем и что он ее бивал и с нею девятнадцать лет не жил, и содержал ее в великом притеснении уличала». Кроме того, следователи сообщили Елизавете, что «по осмотрению Тайной канцелярии девки и жонки, с коими он жил блудно, лутче одеты были, нежели оная жена ево и дочь. А сверх того жонки и девки в роспросах и в очных с ним ставках в чинении им с ними прелюбодейства и в растлении их сильно, а не добровольно, ево, Хованского, уличали».
Прочитав все это дело, а возможно, допросив участников его лично, императрица распорядилась Хованского высечь плетью и посадить в монастырь, «где содержать его под караулом вечно, а движимым и недвижимым имением владеть жене и дочери». Это был суд не столько государыни, сколько справедливой и рачительной хозяйки.
Некоторыми чертами характера Елизавета очень напоминала своего отца, человека неуравновешенного, импульсивного и беспокойного. Эта милая красавица, всегда демонстрировавшая свое «природное матернее великодушие», писала начальнику Тайной канцелярии указы о допросах и пытках так отрывисто, сурово и по-деловому жестоко, как некогда писал свои указы шефу тайной полиции ее отец. При Елизавете Петровне в работе сыска не произошло никаких принципиальных изменений. В Тайной канцелярии, в отличие от других учреждений, не сменилось даже руководство. А.И.Ушаков – верный слуга так называемых немецких временщиков и «душитель патриотов», вроде Артемия Волынского, – продолжал свою службу и при дочери Петра Великого. Более того, по наблюдению историка политического сыска послепетровского времени В.И.Веретенникова, «никогда – ни ранее, ни позже – не стояла Тайная канцелярия так непосредственно близко к верховной власти». Ушаков сохранил право прямых личных докладов у новой императрицы, выслушивал и записывал ее решения, представлял ей экстракты и проекты приговоров.
Вот отрывок из подобного документа за 1745 год: «Невского пехотного полку сержант Алексей Ерославов – в произношении непристойных слов и в брани Вашего императорского величества, також и генералов всех и с тем, кто их жаловал, и в брани ж всех, кто на свете есть, и в говорении, будто бы Дмитрий Шепелев хотел Ваше величество окормить (то есть отравить. – Е.А.), а Андрей Ушаков и Александр Румянцов хотели Ваше величество с престола свергнуть, чтобы быть попрежнему на престоле принцу Иоанну, а Александр Бутурлин хотел Ваше величество срубить, и в кричании им, Ерославовым, неоднократно “Слова и дела”. А в роспросе, також и в застенке, с подъему он, Ерославов, показал, что-де ничего не помнит, что был безмерно пьян и трезвой-де ни от кого о том не слыхал, и злого умыслу никакова за собою и за другими не показал, и об оном ево безмерном в то время пьянстве по свидетельству явилось». Предложение Тайной канцелярии состояло в следующем: «Хотя подлежателен был розыскам, а потом и жестокому наказанию кнутом, но, вместо того, за безмерным тогда ево пьянством и что он молод – гонять шпицрутен и написать в салдаты». Государыня с проектом приговора согласилась.
Особенно пристрастно императрица занималась делом Лопухиных. Кроме общего стремления обвинить Лопухиных в государственной измене на материалах следствия лежит отпечаток личных антипатий Елизаветы Петровны к тем светским дамам, которых на эшафот привели их длинные языки. Одной из них и явилась Наталья Лопухина, пытавшаяся конкурировать с императрицей в бальных туалетах. Кроме того, Елизавета, в 1743 году бывшая еще начинающей самодержицей, может быть, впервые узнала из следственных бумаг Тайной канцелярии о том, что о ней болтают в гостиных Петербурга, и эти сведения, полученные нередко под пытками, оказались особенно болезненны для самовлюбленной, хотя и не злой императрицы.
Императрица не только выслушивала доносчиков, распоряжалась об арестах и отвозе арестантов в Петропавловскую крепость, но и участвовала в расследовании дела, хотя формально им занималась Следственная комиссия, состоявшая из И.Г.Лестока, князя Н.Ю.Трубецкого и А.И.Ушакова. Прямо из Следственной комиссии протоколы допросов отвозили к императрице, которая их читала и давала через Лестока или Ушакова новые указания о сыскном «изучении» тех или иных эпизодов дела. По распоряжению императрицы и составленным ею же вопросам 29 июня 1743 года привели в застенок и пытали Ивана Лопухина, допрашивали там же беременную Софью Лилиенфельд.
По этому делу Елизавета сама никого не допрашивала, но сохранились сведения, что по другим подобным делам такие допросы она вела. В 1745 году из экстракта Тайной канцелярии Елизавета узнала, что двое дворян восхищаются правлением Анны Леопольдовны и ругают ее, правящую императрицу. Оба преступника были доставлены к допросу у самой императрицы. Затем императрица Елизавета уже с участием Ушакова и А.И.Шувалова вновь допрашивала доносчика по этому делу и даже оставляла какие-то записи по допросу. В роли следователя выступила Елизавета Петровна и в 1746 году, когда допрашивала княжну Долгорукую, обвиненную в отступничестве от православия. Императрица, недовольная ответами Долгорукой, распорядилась, чтобы Синод с ней «не слабо поступал». В 1758 году, когда вскрылся заговор с участием А.П.Бестужева-Рюмина и великой княгини Екатерины Алексеевны, императрица лично расспрашивала о деле жену наследника престола великую княгиню.
Елизавета Петровна отличалась совершенно отцовской нетерпеливостью и нервной подвижностью. Как и Петр, она пела в церковном хоре, потому что не могла выдержать долгого стояния во время церковной службы. Известно, что она постоянно переходила с места на место в церкви и даже покидала храм совсем, не в силах вытерпеть до конца литургии. Как и отец, Елизавета была легка на подъем и любила подолгу путешествовать. Особенно нравилась ей быстрая зимняя езда в удобном экипаже с подогревом и ночным судном. Путь от Петербурга до Москвы (715 верст) она пролетала по тем временам необычайно быстро – за 48 часов. Это достигалось за счет частых подстав свежих лошадей, которые следовали через каждые двадцать-тридцать верст на гладкой зимней дороге. Кажется, что большая часть этих поездок была лишена смысла, не говоря уже о государственной надобности. Это было просто перемещение в пространстве под влиянием каприза, безотчетного желания смены впечатлений.
Рассказывая о Елизавете, автор вовсе не хочет создать образ этакой злодейки под маской ангела. Нет, это не так. Елизавета не была глубокой, рефлектирующей натурой – ей хватало собственного отражения в зеркалах, ее не мучили величественные страсти, ею в жизни, как и в пути, двигал каприз. Она была вполне естественна во всех проявлениях этого каприза: чаще весела, чем мрачна, более добра, чем зла. Иногда ее видели задумчивой и серьезной, иногда гневной, но и отходчивой. Характер Елизаветы не был отшлифован воспитанием.
Французский посланник Кампредон, советуя в 1721 году своему правительству пригласить тринадцатилетнюю Елизавету во Францию в качестве невесты Людовика XV, писал, что ей недостает правильного воспитания, однако «со свойственной ей гибкостью характера эта молодая девушка применится к нравам и обычаям той страны, которая сделается вторым ее отечеством». Но этого не произошло. Дичок не был вовремя привит и рос, как ему подсказывала природа. Знать Петербурга недолюбливала императрицу, считала ее простолюдинкой, истинной дочерью лифляндской портомои. И хотя аристократизм самих русских вельмож середины XVIII века вызывает сильные сомнения, даже на этом фоне «простонародные» повадки Елизаветы казались шокирующими. Французский дипломат Далион в донесении писал, что «недавно видели, как отправилась она в Петергоф и в коляске у нее сидели женщины, про которых известно, что полтора года назад они мыли у нее полы во дворце». Из других источников известно, что среди окружения государыни бывало немало людей «подлого звания» и на ее закрытых ночных обедах за столом сидели горничные и лакеи.
В деле Лопухиных имеется много упоминаний об особой «простоте» государыни. Иван Лопухин говорил своему собутыльнику, оказавшемуся доносчиком: «Наша знать ее вообще не любит, она же все простому народу благоволит для того, что живет просто… любит английское пиво, непорядочно, просто живет, всюду и непрестанно ездит и бегает». Никак не могли простить подданные из высшего света, гордившиеся своими предками, ее происхождения: «Ее величество до вступления родителей в брак за три года родилась». Далион, заключая рассказ о поездках императрицы с бывшими поломойками, пишет: «Повидимому… эта государыня вовсе не думает о том, чтобы подданные уважали ее».
Действительно, Елизавета многое делала необдуманно, в силу каприза, своего хотения. Это не было похоже на «педагогическое» поведение ее отца, который своим примером хотел показать подданным, как следует трудиться, отдыхать, служить Отечеству. У Елизаветы были другие цели – удовольствие, удобство, поиск новых впечатлений, так что ее совсем не волновало, что об этом думают подданные. Она ничего не стремилась доказать или показать: ей было так веселее, удобнее, вкуснее. «Я стоял (на часах в путевом дворце. – Е.А.) при входе, – вспоминал анонимный автор мемуаров о времени Елизаветы Петровны, – когда императрица, направляясь в комнату, сказала своему гофмаршалу Шепелеву, что не пора ли выпить водки и с редькою. Заметив, что гофмаршал затруднялся, где последнюю добыть, я предложил ему собственную, необыкновенной величины. Так как господин Шепелев меня хорошо знал, то и согласился принять мое подношение, предложив мне самому поднести редьку Ее величеству. Елизавета Петровна при виде редьки покраснела, но дала мне поцеловать руку и спросила о моем имени, отчестве и чине. Ответив на все вопросы, я возымел надежду сделаться по крайней мере ротным командиром, вместо того Ее величество только приказала своему гофмаршалу дать мне рюмку водки и сто рублей».
Несомненно, привычку пить водку с редькой, как и способность принять столь необычный дар от дежурного офицера, государыня усвоила в семье Петра и Екатерины – родители ее отличались простотой нравов: отец – по убеждению, мать – по воспитанию, точнее, по отсутствию такового. Ставшая знаменитой благодаря художественной литературе привычка Елизаветы Петровны засыпать под неторопливый рассказ сказочницы, которая при этом почесывала государыне пятки, явно пришла к ней из детства от нянек, да так и осталась на всю жизнь. Конечно, если бы Елизавета все-таки стала французской королевой, то в Версале вряд ли нашлось бы место чесальщицам пяток. То ли дело в России – говорливых, чистых и аккуратных баб-сказочниц, так называемых бахарок, разыскивали везде и подчас брали прямо с базара. Перед тем как ввести бахарку в опочивальню государыни, ее предупреждали, чтобы под страхом смерти она молчала обо всем, что там увидит и услышит.
Что происходило дальше, рассказывает Иван Снегирев, слышавший этот рассказ от стремянного Елизаветы Петровны Гаврилы Извольского: «Они сиживали у ее постели и рассказывали всякую всячину, что видели и слышали в народе. Императрица, чтобы дать им свободу говорить между собою, иногда притворялась спящею; не укрылось это от сметливых баб и от придворных, последние подкупали первых, чтобы они, пользуясь мнимым сном императрицы, хвалили или хулили кого им надобно в своих шушуканиях между собою». Эту легенду я привожу здесь потому, что и ситуация, и поведение Елизаветы кажутся правдоподобными, весьма характерными для нее.
Простота поведения помогла Елизавете в те времена, когда она подбиралась к власти. Гвардейские солдаты любили свою куму,которая не сторонилась их, была с ними добра и всегда доступна для просьб и жалоб. А это всегда приносит правителю популярность среди простых людей. Впрочем, как и ее великий отец – мастер Питер, – Елизавета не раз демонстрировала своим поведением ту банальную истину, что простота и демократизм правителя в быту еще не означают демократизма его правления.
Государыня любила поесть и знала в еде толк, хотя зачастую не соблюдала меры. Об этом говорят как меню ее обедов, так и ее частые страдания от запоров или несварения желудка. Елизавета обожала сласти, и ее правление стало настоящим «веком конфект», от которых ломились столы во дворце. Сласти готовили самые лучшие кондитеры, выписанные из Франции и Италии. В конце жизни царицы врачам приходилось запрятывать лекарства в «конфекты» и мармелады – эта пятидесятилетняя женщина, как капризная девочка, не любила горького, но не могла жить без сладкого. Гаврила Извольский говорил, что государыня заезжала к нему и кушать изволила «любимую свою яишницу-верещагу, блины, домашнюю наливочку, бархатное пивцо и янтарный медок». Современные диетологи полагают, что такая сказочная еда мало способствует здоровью и неумеренность в пище стала одной из причин болезни и смерти государыни.
В начале 1762 года датский посланник Гастгаузен писал, что вскрытие тела умершей государыни «показало великолепный организм, погубленный неправильным образом жизни», и если бы она ела поменьше, двигалась побольше, то «дожила бы до восьмидесяти лет». Сведения датчанина подтверждаются официальным манифестом о кончине Елизаветы. В нем сказано о «крепком сложении тела», «благополучной конституции».Короче говоря, у Елизаветы были все возможности умереть здоровой, но она этим не воспользовалась. Подобному чревоугодию способствовала близость с Алексеем Разумовским. С усилением «малороссийской партии» при дворе и без того обильная и жирная кухня цесаревны украсилась превосходными украинскими блюдами.
Императрица часто садилась обедать по ночам. Она превращала день в ночь и наоборот. За все свое двадцатилетнее царствование Елизавета, вероятно, ни на одну ночь не сомкнула глаз. Она вообще по ночам не спала! Ее ювелир Позье писал в мемуарах: «Она никогда не ложилась спать ранее шести часов утра и спала до полудня и позже, вследствие этого Елизавета ночью посылала за мною и задавала мне какую-нибудь работу, какую найдет ее фантазия. И мне иногда приходилось оставаться всю ночь и дожидаться, пока она вспомнит, что требовала меня. Иногда мне случалось возвратиться домой и минуту спустя быть снова потребованным к ней: она часто сердилась, что я не дождался ее». Из письма Лестока князю Кантемиру из Москвы от 26 июня 1742 года мы видим, что даже богомольный поход в Троицкую лавру государыня совершала не в обычное для паломников время: «Ее величество отбыли нынешней ночьюпешком на богомолье к Троице и я сию минуту еду отсюда с маркизом де ла Шетарди, дабы после полудня найти Ее величество за 15 верст отсюда, так как она шествует лишь по ночам».
Екатерина вспоминала: «Кроме воскресений и праздников она не выходила из своих внутренних апартаментов и большею частью спала в эти часы или считалось, что спит; ночь она проводила без сна с теми, кто был допущен в ее интимный круг, она ужинала иногда в два часа по полуночи, ложилась после восхода солнца, обедала около пяти или шести часов вечера и отдыхала после обеда час или два, между тем как нас с великим князем заставляли вести самый правильный образ жизни: мы обедали ровно в полдень и ужинали в восемь часов».
Такого же режима придерживались и придворные. Но так как «никто никогда не знал часа, когда Ее императорскому величеству угодно будет обедать или ужинать, и часто случалось, что… придворные, проиграв в карты (единственное развлечение. – Е.А.) до двух часов ночи, ложились спать и только что они успевали заснуть, как их будили для того, чтобы они присутствовали на ужине Ее величества, они являлись туда и так как она сидела за столом очень долго, а все они, усталые и полусонные, не говорили ни слова, то императрица сердилась».
Было бы ошибкой видеть в бодрствовании царицы лишь проявление того особого психического типа, которое называется ныне «совой». Ночные бдения государыни стали следствием не только необычной, полуночной жизни на балах и маскарадах, когда, подобно пришедшей после трудного спектакля актрисе, она долго не могла успокоиться и уснуть. У государыни была еще одна причина для бессонницы. Речь идет о… страхе, страхе ночного переворота. Поручик гвардии Зимнинский говорил своему товарищу про государыню, что она «всегда в трусости находитца»; например, при перевозке беседки из сада Левенвольде сделался шум и «государыня подумала: не бунт ли?». О страхах государыни свидетельствуют и другие источники.
Были ли у Елизаветы основания для этого страха? Можно достаточно уверенно сказать, что были. Как уже сказано, вскоре после вступления Елизаветы на престол люди Тайной канцелярии арестовали камер-лакея императрицы Турчанинова и двоих его приятелей-гвардейцев. Из следственного дела Турчанинова и его сообщников – прапорщика Преображенского полка Петра Квашнина и сержанта Измайловского полка Ивана Сновидова – ясно, что налицо были «скоп и заговор» с целью свержения и убийства императрицы Елизаветы Петровны. В кругу заговорщиков подробно обсуждалось, как «собрать партию» для осуществления переворота, причем совершить предполагаемое убийство государыни и наследника намеревались «ночным временем».
Только случай позволил раскрыть заговор Турчанинова. Традиция связывает с этим делом привычку императрицы Елизаветы Петровны не спать по ночам, чтобы не дать себя зарезать так, как предлагал устроить своим сообщникам ее камер-лакей. Думаю, что Елизавета была серьезно напугана и руки ее дрожали, когда она читала то зловещее место из протокола допроса Петра Квашнина, где сказано, что после первой, неудачной, попытки покушения заговорщики рассуждали: «Что прошло, тому так и быть, а впредь то дело не уйдет и нами ль или не нами, только оное исполнится».Зная, как стоят на постах ее лейб-компанцы (об этом будет рассказано ниже), императрица могла рассчитывать только на широкую спину Алеши Разумовского да на свою природную лисью хитрость, чтобы не дать себя застать врасплох. У нее был какой-то особый, обостренный инстинкт самосохранения. Именно поэтому императрицу можно было легко напугать, точнее, спугнуть.
Во время путешествия по Эстляндии ей стало известно, что ходит слух о подготовке покушения на нее. В тот же день она покинула Ревель. Большой переполох в окружении императрицы вызвал ружейный мастер Яган Гут, который подарил в 1749 году Елизавете Петровне ружье, «из коего стреляют ветром», то есть пневматическое. Государыня указала допросить его и, как сказано в ее повседневном журнале, «по допросе взять, под лишением живота, обязательство, чтоб ему впредь таких запретительных ружей в России не делать». Подлинную панику в 1758 году вызвали сообщения из Дрездена о намерениях каких-то злодеев отравить Елизавету. Всю переписку по этому поводу сразу же приносили государыне, и врачи срочно, на всякий случай, разрабатывали для нее противоядия.
Елизавета обращала внимание на всё, что вызывало малейшее подозрение, и тотчас приказывала выяснить, расследовать, устранить. «Ее императорское величество усмотреть соизволила, что к покоям Ее императорского величества приставлена была лестница, а по осмотру явилось, что та лестница приставлена была для поправления жолоба, чего ради отнюдь во дворце к покоям лестниц без докладу дежурных господ генерал-адъютантов ни для чего не приставливать», – так секретари записали в начале 1751 года именной указ Елизаветы. Подданным категорически запрещалось выходить в сад под окна царских покоев, находиться под террасой, на которую выходила императрица. Страх за свою жизнь был платой за каприз властвовать. Любопытно, что, стремясь обмануть своих врагов, она не пряталась, как Павел, в неприступный (как тому ошибочно казалось) Михайловский замок. Боясь западни, как зверь, запутывающий следы, императрица постоянно меняла время и даже место своего ночлега.
Современники замечали, что императрица могла поздно вечером внезапно уехать из дворца, чтобы ночевать в каком-то другом, неизвестном окружающим месте. И в этом случае мы можем почти наверняка сказать: это уже не страсть к перемене мест, а страх гнал из дворца, на ночь глядя, веселую императрицу. Ее неуловимость становилась большой проблемой для государственных деятелей с их «скучными» докладами, а также для многочисленных доносчиков. Екатерина II писала в мемуарах, что их семью окружала толпа доносчиков, готовых выслужиться перед государыней и «единственной уздой, сдерживавшей всех этих доносчиков, которые, скажу, между прочим, были таковыми из лести, была трудность для них часто видеть Ее величество».
Получалось так, что, живя во дворце, придворные могли неделями не видеть государыню, которая не выходила из своих покоев и никого не приглашала. Только шепотом, с помощью взятки, можно было разузнать у прислуги, что с государыней и где она находится. Но и здесь следовало соблюдать осторожность: болезни и недомогания самодержицы тщательно скрывались от придворных, а излишний интерес к здоровью государыни с неизбежностью приводил любопытствующего в Тайную канцелярию, где уже у него начинали подробно расспрашивать, с чего он так интересуется высочайшим здравием, не хочет ли ему повредить и кто научил его выспрашивать о сем?
Более того, никто наверняка не мог сказать, в каком покое спит в данный момент государыня. Ни в одном дворце она никогда не имела постоянной спальни. Даже в любимом ею Царскосельском дворце не было особого помещения, где стояла бы кровать императрицы. Прекрасный знаток Екатерининского дворца в Царском Селе А.Н.Бенуа писал по этому поводу: «Ни одна из просмотренных нами описей не выясняет с безусловной достоверностью, где была расположена опочивальная императрицы… Один из документов даже ясно указывает на то, что Елизавета не всегда останавливалась в одном и том же месте, и это нам станет понятно, если мы еще раз вспомним об ее страхе перед ночным переворотом».
По-видимому, со страхами Елизаветы была связана ее подлинная страсть к перестройкам и изменению интерьера своих многочисленных и роскошных жилищ. Екатерина II, несколько преувеличивая, но все-таки отражая действительность, писала, что императрица «не выходила никогда из своих покоев на прогулку или в спектакль, без того, чтобы в них не произвести какой-нибудь перемены, хотя бы только перенести ее кровать с одного места комнаты на другое или из одной комнаты в другую, ибо она редко спала два дня подряд на том же месте; или же снимали перегородку, либо ставили новую; двери точно так же постоянно меняли места».
Кроме того, из дел Тайной канцелярии известно, что, приказывая передвинуть кровать или вынести ее в другую палату, внезапно переезжая ночевать из одного дворца в другой, императрица, женщина суеверная, боялась не только переворота, но также и порчи, колдовства, особенно после того, как однажды под ее кроватью нашли лягушачью кость, обернутую волосом – явные признаки работы колдуна, хотевшего «испортить» государыню.
Несомненно, Елизавета была религиозна, она с трепетом относилась к православным святыням. Она не только пела в церковном хоре, но и хорошо знала церковную службу, хранила у себя мощи святых и часто обращала к иконам свои молитвы. В отличие от отца, прославившегося разоблачением чудес, Елизавета была убеждена в их существовании. Как вспоминает Екатерина II, Елизавета Петровна «с большой набожностью… рассказывала, что некогда шведы осадили… (Тихвинский. – Е.А.) монастырь, но что небесный огонь прогнал их и что они побросали даже свою посуду». В Тихвин, на поклонение Тихвинской Божией Матери императрица совершала пешее паломничество.
Это любопытная сторона жизни Елизаветы. После долгого перерыва она восстановила традицию своего деда, царя Алексея Михайловича, ходить на богомолье от Москвы до Троице-Сергиева монастыря. Длинные (на неделю) семидесятиверстные летние походы босых русских богомольцев к обители Сергия Радонежского были тяжелы и благостны одновременно. Это были походы очищения, душевной подготовки к исповеди и искренней молитве в первейшей святыне Московской Руси. На дороге в Троицу, вдали от своих суетных, пожиравших душу дел, паломник преображался. Днем на пыльном тракте или в поле, на ночлеге в стогу под огромным черным небом он оставался один на один со своими мыслями, думал о прожитом, вел пристойные разговоры с такими же, как он, усталыми паломниками. Не каждому такой поход удавался. Как писал А.И.Куприн о купцах XIX века: «Идут-идут, а через пятнадцать дней оказываются у Яра. Нечистый не дает!» Точно так же, как и императрице Елизавете!
По традиции своих предков, выехав за последнюю заставу Москвы, она выходила из кареты и шла к Троице. Но что это была за паломница и что это были за паломничества! Вряд ли стоит говорить, что и при Елизавете свято соблюдалась русская традиция накануне визита высокого гостя прибрать и отремонтировать всё, на что может упасть его державный взор. Срочно ровняли ямы и выбоины, чинили мосты, городили заборы, за которыми прятались руины.
20 августа 1749 года генерал-адъютант императрицы сообщал московскому губернатору о намерении государыни посетить Воробьевы горы и Воскресенский монастырь и что «оттудо возвратно шествие иметь благоволила в ночи, [а так как] ночи темные, дороги не мостовые, каменистые и неровные и потому не без опасности обстоит во время шествия Ея императорского величества», того ради требовалось скорейше исправить дорогу, «косогоры сравнять и мосты худые вновь стелить или починить». Оказалось, что «в овраге чрез ручей мост не только при шествии Ея императорского величества, но и для партикулярных езд, вовсе негоден» (из повседневного журнала императрицы).Так что дорога, по которой хаживала на Троицу царица, была исправлена, починена, и всё движение по ней на это время прерывалось, а солдаты в шею гнали с дороги всех настоящих паломников и тех, кто ехал на телегах и верхом по своим делам. Елизавета Петровна двигалась в окружении блестящей свиты, любимцев и кавалеров. В 1728 году цесаревну сопровождал ее тогдашний любовник Александр Бутурлин, а став императрицей, она брала с собой Алексея Разумовского. Обычно Елизавета Петровна, наслаждаясь природой и приятным разговором с приближенными, проходила в день пять-десять километров.
Устав от паломнических трудов, государыня требовала отдыха. По взмаху изящной ручки придворный оберквартирмейстер приводил в действие всю мощь двигавшегося сзади обоза. Так, по велению царь-девицы в чистом поле возникали станы, «уметы», сказочные шатры, где были все мыслимые в то время удобства и развлечения. Начинался обед, при тостах палили пушки, шло веселье. Несколько дней царица отдыхала, развлекалась верховой ездой, охотой, а потом вновь выходила на Троицкую дорогу и двигалась по ней в той же великолепной и приятной компании дальше.