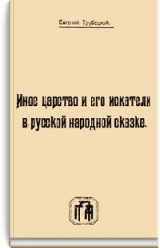
Текст книги "Иное царство и его искатели в русской народной сказке"
Автор книги: Евгений Трубецкой
Жанры:
Литературоведение
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 4 страниц)
«ИНОЕ ЦАРСТВО» И ЕГО ИСКАТЕЛИ
В РУССКОЙ НАРОДНОЙ СКАЗКЕ
[1]1
Публикацию «Литературной учебы» предваряет статья А. Налепина «Иллюзии “жирного царства”». В заметке от редакции сказано следующее: «В 1923 году в журнале “Русская мысль” (возобновленном издании под редакцией П. Струве) данная статья Е. Трубецкого напечатана полностью, без каких‑либо цензурных изъятий». («Русская мысль», Прага–Берлин, 1923, № 1–2, с. 220–261). Публикуя по советскому изданию (М., 1922), редакция восстанавливает все цензурные сокращения по публикации в «Русской мысли» (они выделены курсивом и заключены в угловые скобки). Встречающиеся разночтения между двумя изданиями в основном носят редакционный характер: разная постановка абзацев, несоответствия в выделениях курсивом и разрядкой и т. п. Разночтения, имеющие содержательный характер, отмечаются прямо в тексте – в угловых скобках с пометкой «1923», (ЛУ, с. 100).
Примечания, за исключением отмеченных звездочкой, принадлежат автору.
Все ссылки на сказки даются по изданию: Афанасьев А. Н. Народные русские сказки. Т. I‑II, М., 1987
[Закрыть]
Попытка узнать душу народа в его сказке сталкивается в особенности с одним препятствием – национальное в сказке почти всегда вариант общечеловеческого. То и другое нераздельно, поэтому отличить общее всем народам от элементов индивидуального, самобытного творчества данного народа всегда бывает очень трудно. Трудность усугубляется тем, что в качестве ценности общечеловеческой сказка не прикреплена неподвижно к месту. Она странствует, передается от народа к народу.
Неудивительно, что в русской сказке воспроизводятся общечеловеческие мотивы. В известном сборнике А. Н. Афанасьева, в параллель к русским народным сказкам, приводится великое множество славянских, немецких, скандинавских вариантов на те же темы: цитируются, хотя в небольшом количестве, варианты итальянские, арабские, даже индийские. Есть общие многим народам излюбленные сюжеты. Мы находим в них под различными именами одни и те же типы героев, одни и те же чудесные превращения и волшебные предметы, множество общих представлений о чудесном и в особенности одни и те же магические задания. Обыкновенно эти общие представления объясняются наличностью единого мифологического предания, зародившегося еще до разделения индоевропейских народов. Вряд ли, однако, это объяснение представляется исчерпывающим: общее выражается не в одних языческих преданиях, предшествующих разделению народов. Встречаются поразительные совпадения позднейшего происхождения, например общие варианты одних и тех же христианских сказок у народов, принадлежащих к различным христианским вероисповеданиям [2]2
Яркий пример такого совпадения между русской и норвежской сказкою приводится у Афанасьева в примечании к сказке № 66. (Правда и Кривда).
[Закрыть].
Национальность оказывается здесь лишь ветвью общечеловеческого ствола. Этим не исчерпываются те трудности, с которыми сталкивается исследование сказки как памятника национальной культуры. В сказке есть не только сверхнародное, но и сверхвременное. В ней есть множество исторических наслоений, отражений различных исторических эпох, весьма отдаленных друг от друга. И рядом с этим в сказке есть общие всем историческим эпохам представления о чудесном, доисторическое в ней часто является рядом с современным. То в ней богатырь назначается губернатором [3]3
Иван Царевич и Марфа Царевна, № 68.
[Закрыть], то богатыри расстреливают бабу–ягу из ружей [4]4
Медведко, Усыня, Барыня и Дубыня–богатырь
[Закрыть], в качестве действующих лиц в ней появляются рядом с фигурами легендарными «сенаторы» (119), курьеры<1928 – «кульеры»>и офицеры (69), жандармы; иногда упоминается о «публикациях» и газетах. И тем не менее волшебная сущность сказки, унаследованная от глубокой древности, остается неизменна. Магическое предание необычайно устойчиво и потому вторжение новых форм быта не вытесняет из сказки волшебного: последнее сохраняется на всех ступенях культуры. Из века в век повторяются у различных народов одни и те же сказания.
Единство происхождения индоевропейских племен не объясняет здесь самого важного и интересного – сохранения у всех народов и во все века излюбленных сказочных образов. Образы эти не сохранялись бы памятью народною, если бы они не выражали собою непреходящих, не умирающих ценностей человеческой жизни. Запоминается и передается из поколения в поколение только то, что так или иначе дорого человечеству. Самая устойчивость сказочного предания доказывает, что сказка заключает в себе что‑то для всех народов и для всех времен важное и нужное, а потому незабываемое. Мы постараемся выяснить здесь главнейшие из этих духовных ценностей, насколько можно о них судить по русской народной сказке.
I. От бедности к богатству. «Иное царство»
Есть в этой сказке образ, в котором ясно обнаруживается основной мотив, движущий нерв всего сказочного творчества. Жили–были старик со старухой в великой скудности и бедности. Раздобыл старик краюшку хлеба для себя и семьи и только было начал ее резать, как «вдруг из‑за печки выбежал Кручина, выхватил из рук его краюшку и ушел опять за печь». Сколько ни молил старик, отнятого обратно не получил, но приобрел взамен иной, волшебныйдар. Сказал в ответ старику Кручина: «Я тебе краюшки твоей не отдам, а за нее подарю тебе уточку, которая всякий день будет весть по золотому яичку» [5]5
114, b. Сказка про утку с золотыми яйцами.
[Закрыть].
От бедности и скудности жизни происходит все наше человеческое искание неизреченного, волшебного богатства. От начала и до конца сказки – дитя нашей кручины и печали. Об этом говорят бесчисленные сказочные образы; об этом поет и песня народная; горе – стимул всех магических превращений.
Повернулся добрый молодец ясным соколом,
Поднимался выше леса под самые облака,
А горюшко вслед черным вороном
И кричит громким голосом:
Не на час я к тебе Горе привязался,
Падет добрый молодец на сыру землю.
Повернулся добрый молодец серым волком,
Стал добрый молодец серым волком поскакивать,
А Горюшко вслед собакою.
Одна забота в особенности служит двигателем сказочных подвигов, одна «дума глубокая», – как разогнать злую кручину, чем жить поживать» [6]6
№ 88. Шабарша.
[Закрыть]. На такое происхождение сказки указывают и любимые имена сказочных героев. Есть, например, целая сказка «О Горе–горянине Даниле–дворянине»: «Жил он у семи попов по семи годов, не выжил он ни слова гладкого, ни хлеба мягкого, не то за работу получил, и пошел он в новое (вар.: иное) царство лучшего места искать» [7]7
№ 179 (прим. к сказкам 178–179).
[Закрыть]. «Иного царства» и «нового места» ищут все неудовлетворенные жизнью: имена их на языке у всех сказителей. Это Данило Бессчастный [8]8
№ 178.
[Закрыть], несчастный Василий Царевич [9]9
№ 179.
[Закрыть], да купеческий сын, не нашедший в жизни счастья и зато высочайше удостоенный особого наименования: пожалел его сам царь, не стал наказывать за содеянную им вину; «назвал его Бездольным, велел приложить ему в самый лоб печать, ни подати, ни пошлины с него не спрашивать и, куда бы он ни явился, накормить его, напоить, на ночлег пустить, но больше суток нигде не держать» [10]10
Поди туда, сам не знаю куда, № 122, d.
[Закрыть]. В числе этих обиженных судьбою есть несчастные по разным причинам: бедные в буквальном смысле, притесненные и обиженные, жертвы ненависти злой мачехи, жертвы зависти сестер, братьев и вообще лихих людей. Есть и многообразные представители нищеты духовной, а в их числе народный любимец – дурак, тип особенно часто встречающийся, потому что, по выражению сказки, «Бог дурней жалует» [11]11
Летучий корабль, № 83.
[Закрыть].
Уход от гнетущей человека бедности жизни, подъем к неизреченному богатству чудесного в связи с исканием «иного царства» есть общая черта всех веков и всех народов. Истина эта открылась уже в древности Платону, который учил, что Эрос, рождающий красоту, есть дитя бедности и богатства *. Соответственно с этим несчастный, обездоленный и дурак занимают в сказках всех народов видное и почетное место. Национальная окраска проявляется лишь в конкретном изображении этих героев, в конкретном понимании той бедности, от которой они ищут спасения, и того богатства, в котором они его находят.
В русской сказке необыкновенно ярко и образно отражается психология русской народной печали. Возвращается бедняк с богатых именин, где его обнесли кушаниями, и пробует затянуть песню, чтобы казаться людям веселым. Поет‑то один, а слышно два голоса, остановился и спрашивает: «Это ты, Горе, мне петь подсобляешь?» Горе отозвалось: «Да, Хозяин, это я подсобляю». «Ну, Горе, пойдем с нами вместе». «Пойдем, хозяин, я теперь от тебя не отстану». И ведет Горе хозяина из беды в беду, из кабака в кабак. Пропивши последнее, мужик отказывается: «Нет, Горе, воля твоя, а больше тащить нечего». «Как нечего? У твоей жены два сарафана: один оставь, а другой пропить надобно». Взял мужик сарафан, пропил и думает: «Вот когда чист! Ни кола, ни двора, ни на себе, ни на жене» [12]12
Горе, № 171.
[Закрыть]. И вместе с мужиком сказочное воображение изыскивает способы избыть это горе. Бедность жизни ощущается людьми по–разному, соответственно различию в настроении, в жизнепонимании и в особенности – в душевном строе. Души низменные отождествляют ее с бедностью в буквальном смысле слова, т. е. со скудностью материальных средств. Отсюда рождается та вульгарная, приземистая сказка, для которой искомое «иное царство» есть в общем идеал сытого довольства. Такое настроение всего лучшего характеризуется теми жирными, дразнящими аппетит «присказками», которыми начинаются у нас многие сказки. «На море – на окияне, на острове Буяне стоит бык печеный, в заду чеснок толченый; с одного боку‑то режь, а с другого макай да ешь» [13]13
№ 165, а. Незнайко.
[Закрыть]. Для вульгарного жизнечувствия искомое «иное царство» страна с молочными реками и кисельными берегами, «где много всякого рода налитков и наедков». Но такое жизнепонимание характеризует лишь нижний, житейский уровень сказки, тот первый ее этаж, где волшебное в собственном смысле еще не начинается. Для более высоких ступеней духовного подъема вкусное и жирное – только предисловие к магическому. «Были мы, братцы, у такого‑то места, наедались пуще, чем деревенская баба теста. Это – присказка, а сказка будет впереди» [14]14
№ 79. Иван Сученко и Белый Полянин.
[Закрыть]. Для сознания более глубокого бедность и скудность – общее свойство всего вообще житейского. Эта черта присуща всему земному вообще, независимо от степени сытости и довольства. Те избранные души, коими создаются высшие ценности сказочного творчества, не находят в серой обыденщине человеческой жизни ни подлинного добра, ни подлинного худа.
Обыденная жизнь отталкивает их именно тем, что в ней все относительно, а потому самому все нудно и бесцветно. Об этом говорят множество вариантов сказки «Худо, да хорошо». Спрашивает барин мужика, зачем он в город ездил? Тот отвечает: «За покупкою дорогою, за мерою гороха. – Вот это хорошо! – Хорошо, да не дюже. – А что же? – Ехал пьяный, да рассыпал. – Вот это худо! – Худо, да не дюже. – А что же? – Рассыпал‑то меру, а подгреб‑то две! – А вот это‑то хорошо! – Хорошо, да не дюже. – Да что же? – Посеял, да редок. – Вот это худо! – Худо, да не дюже. – А что же? – Хоть редок, да стручист. – Вот это хорошо! – Хорошо, да не совсем! – А что же? – Поповы свиньи повадились горох топтать, топтать, да и вытоптали». Так не находит мужик подлинного добра или худа ни в горохе, ни в свиньях, ни в сторожевых псах, ни в рыжей корове, – ни в чем вообще житейском [15]15
№ 230. Хорошо, да худо.
[Закрыть]. Дальше нам придется встретиться со сказочными героями, которые презирают золото, не находят себе удовлетворения даже на высших ступенях житейского благополучия. В них мы найдем подлинную душу сказки. В сказке выражается подъем к чудесному над действительным. Этим и объясняется тот факт, что житейский аппетит в ней всегда обманут. Конец сказки заключает в себе некоторое для него разочарование. – «И я там был, мед, пиво пил, по усам текло, да в рот не попало». Но, с другой стороны, именно в этом житейском разочаровании – тайна иного, высшего очарования этого – сказочного хмеля.
Сказка не насыщает; но именно поэтому ею нельзя пресытиться. Именно этот подъем над житейским делает ее нужною всем народам, всем ступеням культуры. Лучшее доказательство мы – взрослые, образованные люди, в том числе и те, которые воображают, что они переросли сказку. Многое ли останется от нашей поэзии и от нашей музыки, если выкинуть из них сказку и сказочное? В этом лучшее доказательство того, что в сказке зарыто какое‑то великое сокровище, без которого мы обойтись не можем. Здесь вспоминаются мне слова старого и почтенного немца: «Мне за пятьдесят лет, а между тем я до сих пор не могу видеть без захватывающего радостного волнения первого появления Лоэнгрина по зову Эльзы». Всем нам нужны такие радостные волнения: без этого свежего подъема к чудесному самая жизнь была бы нам невыносима. Вся сила чарующего действия волшебной оперы именно и заключается в том, что она вновь делает нам доступной радость сказки. Нам предстоит здесь выяснить, в чем содержание и смысл этой радости.
II. Воровской идеал. Сказка в роли социальной утопии
Все мы люди ищем «лучшего места» в мире земном или в мире надземном, но при этом всякий предъявляет к этому лучшему месту свои требования, соответствующие его настроению, наклонностям и жизненному идеалу. В числе искателей «иного царства» есть люди низшего, высшего и среднего духовного уровня: все оставили в сказке свои следы, выразили в ней свою особенную мечту о лучшем мире. Я начну с того грубого и вульгарного жизненного идеала, который не поднимается над житейским материализмом; как сказано, он заполняет нижний этаж сказки.
Самое элементарное проявление этого жизнечувствия – мечта о богатстве, которое само собою валится в рот человеку без всяких с его стороны усилий. Тема эта развивается в многочисленных сказках, коих героями являются всегда бедные, неимущие. Есть, например, типичная сказка о «хитрой науке»: бедной старухе «захотелось отдать сына в такую науку, чтобы можно было ничего не работать, сладко есть и пить и чисто ходить». Сколько ни пытались люди уверить старуху‚ что такой науки нигде в целом свете не найдешь, она все свое, продала избу и говорит сыну: «Собирайся в путь, пойдем искать легкого хлеба» [16]16
№ 140, с.
[Закрыть]. «Легкий хлеб» – вековечная мечта человеческой лени; естественно, что народная сказка с любовью останавливается на наиболее простом способе его добывания – на воровстве. Сказки воровские имеются у всех народов [17]17
Образцом может послужить, например, приводимая у Афанасьева немецкая сказка Daumendick (Мальчик с пальчик). См. № 168, примечание.
[Закрыть]. Воровство играет большую роль в языческих мифологиях; всем известен, например, греческий бог – покровитель воровства – Гермес. А в немецком сказании о Нибелунгах все воруют друг у друга золото Рейна, и боги и смертные; на этом основано проклятие, коему подпадает обладатель этого золота. По Афанасьеву, «сказка, как создание целого народа, не терпит ни малейшего уклонения от добра и правды», «требует наказания неправды и представляет добро торжествующим» [18]18
В предисловии к его собранию сказок.
[Закрыть], но это замечание находится в полном противоречии с множеством сказок, им же собранных. Как раз в русской сказке сочувствие лепи и воровству граничит с апофеозом лентяя и вора.
Сказка хорошо знает, что искатели дарового богатства легко попадают в плен к самому черту. Ему отдается на обучение и тот сын старухи, о котором только что шла речь. Черт оборачивает его в скворца, показывает его вместе с другими скворцами его матери и читает eй наставление: «Знай же, все это люди, а не скворцы; все так же по–твоему искали легкого хлеба, да навсегда у меня и остались». Скворец спасается из плена не добродетелью, а хитростью [19]19
№ 140, с, Хитрая наука.
[Закрыть]. И это в сказке – обычный путь. Есть сказка о плуте–батраке, который самого нечистого перехитрил [20]20
№ 88, Шабарша.
[Закрыть], есть другая об Иванко Медведко, который обманом добыл у беса золото [21]21
№ 897
[Закрыть], есть и третья об отставном солдате, который за деньги нанялся на службу к черту: без денег, думает, плохое житье; хоть у черта, все что‑нибудь да заработаю [22]22
№ 154, Береза и три сокола.
[Закрыть]. Главный вдохновитель разнообразных сделок с нечистым и с собственною совестью – родная лень, отвращение к труду. Образное выражение жизнечувствия лентяя дается сказкой о семи Семионах: «В одном месте у мужика было семь сынов, семь Семенов – все молодец молодца лучше, а такие лентяи–неработицы, во всем свете поискать, – ничего не делали». – Спросил однажды этих молодцов царь: «чего они умеют делать». Старший так прямо и отвечал: «воровать, ваше царское величество». Прочие братья назвали иные специальности, но самым из них полезным оказался старший: он украл царю невесту. И счастье вознесло вора выше царя. – Царь‑то стар был, «а вор Сенька был бравый детина, царевне приглянулся». На вопрос, за кого она хочет замуж, она ответила: «за того, кто меня воровал» [23]23
№ 84, а (ср. варианты d, с).
[Закрыть]. Вообще счастье в сказке неизменно сопутствует лентяю и вору. Крайним выражением апофеоза лени служит сказка о Емеле–дураке. Он проводит время в лежании на печи и на всякое предложение пальцем повернуть для какого‑либо дела неизменно отвечал: «Я ленюсь». Но ему достается волшебная щука, которая исполняет все его желания. И он пользуется ее услугами единственно для того, чтобы все делалось само собой, без всякого с его стороны труда. «По щучьему велению, по моему прошению, ступайте ведра сами в гору», и ведра идут в гору. «По щучьему велению, по моему прошению, ну‑ка, топор, поди наруби дров, а вы дрова сами в избу идите и на печь кладитесь», и «по щучьему велению, сани ступайте сами в лес». И по щучьему велению топоры рубят, не запряженные сани едут в лес, а дрова сами попадают в печь [24]24
№ 100, а, b, Емеля дурак.
[Закрыть].
Услуги магии не всякому доступны, и дар «щучьего веления» достается людям в удел сравнительно редко. Волею–неволею приходится осуществлять идеал лентяя теми естественными способами, которые всем по плечу. Об этих способах говорят разнообразные варианты сказки о воре. Старик и старуха ведут сына в город «в науку отдавать»; и попадает он на обучение к мастеру вору, который дает своему мастерству характерное определение – «я ночной портной: туда–сюда стегну, шубу с кафтаном за одну ночь сошью». В результате обученья получается такой художник воровского искусства, который знает, как у сороки яйца украсть, как с живого человека штаны снять, и даже как на глазах у барина – украсть барыню [25]25
№ 219, а, b, c, d, e, f, g, h.
[Закрыть]. Сочувствие воровству и вору замечается не в одних только сказках низшего сорта: воровством промышляют и сказочные герои более высокой категории, богатыри и царевичи. Юная аудитория, которая восхищается, например, сказкою о Иване–Царевиче, не отдает себе отчета в том, что любимые подвиги этого и многих других героев – добывание жар–птицы, гyслей–самогудов и прекрасной царевны, большею частью основаны на воровстве. Здесь вор не замечается слушателями сказки потому, что воровство заслоняется общим подъемом над житейским, и вор принимает облик рыцаря, совершающего чудесные подвиги. Есть сказки, где хищения облекаются таинственным волшебным покрывалом, но есть и другие, выражающие низшую ступень нравственного сознания, где воровство, ничем неприкрытое и не приукрашенное, нравится само по себе как «художество» и как наука устроения лучшей жизни.
Неудивительно, что этот воровской идеал находится в самом тесном соприкосновении с социальной мечтою простого народа. Есть эпохи народной жизни, когда все вообще мышление народных масс облекается в сказочные образы. В такие времена сказка – прибежище всех ищущих лучшего места в жизни и является в роли социальной утопии.
Я уже говорил о том, какое видное место отводится в сказке бедняку и его жизненному идеалу. Мечтания бедняка в русской сказке нередко носят определенную классовую окраску. Там мужик жалуется на барина:
«Правдой век прожить не сможешь: кривдой жить вольготней. Вот и наше дело: бесперечь у нас господа дни отнимают, работать на себя некогда» [26]26
Правда и кривда, № 66, а.
[Закрыть]. И невольно сказочная мечта стремится возвести бедняка над знатью, над купцами, вообще над господами. Эта мечта принимает разнообразные формы: то волшебный корабль совершает для царя чудесные подвиги, и царю доносят, что «на корабле нет ни одного пана, а все черные люди», и «черный человек» оказывается наиболее достойным женихом для царевны; то сказка заводит речь о батраке, который нанялся к купцу безденежно, за право дать хозяину по окончании года «щелчок и щипок». Прослужил батрак у купца целый год, дал ему щелчок в лоб, только и жил купец. Батрак «взял себе его имение и стал жить, поживать, добра припасать, лиха избывать» [27]27
Батрак, № 87.
[Закрыть]. В других случаях «простой человек» – богатырь посрамляет подвигом силы и мужества всех думных бояр [28]28
Зорька, Вечерка и Полуночка, № 80.
[Закрыть]. В сказке о двух Иванах рассказывается, как солдатские сыновья скоро научились грамоте «и боярских и купеческих детей за пояс заткнули» [29]29
Два Ивана – солдатских сына, № 92.
[Закрыть]. Простой горшечник побеждает в разгадывании загадок всех бояр [30]30
Горшеня, № 186.
[Закрыть], а солдат – купцов [31]31
Мудрые ответы, № 187.
[Закрыть].
Большое внимание уделяется сказкой и жизненному идеалу простого человека, который очерчивается довольно яркими штрихами. Это прежде всего мечта о том веселом житье, которое олицетворяется царским пиром: «свадьба королевича была веселая, все кабаки и трактиры на целую неделю были открыты для простого народа безденежно» [32]32
Королевич и его дядька, № 67, а.
[Закрыть]. В сказке о безногом и слепом рассказывается, как царь поручил мужику добыть ему невесту «краше солнца» и посулил за то сделать его первым министром, но наперед разрешил мужику «погулять», выдал ему «открытый» лист за своим подписом, чтобы во всех трактирах и харчевнях отпускали ему безденежно всякие напитки и кушанья. Мужик прогулял три недели [33]33
Безногий и слепой богатыри.
[Закрыть]. Этот народный разгул вообще одна из любимых тем русской сказки; вся социальная утопия сказки окрашивается прежде всего стремлением наесться и напиться вволю. Наиболее типическим выражением этой утопии является в особенности одна сказка, где героем является солдат–дезертир и… экспроприатор.
Был у старика и старухи сын Мартышка, «работы никакой не работал» и за безделие был отдан отцом в солдаты. На службе ему не повезло, ушел он самовольно с часов, поставил ружье на полку, щелкнул фельдфебеля «шариком в лоб», за что и был жестоко наказан розгами. Под впечатлением этого наказания он получил во сне откровение: «сбеги, Мартышка, в другое королевство, там тебе жизнь будет добрая. Дойдешь ты до этого королевства, и будет тут речка, через речку мост, а подле моста трехэтажный каменный дом; зайди в этот дом, в том дому никого нет, а стоит стол, на столе довольно всякого кушанья и разных напитков; – наешься ты, напейся и в стол загляни; в том столе в ящике лежат карты однозолотные и кошелек с деньгами. Однозолотными картами хоть кого обыграешь, а из кошелька хоть полную гору насыпь золота, из него все равно не убудет». Мечта об «ином королевстве» сбылась буквально. Мартышка присвоил себе чужой дом, взял чужой кошель и карты. Отсюда – начало наполеоновской карьеры солдата. Отправился он в трактир, куда министры да генералы ходят и сам король приезжает, ударил маркитанта по лицу, стал водку пить, сыпать деньгами из кошелька да генералов угощать. Доложили генералы о Мартышке самому королю. Стал король Мартышку водкой угощать: «Опохмелься, мол, служивый». А тот ему в ответ: «Пейте сами, ваше величество, мне и своих денег не пропить будет». После того обыграл солдат короля в карты, выиграл у него все деньги, платье и лошадей с каретою, да кучера с фалетуром и запятником; «опосля ему все взад отдал». Кончил свою карьеру Мартышка королевским любимцем и «набольшим министром»; уезжая в другую землю, поставил [его] король вместо себя править королевством. «И повел Мартышка по своему: приказал он шить на солдат шинели и мундиры из самого царского сукна, что и офицеры носят, да прибавил всем солдатам жалованья – кому по рублю, кому по два и велел им перед каждой вытью (едою) пить по стакану вина и чтобы говядины и каши было вдоволь. А чтоб по всему королевству нищая братья не плакалась, приказал выдавать из казенных магазинов по кулю и по два на человека муки. И так‑то за его солдаты и нищая братия Бога молят» [34]34
Роза, № 113, b.
[Закрыть].
Мечта простого народа о царстве вообще неоднократно выражается русской сказкой; повесть о том, как мужик стал царем, там повторяется не раз» [35]35
См., напр., Правда и Кривда, № 66, а, Сказка про утку с золотыми яйцами, № 144, b.
[Закрыть]. Это – Царь «такой добрый для подданных, особливо для солдат» [36]36
Окаменелое царство, № 153, b.
[Закрыть]. Те же демократические требования предъявляются и королям недемократического происхождения. Сказка рассказывает о загробных мучениях недоброго к простому народу короля: на нем черти дрова возят и погоняют его дубинками. На вопрос солдата о его житье–бытье на том свете король отвечает: «Ах, служивой! Плохое мое житье. Поклонись от меня сыну, да накрепко ему моим именем закажи, чтобы не обижал он ни черни, ни войска; не то Бог заплатит!» [37]37
Поди туда – не знаю куда, № 122, с.
[Закрыть]Несчастный, обиженный судьбою и людьми, обращается к царю с вопросом: «Отчего мне Счастья нет?». И сказка признает царя обязанным войти в рассмотрение этого вопроса [38]38
Доброе слово, № 192, с.
[Закрыть]. Но больное место сказки, особливый предмет ее забот – солдат, потому что ему исключительно тяжело живется. Сказки в сборнике Афанасьева, которые собирались в пятидесятых и шестидесятых годах, полны местами солдата николаевской эпохи. И тип дезертира встречается здесь нередко в связи с жалобой на чрезмерную тяжесть службы: приходится служить царю двадцать пять лет [39]39
Солдат избавляет царевну, № 190.
[Закрыть], а за тяжкие проступки в полку «сквозь строй загоняют». Даже исправному солдату приходится «то и дело под палками отдуваться» [40]40
Беглый солдат и чорт, № 91.
[Закрыть]. Вот почему уже в те времена в народной душе шевелится мечта о солдате–министре, а короле–мужике и в особенности об «ином царстве», где солдат и мужик находят недостающее им благополучие. Характерно стереотипное начало повести о дезертире – искателе лучшего места, о его чудесных приключениях и подвигах, где чёрт является то врагом, то другом. «И пошел он, добрый молодец, куда глаза глядят. Много ли, мало ли шел, пробрался в иное государство» [41]41
Окаменелое царство, № 153, а.
[Закрыть]. Венцом этой солдатской и мужицкой мечты является образ простолюдина, который, по завершении опасных и трудных подвигов, от ран «скоро поправлялся, зелена вина напивался, заводил пир навесь мир; а по смерти царя начал сам царствовать, и житие его было долгое и счастливое» [42]42
Незнайко, № 165, b.
[Закрыть].
Экономический материализм, для которого всякая идеология, в том числе и сказочная, представляет собою «отражение экономических отношений в человеческих головах», мог бы найти в сказках этого рода богатый материал для своих построений. Но было бы глубоко ошибочно сводить всю сказку к этой вульгарной мечте о материалистическом рае.
Есть в сказке иное, высшее вдохновение, которое поднимается над житейским; в сказках, где чувствуется этот подъем, мы не найдем отзвуков классового антагонизма и классовых вожделений. Есть сказки, где прямо осмеивается этот приземистый идеал житейского благополучия. Таков, например, юмористический рассказ о лисе–лекарке [43]43
№ 5, ср. Лиса Плачея, № 6.
[Закрыть]. В нем идет речь о старике, который залез на небо и видел там пироги, ватрушки да горшки с кашей. Наелся старик, напился – и спать повалился; потом проснулся и потащил на небо свою старуху. Есть и другой рассказ о мужике, который вырастил горошину «до небушка», влез туда и нашел на небе «середи хором печку, а в печке и гусятины, и поросятины, и пирогов видимо–невидимо. Одно слово сказать, чего только душа хочет, все есть». Сказка предвидит трагикомический конец этого призрачного подъема, который неизбежно приводит к падению. Не нашел мужик с этого жирного и сладкого неба обратного пути на землю, свил веревку из летавшей в воздухе паутины и начал спускаться. «Спускался, спускался, – хвать, – веревочка вся, а до земли еще далеко, далеко: он перекрестился и бух! Летел, летел и упал в болото». Так бы и остался мужик в болоте, кабы не вытянула его оттуда утка. История этого падения оканчивается юмористическим четверостишием:
Сказки, где так или иначе высказывается или вышучивается житейская мечта русского простолюдина, наиболее близки к русской действительности. <Нужно ли удивляться, что эти сказки полны образов, которые уже стали действительностью. На наших глазах осуществилась утопия бездельника и вора и мечта о царстве беглого солдата. Захватывают «трехэтажные дома», и чужие кошельки; печатный станок уже давно воплотил в жизнь мысль о кошеле неистощимом, кругом мелькают сапоги–скороходы да ковры–самолеты; все они полны ворами да беглыми солдатами, а дезертир успешно проходит в «набольшие министры», и вместо царя правит царством.>
Предсказан в сказке и конец этого счастья. Мы стоим лицом к лицу бессмертным образом разбитого Корыта; есть и другой, только что упомянутый, достойный стать с ним рядом. <Это образ мужика, обманутого сладкою метою и не находящего пути для благополучного возвращения от утопии к действительности. Его удел – болтаться между небом и землей на фантастической веревке из тонкой паутины; а неизбежный конец его странствий – топкое и грязное болото.> Какая утка его оттуда вытянет, мы пока не знаем, но самый образ этой утки – тоже нам родной и хорошо знакомый. Разве мало в русской жизни парадоксальных выходов из безвыходных положений? Выходы эти не поддаются ни учету, ни предвиденью; а потому и говорить о них можно только сказочными образами, где стерта грань между былью и небылицей.







