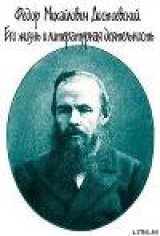
Текст книги "Достоевский. Его жизнь и литературная деятельность"
Автор книги: Евгений Соловьев
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 7 страниц)
Незаметно, однако, подошли мы к труднейшему вопросу о влиянии каторги на характер и миросозерцание Достоевского. По этому поводу говорят различно; сам Достоевский то проклинал эту жизнь, то как будто благословлял ее. О. Миллер полагает, что жизнь на каторге была «уроком народной правды для Достоевского». Майков решительно утверждает, что каторга была полезна. Ястжемский думает, что она развила литературный талант. Мнения самого Достоевского противоречат одно другому. Н. К. Михайловский приписывает каторге влияние безусловно вредное, чисто отрицательное.
Вопрос, как кажется, неразрешим. Отвечать на него a priori[9]9
Заранее, до изучения, до опыта, (лат.)
[Закрыть] нельзя, так как на разных людей каторга несомненно производит разное впечатление. Одних она может доконать совершенно, как, например, Дурова, других озлобить, как Петрашевского, третьих смирить. Последнее выпало, по-видимому, на долю Достоевского. Он смирился до самой глубины своего миросозерцания, но опять-таки нельзя утверждать, чтобы оно стало совсем другим после каторги. Мистические идеи бродили в нем и раньше, уважением к христианству он был проникнут и до каторги. Сам темперамент его, как увидим ниже, остался в сущности тем же неровным, истеричным, склонным к меланхолии. Правда, Достоевский в письмах из Семипалатинска утверждает, что он стал совершенно другим и меланхолия исчезла без следа. Но все это было в самом начале, после выхода из острога, когда меланхолия действительно неуместна. Потом Достоевский говорил, что на каторге он сошелся и братски соединился с народом, но тут же прибавляет, что ему трудно было бы рассказать историю перерождения его убеждений. «Да и произошло-то это перерождение постепенно, после долгого времени».
Но совершенно в стороне оставить вопрос нельзя. Попытаемся же по мере сил ответить на него без всякой предвзятой мысли и только на основании данных биографии. Если рассуждать по пословице «все хорошо, что хорошо кончается», то, быть может, в известном смысле и каторга была полезна. Мы уже видели, что настроение Достоевского до ареста было во всех отношениях ужасно и грозило разрешиться самоубийством. Жизнь без признака воли, торопливая, нетерпеливая жизнь – вот что говорит нам биография о периоде, предшествовавшем аресту. Достоевский мучительно ожидал какого-нибудь толчка, какой-нибудь перемены. Судьбе было угодно отправить его в Омский острог. Какой путь приняла бы его жизнь без этого постороннего вмешательства, сказать трудно; может быть, он покончил бы с собой, может быть, стал революционером столько же по убеждению, сколько от отчаяния, может быть, время помогло бы ему дисциплинироваться. Все это одинаково вероятно и одинаково гадательно. Толчок явился извне. Мы видели, что он не особенно даже поразил Достоевского, так как душевный кризис назрел и требовал разрешения. Но ведь отсюда не следует, что каторга прошла без следа. Оставляя в стороне вопрос о ее влиянии на здоровье, литературный талант и пр., твердо вместе с тем убежденные, что здоровье лучше поправить в больнице, чем в остроге, и что литературный талант для своего расцвета совсем не требует такой радикальной перемены климата и обстановки, мы думаем, что вообще-то каторга произвела на Достоевского впечатление подавляющее в широком смысле слова. Правда, мысль, что он мог не в пример прочим перенести такое тяжелое испытание, что самое тяжелое в жизни пройдено, придавала ему бодрости, но эта бодрость не выходила за пределы личной жизни и личной деятельности. Во всех других сферах Достоевский как-то заметно сократился. Нечего и говорить, что повторение петрашевской истории стало для него совсем немыслимым после четырехлетнего пребывания в остроге. От активной борьбы с жизнью он отказался, хотя и прежде-то он брался за нее скорее от отчаяния, чем от какой другой причины. Он смирился, смирился в том смысле, что, видя целые годы вокруг себя непреодолимые преграды, слишком глубоко проникся сознанием своей личной слабости перед окружающими его условиями. Формула «как хочу, так и делаю» была уже совсем неприменима на каторге. Острог – это сила, совершенно придавившая, уничтожившая личное «я». И Достоевский как нельзя более проникся этим внушением. Все: темперамент, взгляды остались те же, – но известного рода трусливость, запуганность перед жизнью, и раньше бывшие в нем, резче, яснее выступили наружу и совсем оттеснили на задний план прежние взрывы своеволия.
Мысль эта кажется простой, но, чтобы лучше убедиться в этом, обратимся к характеристике внутренней жизни Достоевского на каторге; тогда подавляющее впечатление последней станет, на наш взгляд, очевидным.
Особенно мучило Достоевского то, что он был «не в своем обществе», – совсем чужим для всех своих невольных товарищей. Дворянство, образование создавали между ними непроходимую пропасть.
«Важнее всего этого то, – говорит он, – что всякий из новоприбывающих в острог, через два часа по прибытии, становится таким же, как и все другие, становится у себя дома, таким же равноправным хозяином острожной артели, как и всякий другой. Он всем понятен, и сам всех понимает, всем знаком, и все считают его за своего. Не то с благородным дворянином… Как ни будь он справедлив, добр, умен – его целые годы будут ненавидеть и презирать все, целой массой; его не поймут, и, главное, не поверят ему. Он не друг и не товарищ, и хоть достигнет он наконец, с годами, того, что его обижать не будут, но все-таки он будет не свой, и вечно мучительно будет сознавать свое одиночество и отчуждение. Это отчуждение делается иногда совсем без злобы со стороны арестантов, а так, бессознательно. Не свой человек, да и только; а ничего нет ужаснее, как жить не в своей среде. Мужик же, переведенный из Таганрога в Петропавловский порт, тотчас же найдет там такого же точно русского мужика, тотчас же сговорится и сладится с ним, а через два часа они, пожалуй, заживут самым мирным образом в одной избе или шалаше». Волей-неволей Достоевскому пришлось примириться со своим уединением и сосредоточиться исключительно на жизни внутренней, жизни своего сердца.
«Несмотря на сотни товарищей, – говорит он, – я был в страшном уединении и полюбил, наконец, это уединение. Одинокий душевно, я пересматривал всю прошлую жизнь мою, перебирал все до последних мелочей, вдумывался в мое прошедшее, судил себя один неумолимо и строго, и даже в иной час благословлял судьбу за то, что она послала мне это уединение, без которого не состоялись бы ни этот суд над собой, ни этот строгий пересмотр прежней жизни. И какими надеждами забилось тогда мое сердце! Я думал, я решил, я клялся себе, что уже не будет в моей будущей жизни ни тех ошибок, ни тех падений, которые были прежде. Я начертил себе программу всего будущего и положил твердо следовать ей. Во мне возродилась слепая вера, что я все это исполню и могу исполнить… Я ждал, я звал поскорее свободу; я хотел испробовать себя вновь, на новой борьбе. Порой захватывало меня судорожное нетерпение. Но мне было больно вспоминать теперь о тогдашнем настроении души моей».
Тяжело это, конечно, чувствовать себя одиноким среди сотен товарищей, не иметь человека, с которым можно бы поделиться думами своего наболевшего сердца. Еще тяжелее укрощать в себе постоянно накапливающуюся энергию, судорожные порывы к деятельности, ограничивать свою жизнь одним углублением в себя самого, в воспоминания о прежних ошибках и заблуждениях, и наблюдать все ту же однообразную, уже опостылевшую обстановку. В этих грязных и мрачных палатах, среди чужих людей, не понимавших его, не веровавших в него, Достоевский все больше и больше в глубине души своей стал проникаться смирением. Могучим потоком лилось оно из постоянно читавшегося и перечитывавшегося Евангелия, из всей окружающей его обстановки, в сравнении с которой он мог не чувствовать себя таким маленьким, таким ничтожным.
Сила жизни, представляемая этими высокими стенами острога, через которые нельзя пройти, этой жестокостью и вместе с тем – непреложностью установленных кем-то другим правил, которые распоряжаются тобой как хотят, без всякого внимания к личной твоей воле, без всякой заботы о личном твоем счастье; наконец, эта внушительная масса клейменых каторжных, не хотящих признавать тебя, верить в тебя, прямо тебя отрицающих, – все это произвело, да и не могло не произвести, на личность Достоевского подавляющее впечатление.
Сама жизнь заставила его смириться, и в этом новом настроении духа он осудил самого себя, свои прежние увлечения, свою прошлую деятельность, потому что вся она имела источником сознание своей силы, служение своей воле, властное и требовательное отношение к жизни вообще.
В этом раскаянии, в этом признании, что постигшая его кара вызвана его же собственными ошибками, заслужена, он находил своеобразное и вместе с тем вполне понятное утешение. Это не фатализм, но простой вывод из христианского учения: личность свободна, а значит и ответственна.
Читая одно Евангелие, видя себя постоянно одиноким, маленьким, он смирился. Но отсюда до мистицизма еще далеко. Надо согласиться, что в «Записках из Мертвого дома» даже не пахнет мистицизмом, – а написаны они уже 10 лет спустя после каторги; в них даже удивительно трезвый, удивительно здоровый взгляд на человека и требования человеческой природы. Но уже с этого времени лично в отношении к себе Достоевский стал, прежде всего, проповедовать смирение, отрицать всякое властное, требовательное стремление в жизни. Жизнь большая, удивительно большая, неизведанной глубины вещь. Не тебе, маленькому, слабосильному человеку, восставать против нее. Ты и работать-то не умеешь и понимать жизни не умеешь: просто не знаешь ее. Что надо тебе? Своего счастья, удовлетворения всех своих желаний? Но разве этого достаточно? Разве это не худшее рабство в руках собственных страстей? Смирись прежде всего сам. Посмотри, чем жил ты, что в тебе есть, сколько там, на дне души твоей, мелочности, подлости, пошлости. И не подступайся к народу со своим идеалом счастья, не навязывай ему своего: он знать тебя не хочет, он не верит в тебя. Заслужи сначала его любовь, его расположение, его доверие. А способен ли ты хоть на это, хоть на эту дозу самоотречения и самоограничения, наградой за которые являются и любовь, и доверие? Господствующей мыслью миросозерцания становится подавление своего «я» и смиренное служение другим.
Но вернемся к рассказу. Несмотря на смирение и самобичевание, неутолимая жажда жизни оставалась. Достоевский хотя и называл, но совсем не считал себя «отрезанным ломтем». Покинутая за Иртышом жизнь, оставленные там надежды исчезли не совсем. «Каторга будет длиться не вечность же, – рассуждал он. – После нее выйду на свободу, писать буду. Только не забыли ли они меня, примут ли они меня опять в свою среду? Не отстал ли я от них?» Однажды в руки ему попал журнал. Посмотрите, с какой страстью набрасывается он на него…
«Помню, я начал читать с вечера, когда заперли казарму, и прочитал всю ночь до зари. Это был номер одного журнала. Точно весть с того света прилетела ко мне; прежняя жизнь вся ярко и светло восстала передо мною, и я старался угадать по прочитанному, много ли я отстал от этой жизни? много ли они прожили там без меня; что их теперь волнует, какие вопросы их теперь занимают? Я придирался к словам, читал между строчками, старался находить таинственный смысл, намеки на прежнее; отыскивал следы того, что прежде, в мое время, волновало людей, и как грустно мне было теперь на деле осознать, до какой степени я был чужой в новой жизни, стал ломтем отрезанным».
Между тем проходили годы. Наступал и последний.
«С каким нетерпением, – говорит он, – я ждал зимы, с каким наслаждением смотрел в конце лета, как вянет лист на дереве и блекнет трава в степи» (на что люди в нормальном положении смотрят всегда так грустно). «Настала, наконец, эта зима, давно ожидаемая… Но странное дело: чем ближе подходил срок, тем терпеливее и терпеливее я становился… Замечу здесь мимоходом, что вследствие мечтательности и долгой отвычки свобода казалась у нас в остроге как-то свободнее настоящей свободы, т. е. той, которая есть на самом деле, в действительности». «Накануне самого последнего дня, – вспоминает Достоевский, – я обошел в последний раз около паль весь наш острог… Здесь, здесь за казармами скитался я в первый год моей каторги один, сиротливый, убитый. Помню, как считал я тогда, сколько тысяч дней мне остается… На другое утро рано, еще перед выходом на работу, когда только еще начинало светать, обошел я все казармы, чтобы попрощаться со всеми арестантами. Много мозолистых, сильных рук протянулось ко мне приветливо. Иные жали их совсем по-товарищески, но таких было немного. Другие уже очень хорошо понимали, что я сейчас стану совсем другим человеком, чем они… и прощались со мной хоть и приветливо, хоть и ласково, но далеко не как с товарищем, а будто с барином. Иные отвертывались от меня и сурово не отвечали на мое прощание. Некоторые посмотрели даже с какою-то ненавистью»…
Но все же годы испытания кончились. «Да, с Богом! – восклицает сам Достоевский. – Свобода, новая жизнь, воскресение из мертвых… Экая славная минута»!..
Срок каторги окончился 2 марта 1854 года. По окончании его Достоевский был зачислен рядовым в сибирский № 7 линейный батальон; 1 октября был произведен в прапорщики с оставлением при том же батальоне. Почти немедленно за этим возобновилась его переписка с родными и друзьями, возобновилась и его литературная деятельность. Будучи в Сибири, он написал «Дядюшкин сон», «Село Степанчиково». Тут же было задумано одно из лучших его произведений, «Записки из Мертвого дома».
Пора, однако, ввиду новых событий в жизни Достоевского, начать новую главу.
Глава V
Возвращение из ссылки. – Издание «Времени» и «Эпохи». – Женитьба. – Годы за границей
Из времени пребывания Достоевского в Сибири (после каторги) мы пропустили один эпизод – если и не особенно, быть может, важный, то все же, надо думать, очень характерный. Мы разумеем любовь к M. Д. Исаевой, закончившуюся женитьбой на ней Достоевского в Кузнецке. Кто была Марья Дмитриевна – мы отчасти знаем, что такое была она – остается неизвестным и до сей поры. Хотя Достоевский и вышел из острога больной (у него появилась падучая), без денег, но жажда жизни была сильнее всего: он поспешил влюбиться. Его любовь, – как кажется, первая в жизни – была настоящей страстью. Как страсть она вызывала ужасные муки томления, ревности. По-видимому, и Марья Дмитриевна была не из спокойных людей, а такая же подозрительная, ревнивая, мучительная натура, как и Достоевский. Легко вообразить себе их взаимные отношения, особенно если припомнить, что оба в то время были буквально нищие люди, что еще увеличивало их и так уже тревожное настроение. Достоевский любил, по-видимому, с каким-то самоотвержением. По крайней мере, когда после одной из бесчисленных ссор и «расставаний» будущая жена его увлеклась кем-то другим, вот что писал он о ней барону Врангелю, не совсем удачно приняв на себя (вернее, вообразив) роль друга: «Нельзя ли пошевелить это дело (т. е. выдачу пособия), чтобы оно разрешилось в пользу Марьи Дмитриевны. В ее положении такая сумма – целый капитал, а в теперешнем положении – ее единственный выход. Я трепещу, чтобы она, не дождавшись этих денег, не вышла замуж. У него (кто это он – неизвестно) ничего нет, у ней – тоже». После этой ссоры влюбленные, однако, примирились. Через несколько месяцев Достоевский пишет тому же Врангелю: «Если не помешает одно обстоятельство, то я до масленицы женюсь – вы знаете на ком. Она же (Марья Дмитриевна) любит меня до сих пор. Она сама сказала мне: „да“. То, что я писал вам об ней летом (об ее увлечении другим), мало имело влияния на ее привязанность ко мне. Она скоро разуверилась в своей новой привязанности. Еще летом, по письмам ее, я знал об этом. Мне было все открыто. Она никогда не имела тайн от меня. О, если б вы знали, что это за женщина!» Это уже тон восторженно влюбленного. Повторяю, эпизод очень характерный, хотя и страшно скомканный как в биографии, так и в воспоминаниях и даже в письмах. Любопытна вот какая черта: Достоевский, сам страстно влюбленный, берет на себя роль друга во время разрыва, по крайней мере заботится о чужом благополучии наперекор собственному, и это несмотря на свою страсть, на всю свою ревность. Момент сложный, едва затронутый самим Достоевским в его романе «Бесы»… Что это – самопожертвование, психопатическое смирение или, наконец, невероятная способность самосочинения, которой так много у Достоевского? Вообразил себя человек вот таким-то, потом и действует по воображенному образцу.
Но все же несомненно, что Достоевский любил. Сам он впоследствии (1865 год) в письме к Врангелю так характеризует свою семейную жизнь с Марьей Дмитриевной: «Другое существо, любившее меня и которое я любил без меры, жена моя, умерла в Москве, куда переехала за год до смерти своей от чахотки. Я переехал вслед за нею, не отходил от ее постели всю зиму 1864 года и 16 апреля прошлого года она скончалась, в полной памяти, прощаясь, вспоминая всех, кому хотела в последний раз от себя поклониться, вспомнила и об вас. Помяните ее хорошим, добрым воспоминанием. О друг мой, она любила меня беспредельно, я любил ее тоже без меры, но мы не жили с нею счастливо. Все расскажу вам при свиданьи, – теперь же скажу только то, что несмотря на то, что мы были с ней положительно несчастны вместе (по ее странному, мнительному и болезненно-фантастическому характеру), мы не могли перестать любить друг друга, даже чем несчастнее были, тем более привязывались друг к другу. Как ни странно это, а это было так. Это была самая честнейшая, самая благороднейшая и великодушнейшая женщина из всех, которых я знал во всю жизнь. Когда она умерла, – я хоть мучился, видя (весь год), как она умирает, хоть я ценил и мучительно чувствовал, что я хороню с нею, – но никак не мог вообразить, до какой степени стало больно и пусто в моей жизни, когда ее засыпали землею. И вот уж год, и чувство все то же, не уменьшается»…
Как бы то ни было, Достоевский сейчас же после каторги вступил в свою колею. Это колея авансов, безденежья, литературной кабалы. Но тут уже она вызывалась действительной необходимостью. Сотни были забраны у Каткова, Кушелева и т. д. Плещеев одолжил Достоевскому 1000 рублей. Эти деньги просто спасли его, и благодаря им он мог выбраться из Сибири. Кстати: напрасно, повторяю, Достоевский, а за ним и другие полагали, что каторга исцелила его от душевной болезни. Это уж слишком дешевая мысль. А наговорили по поводу ее куда как много. И О. Миллер наговорил, и Майков наговорил. Не в них, однако, дело: дело в том, что Достоевский остался таким же нетерпеливым, мнительным, истеричным, неуверенным в себе, как и до ссылки. Это дальнейшая биография его достаточно подтверждает. уж терпения в нем не было никакого. Он и оды из Сибири пишет на манер карамзинских, и прошениями забрасывает, и просто мечется на одном месте. В офицеры вышел – тотчас в отставку, потом – в Тверь, потом – в Петербург. Хлопот много, беспокойств куча, начаты десятки произведений, в голове ежеминутно зарождаются новые темы. Наконец-то зимою 1859 года он благодаря стараниям и собственным, и друзей очутился в Петербурге, с женой и пасынком.
Надо припомнить, какое это было время. Тогда начинались и почти уже заканчивались так называемые 60-е годы, оставалось «без году неделя», но сделано за эти дни было так много, что мы еще и теперь доделываем и переделываем тогда начатое. За эту эпоху обыватель получил личность, да еще какую, всю совокупность тех качеств, которые украшают человеческую особь, право говорить, писать, даже думать по-своему, т. е. совсем по программе, изложенной в знаменитых стихах Фелицы. Как люди многоопытные и многознающие, мы не можем, конечно, не произнести без некоторой усмешки: идеалистом был обыватель 60-х годов; но его идеализм был идеализмом земли. Он заботился о земном счастье всех, интересовался только практическими вопросами и задачами, с презрением отвергал всякую метафизику и схоластику и твердо верил, что завтра «все это исполнится». Общественное возбуждение было громадно. Происходила всеобщая эмансипация – мужика, детей, гражданина. Все считали себя призванными решать, а если не решать, то по крайней мере обсуждать. Обсуждали действительно много… и надо согласиться, что в темах для обсуждения недостатка не чувствовалось: новая жизнь, новые принципы, с такой гениальной смелостью, с такой глубокой внутренней правдой провозглашенные с высоты престола, должны были, как всеми это сознавалось, открыть новую эру и новый период русской истории. Старое возбуждало негодование, ненависть, злобу. Точно проснувшись от векового сна, обыватель осмотрелся и увидел, что куда ни кинь – повсюду традиция и притом «не из лучших», повсюду недостатки и притом коренные. Там – тьма невежества, здесь лицемерие, в третьем месте приниженность, от которой и больно, и совестно становится на душе. Работы сколько угодно; надо сносить целые груды мусора, под которыми бессильно и со стоном пропадает свободный человек, надо ободрить прежде всего этого самого человека, слишком робкого и забитого, чтобы можно было ожидать от него каких-либо целесообразных поступков. Очертя голову люди принялись за работу; к тому же самому делу с восторгом и умением протягивались тысячи рук; все были полны веры в будущее и даже в ближайший завтрашний день. Обывателю некогда было передохнуть и задуматься, некогда было засесть в своем кабинете и сочинять философские системы с тем, чтобы с точки зрения общих принципов оправдывать свои поступки. Понукаемый верой в необходимость все пересоздать и все переустроить, постоянно занятый удовлетворением все новых и новых потребностей жизни, обыватель любил мысли ясные и общедоступные, так сказать, прямо ведущие к делу. «Просвещение полезно», – говорил обыватель, и сейчас же в его голове возникала картина такого жизнеустройства, когда в каждой деревушке и притом на самом видном месте будет стоять школа, а в ней «любящий и преданный своему делу преподаватель» станет толковать своим ученикам, что никакой буки на свете нет, а есть только одно невежество и тьма непонимания… «Женщины хотят учиться!» – «Ну и пускай их учатся!» – восклицал обыватель и начинал проект о пятиэтажном здании, в котором не только краткие начатки, но и высшая математика будут преподаваться интересующимся ими дамам и барышням. Обыватель того времени терпеть не мог ни эстетики, ни покаяния, ни философии, предпочитая им краткие правила, с которыми можно сейчас же приступить к осушению болот и обращению бесплодных степей в засеянную ниву. Вечно преследуя практические цели, он был несколько доктринером, несколько нетерпимым, немного педантом и скучным. Гнался он не за оригинальным, а за полезным; без всякого сожаления выбрасывал он из головы те мысли, которые мешали его работе и заставляли с меланхолическим видом спрашивать о целях бытия. «Ну, что же такого, что я эгоист? – Мне, может быть, хорошо, когда всем хорошо, следовательно…» И он усаживался за писание какого-нибудь трактата о вентиляции. Он, т. е. тогдашний обыватель, был резок, с презрением отворачивался от споров на тему о свободе воли, начале всех начал и пр. «Свобода воли! – горячился он. – Позвольте… Ведь пошехонская губерния голодает… А почему голодает? Потому что кобылка весь хлеб съела. А почему кобылка весь хлеб съела? Потому что мужик не знает, что с ней делать. А почему он не знает, что с кобылкой делать? Потому что мы, баре интеллигентные, штудируем Гегеля и т. д. Работать надо, работать!» – и обыватель с упоением бросался в самую свалку жизни…
Очевидно, какую роль при подобной точке зрения на жизнь должна была приобрести журналистика. Осматриваться и писать книги было некогда: жизнь шла так быстро, что и ежемесячники едва могли удовлетворять вдруг пробудившуюся в читателях потребность знать все и судить обо всем. Под напором общего возбуждения старая жизнь отступала, новое, являвшееся на место ее, требовало и новых сведений, и новых принципов. Писать книги, обобщать взгляды, систематизировать мнения было, повторяю, некогда, и журналистика приобрела первенствующее положение в деятельности русской интеллигенции. По своему практическому характеру она подходила, так сказать, вплотную к жизни, наскоро давала общие точки зрения и общие принципы, не выпуская из виду факта жизни. Тот же практический характер ее направления делал необходимой для него полемику и даже ожесточенную, так как ежеминутно задевались и личный эгоизм, и личные интересы. Словом, журнал стал всем, у него появилась своя философия, своя политика, своя поэзия и беллетристика: он был истинной осью русской интеллигентной мысли.
Достоевский не остался, конечно, в стороне. Вместе со своим братом он задумал издавать журнал «Время» и действительно издавал его с лишком два года. Журнал пользовался успехом; на первый год у него было более 2 тысяч подписчиков, на второй год около 4, потом 4 и т. д. Ф. Достоевский был и редактором, и сотрудником. Работал он поразительно много. Кроме невидной, но бесконечно трудной редакторской работы им написаны были для журнала «Униженные и оскорбленные» и «Записки из Мертвого дома». Литературно-критических статей, фельетонов, заметок о заграничной поездке мы уже не считаем.
Сотрудники «Времени», потом «Эпохи» (Страхов, Достоевский, Ап. Григорьев) имеют особенное наименование: почвенники. По поводу этой «почвенности» нам надо сказать несколько слов. В сущности, это попытка примирить славянофильство и западничество в русском смысле, т. е. с целью создать самостоятельное русское миросозерцание. Совсем не увлекаясь панславизмом, почвенники требовали для России безусловной гегемонии, признавали за ней как политическое, так и духовное первенство среди других славянских племен. У славянофилов они заимствовали идею о необходимости возвратиться к основам народной жизни, от которых нас отвлекла излишняя подражательность, излишнее лакейство и холопство перед Европой. Но европейской культуры они не отрицали, только требовали, чтобы она не подавляла русской самобытности, чтобы она была переработана и стала органическим элементом русской жизни. Европейская культура это только средство, а не цель для выяснения русского самобытного духа. Россия велика, и велика именно в духовном, нравственном отношении. Она выше других государств как представительница нравственного начала. Это нравственное начало примирит в конце концов все противоречия западной жизни, и построенная на нем русская культура завершит европейскую. Нравственное же начало, это начало любви, которая выше всех политических и экономических явлений. Поэтому, пользуясь европейской культурой как средством, не надо забывать, что суть-то, цель не в том, чтобы стать европейцами, а в том, чтобы пробудить в себе заснувшую, заглохшую от холопства перед Европой самобытность.
Благодаря, главным образом, произведениям самого Достоевского, «Время», повторяем, пользовалось успехом. Его погубила одна из самых странных статей, когда либо появлявшихся в русской литературе – статья Страхова «Роковой вопрос». Ее никто не понял. Многие из публики остались ею недовольны, так как полагали, что в ней выражена антипатия к полякам; «Московские ведомости» приняли статью за резкое полонофильское profession de foi,[10]10
Кредо, изложение своих воззрений (фр.)
[Закрыть] и петербургская цензура запретила из-за нее журнал.
О своей жизни в это время сам Достоевский рассказывает следующее: «Я сотрудничал своему брату во „Времени“. Все шло прекрасно. Мой „Мертвый дом“ сделал буквально фурор, и я возобновил им свою литературную репутацию. У брата были огромные долги при начале журнала, и те стали оплачиваться, – как вдруг в 1863 г., в мае, журнал был запрещен за одну самую горячую и патриотическую статью, которую ошибкой приняли за самую возмутительную… Дело скоро поняли как надо, но уж журнал был запрещен. Брат выхлопотал себе позволение продолжать журнал под названием „Эпоха“. Позволение вышло только в конце февраля 1864 г. 1-й номер не мог появиться раньше 20 марта. Новых подписчиков не было, пришлось досылать „Эпоху“ вместо „Времени“ за 6 рублей в год. Брат должен был делать долги, здоровье же его стало расстраиваться. Меня подле него в это время не было. Я был в Москве подле умиравшей жены моей. Схоронил ее. Бросился в Петербург к брату, – он один у меня оставался; через три месяца умер и он, прохворав всего месяц. После брата осталось всего 300 рублей, и на эти деньги его похоронили. Кроме того до 25 тысяч долгу. Семейство его осталось буквально без всяких средств, – хоть ступай по миру. Я у них остался одной надеждой, и они все, и вдова и дети, сбились в кучу около меня, ожидая от меня спасения. Брата моего я любил бесконечно, – мог ли я их оставить? – Я решился. Поехал в Москву, выпросил у старой и богатой моей тетки 10 тысяч рублей и, воротившись в Петербург, стал издавать журнал. Но дело было уже сильно испорчено: требовалось выпросить разрешение цензурное издавать журнал. Дело затянулось так, что только в конце августа могла появиться июньская книжка. Подписчики, которым ни до чего дела нет, стали негодовать. Имени моего не позволила мне поставить цензура ни как редактора, ни как издателя. Надобно было решиться на меры энергические. Я стал печатать разом в трех типографиях, не жалел денег, не жалел здоровья и сил. Редактором был один я, читал корректуры, возился с авторами, с цензурой, поправлял статьи, доставал деньги, просиживал до шести часов утра, спал по 5 часов в сутки и ввел в журнал порядок, но было уже поздно… На 1865 год у нас осталось только 1300 подписчиков. Теперь мы не можем за неимением денег издавать журнал и должны объявить временное банкротство, а на мне кроме того 16 тысяч долгу по векселям и 5 тысяч на честное слово… О друг мой, я охотно бы пошел опять в каторгу, на столько же лет, чтобы только уплатить долги и почувствовать себя опять свободным. Теперь опять начну писать роман из-под палки, т. е. из нужды, наскоро. Он выйдет эффектен. Но того ли мне надобно! Работа из нужды, из-за денег задавила, съела меня. И все-таки для начала мне нужно теперь три тысячи! Бьюсь по всем углам, чтобы достать их, – иначе погибну! Чувствую, что только случай может спасти меня! Из всего запаса моих сил и энергии осталось у меня на душе что-то тревожное и смутное, что-то близкое к отчаянию. Тревога, горечь, самая холодная суетня, самое ненормальное для меня состояние и вдобавок – один… А между тем все мне кажется, что я только что собираюсь жить. Смешно, не правда ли? Кошачья живучесть!..»








