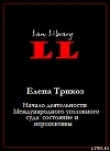Текст книги "Петр и Петр. Охотник за браконьерами"
Автор книги: Евгений Рысс
Жанр:
Прочие детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 36 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
Долгая ночь кончается неожиданно
Когда Гавриков, или Клятов, исчез, мы долго еще стояли у окна и смотрели на мертвую улицу. Дождь наконец перестал, но с крыш и деревьев продолжало капать. Где-то под половицами скреблась мышь. Старый дом был полон звуков. Что-то шуршало за обоями, тараканы или еще какая-нибудь нечисть. Иногда трещали доски. Дом гнил, рассыхался, растрескивался. Да, конечно, именно в таких старых домах зародилась легенда о домовых, злых или добрых, которые хозяйничают тогда, когда все в доме спит.
– Давайте, ребята, поспим немного,– пробормотал Юра сонным голосом.
Мы сели на кровать. Спать мне хотелось ужасно, прямо глаза слипались. Но, как только я начинал засыпать, кто-то словно толкал меня. Я открывал глаза и не сразу понимал, где я и что это за ужасная комната. Вспомнив все, я снова начинал засыпать. И снова будто кто-то меня будил. Я поднимал голову и озирался. Все было по-прежнему. Ничего, кажется, не случилось. Это тревога не оставляла меня в покое, это тревога не давала мне спать и будила меня. Тревожная явь мешалась с тревожными снами. Я видел во сне, как маленький кулак Гаврикова стремительно бил кого-то в лицо. По избитому лицу текла кровь. Слышалось мне во сне, что кто-то рыдал надрывно и горько. И снова метался я и приходил в себя и снова видел ту же комнату и слышал: храпят Анохины, скребется мышь, тараканы шуршат за обоями.
Один раз, проснувшись, я почувствовал: что-то изменилось. Я испуганно огляделся. Кто-то возился в углу, сидя на корточках. У меня заколотилось сердце. Не сразу я сообразил, что Сергея нет на кровати.
Было почти совсем темно. Только тусклый лунный свет, с трудом пробившись сквозь облака, еле проникал в комнату через пыльные стекла.
– Сережа,– шепотом позвал я.
– Тише,– также шепотом ответил человек, сидевший в углу на корточках.
Он выпрямился, и только теперь я разглядел, что это действительно был Сергей.
– Ты что? – шепотом спросил я.
– Иди сюда,– также шепотом сказал он.
Не знаю, почему мы оба говорили шепотом. Стариков разбудить было невозможно, а больше никто не мог нас услышать. Просто в той атмосфере, которой дышал этот дом, обоими нами владело ощущение, что надо таиться. Будто всякое слово, сказанное громко, могло быть услышано, могло вызвать к действию какие-то страшные, неведомые нам силы.
Я вскочил и подошел к Сергею. Сергей держал в руке скомканный листик бумаги. Он расправил его и вгляделся, стараясь прочесть написанные карандашом неразборчивые буквы.
– Понимаешь,– объяснил он шепотом,– я все соображаю, куда все-таки Петька мог уехать? Я подумал, может, сохранилась какая-нибудь запись? Осмотрел комнату, смотрю, в углу мусор. Под веником нашел бумажку. Тут что-то написано. У тебя спички есть?
Так же, как нельзя объяснить, почему мы говорили шепотом, непонятно и то, почему мы не зажгли электричество. Видно, здорово были у нас напряжены нервы. Видно, владело нами желание быть настороже, избежать какой-то нам самим непонятной угрозы.
Я зажег спичку. Сблизив головы, мы наклонились над бумажкой. Две буквы «К» были написаны наверху и подчеркнуты. Потом было написано «Новг» и стояла точка. Потом было написано подряд три буквы – «ВЛД», и потом, отдельно, через тире,– «р-н». Потом было написано «Едрово», и отдельно внизу: адрес Кости.
– Как Тоня его назвала? – спросил Сергей.
– Костя Коробейников,– сказал я,– КК, а Новг.– это, конечно, Новгородская область, это тоже она говорила.
– А Едрово? – спросил Сергей.
– По-моему, Радищев ехал через Едрово.
– Какой Радищев?
– Тот самый. «Путешествие из Петербурга в Москву».
– Тогда, может быть, ВЛД – Валдай?
– Может быть. Это, кажется, где-то близко.
Мы шептались, склонив друг к другу головы. Юра сладко посапывал во сне. Я вдруг подумал, что мы, точно малые дети, поддаемся влиянию старого дома, пустынной Ямы, по которой через год или два пролягут асфальтированные улицы и встанут рядами высокие современные дома. Чепуха какая-то!
– Почему мы говорим шепотом? – громко сказал я. Сергей ничего не ответил. Отвечать и не надо было.
Я и сам почувствовал, что спорь не спорь, а нормальный, громкий человеческий голос здесь звучит неестественно, нарушает тишину, свойственную этому пустынному, мертвому месту. Здесь было естественно говорить шепотом или, во всяком случае, приглушенно.
Очевидно, Сергей тоже чувствовал это. Он подумал и сказал по-прежнему шепотом:
– Надо, вероятно, лететь до Москвы. Может быть, оттуда есть прямой поезд до Новгорода.
– А может быть, лететь лучше до Ленинграда? – сказал я, снова вернувшись к шепоту.– Новгород – это где-то близко от Ленинграда.
Сергей вынул из кармана записную книжку и аккуратно вложил в нее кусочек бумаги с этим полушифрованным адресом.
– Давай вздремнем,– сказал я.– Надо хоть немного поспать.
Пока мы шептались, Юра, так и не проснувшись, спокойно раскинулся на кровати. Мы пытались его растолкать, чтобы объяснить ему, что на этой кровати должны спать трое, а не один, но разбудить его нам не удалось. Сережа взял его за ноги, а я за плечи, и мы, не особенно деликатничая, усадили его. Он никак на это не реагировал. Только пробормотал что-то, что, очевидно, относилось не к нам, а к каким-то людям, с которыми в это самое время он во сне вел какие-то разговоры. Минуты не прошло, и, примирившись с насилием, он продолжал спокойно посапывать.
– Здоров спать,– сказал Сергей, и мы с ним уселись па освободившиеся места.
И снова потянулась ночь. Снова я то задремывал, то просыпался и каждый раз, просыпаясь, видел, что становится светлее. Ночь перевалила за середину. Облака разошлись, и от этого быстрей светало. Я подумал, что если бы Яма была еще жива, наверное, сейчас начали бы перекликаться петухи. Но по-прежнему было тихо. Видно, ни одного петуха здесь уже не осталось. Все реже и реже падали капли. День обещал быть солнечным. Анохины поутихли. Старик, видно, повернулся на другой бок, и его не было слышно. Старуха еще посвистывала, но тоже будто потише. Вместе с полутьмой летней северной ночи рассеивалось то чувство тревоги и тайной опасности, которое заставляло нас с Сережей шептаться. Перестала скрестись мышь. Перестали шуршать за обоями тараканы. Я находился в старом доме, который скоро снесут, в районе, по которому скоро будут проложены новые улицы, который осветят высокие фонари с лампами дневного света. Ничего таинственного не было ни в районе, ни в доме. Ничего мрачного не предвещало потрескивание и покряхтывание дома, притихший храп стариков Анохиных. Плохо было, конечно, с Петром. Ну что ж, неужели мы трое, не приведем его в порядок?! Я стал думать о том, как мы его разыщем, объясним ему, что нечего от нас прятаться. Как привезем мы его в С, получит он комнату, ну, не сразу, хоть через год, через полтора, вызовет Тоню с Володькой, и тогда уже все вместе отпразднуем общий наш день рождения.
Так все это представлялось мне ясно, таким все это казалось мне благополучным, радостным и спокойным, что я наконец окончательно и крепко заснул.
И все-таки неспокойно я спал. Снились мне быстро сменявшие друг друга сны. Опухший, опустившийся Петька стоял, прижавшись к бетонным панелям, сложенным на пустыре. Володька прыгал в своем манежике. По мертвым улицам Ямы бегала черная кошка. Кто-то тряс меня за плечо. Много еще было разного, чего я и не помню. Но что бы я ни видел, какие бы разные, не связанные между собой представления ни менялись в этом бесконечно мелькающем сне, все пронизывала, через все проникала горькая, почти физически ощущаемая мною тоска.
И снова кто-то тряс меня за плечо. И почему-то я не хотел просыпаться. Я цеплялся за эти быстро сменявшиеся видения потому, что все надеялся увидеть что-то радостное, что непременно, я это хорошо знал, должно было мне представиться. И тогда, я это тоже знал, меня отпустит тоска и все станет хорошо.
Но меня неумолимо трясли за плечо. И, цепляясь за сон, я все-таки вынужден был с ним расстаться. Я открыл глаза и увидел, ничего еще не понимая, комнату, тускло освещенную солнцем, с трудом пробивавшимся через пыльное стекло, Сережу и Юру, стоявших с ничего не выражавшими лицами, и милиционера, наклонившегося надо мной. Это он, милиционер, настойчиво будил меня.
Я удивленно смотрел, не понимая, откуда и зачем он появился и какое он занимает место в быстро меняющемся потоке сновидений.
– Проснитесь, проснитесь, гражданин,– говорил милиционер.
И только услыша его голос, я понял: сновидения кончились, я уже в другом, реальном мире.
Я не знал, что произошло, но чувство тоски, преследовавшее меня во сне, с новой силой на меня навалилось.
– Ваши документы, гражданин,– сказал милиционер, который тряс меня за плечо.
Я достал бумажник. Вынул паспорт и военный билет, потом вытащил корреспондентское удостоверение и все это протянул милиционеру. Он не торопясь открыл паспорт, прочел первую страницу. Потом полистал, наверное, искал прописку, и все, что написано в штампе прописки, тоже прочел, с начала и до конца. Потом он так же внимательно просмотрел военный билет, потом прочел корреспондентское удостоверение и, ни к кому не обращаясь, сказал, что оно действительно по первое сентября. Я почувствовал себя виноватым, хотя великолепно знал, что здесь я не в газетной командировке и что продлить удостоверение мне ничего не стоит, да и редакция на любой запрос ответит, что действительно я штатный сотрудник газеты «Уралец». Но все же я чувствовал себя виноватым.
Да, это было бы несущественно в обычное время, но сейчас, в присутствии милиционера, эта ерунда приобретала важный смысл. Хотя милиционер не сделал из этого никаких выводов, а просто отметил для себя этот факт, мне стало перед ним неловко. Почему-то хотелось, чтобы все документы были в абсолютном порядке. Хотелось щегольнуть строгим соблюдением законов и правил. Чувство мое было схоже с чувством человека, переходящего перекресток под внимательным взглядом постового. Такой прохожий обычно не просто переходит улицу, а переходит ее, можно сказать, показательно. Он смотрит сначала налево, потом, как написано на плакатах, направо и идет совершенно прямо, ни на шаг не отступая от впаянных в асфальт бляшек, всем видом своим показывая, что он точно выполняет установления и может считаться не просто пешеходом, но пешеходом в некотором смысле образцовым.
Впрочем, милиционер, повторяю, не придал значения тому, что удостоверение просрочено, и молча вернул мне документы.
Кроме Сергея и Юры, кроме того милиционера, который тряс меня за плечо, есть еще в комнате второй милиционер, стоящий у двери, и человек в синем костюме, который почему-то держит в руках мой портфель.
– Покажите, что в вашем портфеле,– говорит этот человек.
То ли застежки почему-то заело, то ли у меня дрожат руки, но я никак не могу его открыть. Я понимаю, что это ужасно. Могут подумать, что я нарочно. Что я спекулянт или грабитель, что портфель набит бриллиантами.
Я волнуюсь. Все сильнее дрожат руки, и вдруг… он наконец открылся. Я достаю трусы, рубашку, электробритву, блокнот, который по привычке я взял с собой. Человек в синем костюме перелистывает блокнот и тщательно осматривает с двух сторон каждый листок. Я не тороплю его. Теперь в портфеле осталась только проклятая бутылка водки, приготовленная, чтобы соблазнять старуху, если она нас не пустит в дом.
Сгорая от стыда, я вытаскиваю эту бутылку, но человек в синем костюме не обращает, кажется, на нее внимания. Он возвращает мне все обратно. Я складываю имущество; оно как будто разбухло и не влезает. Я впихиваю его кое-как. Теперь портфель не хочет закрываться, но моя собранность и воля побеждают его упрямство. Застежки щелкают, и я успокаиваюсь.
Во всем происходящем, в сущности говоря, нет ничего страшного. Естественно, что Яма, из которой выселены почти все жители, может служить местом, где скрываются темные люди. Да и у стариков Анохиных – я только теперь расслышал, что храп в их комнате прекратился,– вряд ли безупречная репутация. Стало быть, совершенно естественно, что милиция держит всю Яму, и в частности этот дом, под наблюдением. Я начал понимать, что дело не так просто, только тогда, когда человек в синем костюме сказал ничего не выражавшим голосом:
– Мы, товарищи, сейчас с вами проедем в городское управление милиции. Наши работники хотят с вами побеседовать.
Право же, ни в чем не был я виноват. Право же, отлично я понимал, что ничего плохого с нами тремя произойти не может. И все-таки мне стало неприятно и захотелось оправдываться. Не в чем-нибудь определенном, потому что вины за собой я никакой не знал, а вообще оправдываться. Доказывать, что я точно соблюдаю законы и заслуживаю полного доверия. Тут же мне стало смешно. Я подумал, что похож на того хорошего мальчика в классе, который держит руки на парте, на виду, для того чтобы учитель не подумал, что это он пустил в товарища шарик из бумаги, который на самом деле пустил другой, гадкий, мальчик.
Я глупо и жизнерадостно улыбнулся и, страшно смутившись, пробормотал что-то вроде того, что и мы с этими товарищами с удовольствием побеседуем. Человек в синем пиджаке посмотрел на меня с удивлением, но ничего не сказал и только рукой указал на дверь.
Взяв свои портфели, мы все трое гуськом вышли из комнаты. В коридоре стоял еще один милиционер, и я подумал: что-то слишком много народу для обычной проверки документов. В сенях был тоже милиционер. А когда мы вышли на крыльцо, то увидели, что перед домом стоит закрытая милицейская машина, известная во всех городах страны под выразительным названием «раковая шейка».
Оставшиеся еще в Яме жители собрались возле этой машины. Тут была женщина, которая попалась нам навстречу с пустыми ведрами, и какой-то старик, весьма благообразный, смотревший на нас с осуждением, предполагая, по-видимому, что мы являемся крупной межобластной шайкой мошенников, пойманной наконец милицией, и портфели носим только для того, чтобы внушать честным людям доверие.
Еще человек пять стояли вокруг. Я их не разглядел. Я и в самом деле чувствовал себя мошенником и старался не встречаться с осуждающими взглядами честных советских людей. Мы погрузились в «раковую шейку». Тут уже сидели, очевидно разбуженные раньше нас, старики Анохины. Старик не обратил на нас никакого внимания, а старуха улыбнулась ласковой, сладкой улыбкой, стараясь, видно, показать, что мы старые знакомые и прекрасно друг друга знаем. С нами сел и милиционер, который молчал всю дорогу. Мы все тоже молчали. Я не знаю, полагается ли разговаривать между собой подозрсваемым людям, но так как мы, очевидно, были подозреваемыми, то на всякий случай молчали, чтобы как-нибудь не нарушить правила.
Глава девятая
Разговоры в милиции
Мы въезжаем во двор серого кирпичного дома. Я в первый раз в жизни чувствую себя преступником. Не могу сказать, что это приятное чувство. Я, конечно, знаю, что не крал и не убивал, но почему-то мне вспоминаются все судебные ошибки, о которых я слышал. Действительно, застали нас в каком-то темном месте. Я стараюсь взглянуть на обстоятельства дела глазами следователя и сам себе представляюсь субъектом очень подозрительным. Ну и что же, рассуждаю я, что меня никогда еще не привлекали к суду. Все преступники когда-нибудь совершали преступление в первый раз. Я, правда, начал довольно поздно. Может быть, у меня замедленное развитие, и поэтому я вступил на путь преступности позже, чем большинство. Я гоню от себя эти мысли. Я издеваюсь сам над собой. Я убеждаю себя, что, конечно, внимательный и чуткий следователь – а судя по литературе, они все внимательные и чуткие – без труда разберется в деле, отделит овец от козлищ и меня, невинную овцу, торжественно отправит домой, пожелав успеха в труде и личной жизни.
И все-таки настроение у меня преотвратительное. И веду я себя почему-то именно так, как ведут себя самые что ни на есть опытные преступники.
То я чувствую, что у меня вид оскорбленной невинности, и понимаю, что как раз такой вид принимают при задержании настоящие грабители и убийцы. То появляется у меня на лице улыбка, которой мог улыбнуться честный газетчик, задержанный по ошибке и знающий, что ему ничего не стоит доказать свою невиновность. Я тут же соображаю, что у этого газетчика была бы именно такая улыбка, даже если бы он только что зарезал целую семью. Лицо мое как-то инстинктивно, независимо, кажется, от моего сознания, принимает самые разнообразные выражения, а мое сознание сразу бракует их как явно подозрительные. Поэтому, если посмотреть со стороны, лицо мое непрерывно меняется, как будто у меня очень сложный нервный тик. Я понимаю, что этот «ряд волшебных изменений» очень подозрителен, но ничего не могу с собой сделать.
Так, непрерывно изменяясь, я и вхожу в кабинет следователя. Сергея и Юру уводят куда-то в другое место – мне не видно куда. Я знаю по литературе, что следователь должен мне сейчас предложить папиросу, и торопливо соображаю, что будет менее подозрительно: если я закурю или если поблагодарю и откажусь. Но следователь почему-то не предлагает папиросы, что очень странно, потому что противоречит накопленному за многие годы опыту советской детективной литературы.
Стариков Анохиных отделили от нас еще в коридоре и увели в какой-то другой кабинет. Это меня обрадовало. Очевидно, подумал я, уже разобрались, что мы не такие подонки, как они, и замешались в эту историю случайно. Потом я с ужасом вспоминаю про бутылку водки и стремительно лечу в бездну отчаяния. Ясно, что в глазах следователя я выгляжу алкоголиком, приготовившим наутро опохмелку. Где алкоголизм, там и преступление, с горечью думаю я.
За письменным столом сидит человек в милицейской форме с лейтенантскими погонами. Он опять проверяет мои документы, расспрашивает меня, как я и мои друзья оказались у Анохиных, давно ли мы знаем Петю, почему мы к нему приехали и почему, не застав его, все-таки у него остались?
Он слушает меня и заполняет протокол допроса.
То, что каждое мое слово записывается, заставляет предполагать, что дело серьезное. Мне не положено спрашивать лейтенанта – это я понимаю, но меня мучает мысль, что же такое произошло. Я перебираю в голове всякие возможности: поножовщину, хулиганство, даже убийство в драке, и все-таки то, что нам сообщают потом, когда допрос уже кончен, оказывается страшней моих самых страшных предположений.
Я рассказываю и о детском доме, и об Афанасии Семеновиче, и об экзаменах, и о девяти годах, и о 7 сентября. Я рассказываю о Петином письме и о том, как старуха нам его не передала, а старик продал за четвертинку. Письмо интересует лейтенанта милиции. Оно у меня, и я охотно его показываю. Лейтенант милиции нажимает на кнопку звонка, входит рядовой милиционер и уносит Петино письмо. Я начинаю волноваться и говорю, что это письмо нашего друга и мы хотим его сохранить. Лейтенант успокаивает меня и говорит, что нам письмо отдадут.
Потом лейтенант спрашивает:
– Скажите, а что, по-вашему, Груздев имеет в виду, когда пишет, что телеграмма пришла как раз в тот момент, когда он решился потерять остатки совести?
Я смотрю на лейтенанта и моргаю глазами. Честно сказать, меня этот вопрос ошарашивает.
– Не знаю,– говорю я,– мы на это не обратили внимания.
Мысли у меня в голове начинают вертеться с невероятной быстротой. «Остатки совести»,– думаю я. Может быть, действительно имеется в виду преступление. А может быть, все гораздо проще и речь идет о какой-нибудь ерунде. Например, он собирался попросить у Тони денег, зная, что не отдаст.
Я долго молчу. Лейтенант меня не торопит.
– Но ведь он пишет,– наконец говорю я,– что опомнился благодаря телеграмме.
– Да,– соглашается лейтенант,– но все-таки как же он собирался потерять остатки совести?
И опять я молчу. Я просто не могу понять, почему мы не придали значения этой фразе? Может быть, потому, что были слишком оглушены всем содержанием письма? Может быть, потому, что знали Петю и не могли подозревать его в преступлении? Все-таки опуститься и пьянствовать – это одно, а стать преступником – это совсем другое. Но почему я, собственно, думаю, что Петька стал преступником? Какие у меня основания? Может быть, за домом Анохиных следили по совершенно другим причинам. Старуха, может быть, сбывала краденое или спекулировала. А Петька просто уехал в Клягино, к Афанасию Семеновичу.
Наконец, я говорю решительно, что ничего не могу предположить насчет этой фразы и что смысл ее мне неясен.
Лейтенант молча записывает мое показание, потом достает пачку фотографий и раскладывает их по столу.
– Посмотрите, пожалуйста, эти фотографии,– говорит он.
Я склоняюсь над столом. На всех фотографиях молодые парни. Лица очень разные. Один с какими-то дурацкими баками необычайной формы. У другого тонкие усики на верхней губе.
.– Знакомого вам человека здесь нет? – спрашивает лейтенант.
Одно лицо мне кажется знакомым. Это парень с тонкими губами, с остреньким носиком, с маленькими светлыми глазами.
Я показываю на эту фотографию.
– Вот Гавриков,– говорю я,– он вчера вечером приходил.
– Гавриков? – спрашивает лейтенант.
– Может быть, Клятов,– говорю я.
– А почему вы думаете, что он Гавриков или что он Клятов?
Я рассказываю о вчерашнем визите этого парня, о том, как он назвал себя Гавриковым и как мы подумали, что, может быть, на самом деле он Клятов, потому что старик Анохин сказал нам, что днем раньше Петя занял у какого-то Клятова деньги и заплатил за комнату.
– Сколько денег взял Груздев у Клятова, не знаете?-спрашивает лейтенант.
Я знаю только, что за комнату Петя отдал двадцать рублей. А сколько вообще взял, понятия не имею.
И тут я произношу убедительную речь в защиту Пети. Я начинаю спокойно. Я говорю, что, может быть, Петя связался с очень плохими людьми. Нам вчера этот Гавриков, или Клятов, очень не понравился. Может быть, среди его приятелей были и уголовники. Но я, да и мы все трое, знаем Петю с детства и готовы за него поручиться. Пусть он человек слабый. Может быть, он стал пьяницей, но преступником он стать не мог. Дальше я ссылаюсь на Петино письмо. Разве такое письмо преступник мог бы написать? Чепуха! Человек мучается оттого, что опустился. Стесняется показаться своим друзьям. Значит, он не только не потерял совести, а, наоборот, совесть его мучает все время. Наконец, он, правда, пишет, что решился потерять остатки совести, по тут же пишет, что вовремя опомнился.
– А куда он мог уехать? – спрашивает лейтенант милиции.
И по тону его должно быть ясно, что это совершенно неважно и спрашивает он об этом просто так, потому что к слову пришлось.
И сразу я понимаю: это, наоборот, очень важно. Поэтому нас и привезли сюда. Поэтому с нами и разговаривают и тратят на нас время, которого, видимо, сейчас немного у этого лейтенанта и у его товарищей.
– Мы сами все время об этом думаем,– говорю я.– Нам обязательно нужно его найти. Мы вчера позвонили в С, чтоб нам дали отпуск и выслали деньги. Мы хотим поехать к нему. Понимаете, ему нужно вернуть веру в себя. А то что же это такое: человек раскис, считает, что все для него потеряно…
– И куда же вы думаете ехать к нему? – спрашивает совсем равнодушно лейтенант милиции.– Раз вы взяли отпуск и деньги выписали, значит, вы знаете куда?
– В Клягино, к Афанасию Семеновичу,– говорю я,– по-моему, больше ему ехать некуда.
Лейтенант долго пишет. Я прошу разрешения закурить. Разрешение получаю и курю с таким видом, будто меня совсем не занимает, что пишет лейтенант.
Наконец лейтенант, дописав протокол до конца, дает мне прочесть его.
Я читаю внимательно. Да, все точно так, как я говорил, но в то же время не совсем так. Факты точны, а что-то ушло и пропало. Я понимаю, что не в силах никакой протокол передать мою уверенность в том, что не мог Петька совершить преступление. Если и была пьяная драка, то, конечно, надо его наказать, но наказать, помня, что он человек хороший, что он только споткнулся и обязательно станет на ноги.
Но факты изложены точно. Спорить не о чем. Я подписываю протокол в тех местах, которые указывает лейтенант, и думаю, что, поскольку допрос, по-видимому, окончен, я имею право спросить, что совершил Петька, в чем, собственно, его обвиняют.
Но лейтенант встает и говорит:
– Пойдемте со мной.
Мы идем по коридору, и я вижу, что из комнаты в конце коридора выходит другой лейтенант и с ним Юра, у которого недоступно строгий вид и очень серьезные, даже испуганные глаза. Мы проходим друг мимо друга, делая вид, что друг друга в первый раз видим. Почему мы считаем нужным скрывать наши отношения, я не знаю. Вероятно, исходя из предположения, что здесь, в милиции, существуют какие-то особенные правила поведения. Так как эти правила вам неизвестны, то лучше не делать ничего сверх того, что наверняка позволено.
Итак, мы расходимся с каменными лицами, и я даже не решаюсь оглянуться и посмотреть, куда пошел Юра со своим лейтенантом. Впрочем, я и не успел бы это, наверное, сделать. Мой лейтенант открывает дверь той самой комнаты, из которой только что вышел Юра, и просит меня зайти. Я захожу. Лейтенант тоже заходит и закрывает дверь.
В комнате письменный стол, сидит еще один лейтенант, но не за письменным столом, а на стуле у стенки. На двух других стульях рядом с ним сидят мужчина в штатском и женщина… Про женщину как-то неудобно сказать «в штатском». Какая-то женщина в обыкновенном черном пальто.
Мой лейтенант садится за стол. Я сажусь с другой стороны стола, не понимая, что тут будет происходить. Лейтенант опять достает бланки допроса и начинает снова спрашивать мое имя, отчество, фамилию, год рождения, место работы…
– Вы же меня спрашивали об этом! – говорю я, возмущенный этим проявлением, с моей точки зрения, бюрократизма.
Лейтенант объясняет, что следует все это повторить для понятых. Я соображаю, что мужчина и женщина, сидящие в стороне,– это и есть понятые, и начинаю добросовестно отвечать на вопросы.
Итак, я повторяю снова свои анкетные данные. Закончив записывать их, лейтенант достает из ящика стола и показывает мне зажигалку.
– Скажите,– спрашивает лейтенант,– вам эта зажигалка знакома?
Изображенный на зажигалке человек целится в кого-то из пистолета. Лейтенант то поднимает ее вертикально, то опускает в горизонтальное положение. Лицо человека то закрывает черная маска, то маска исчезает.
– Это Петькина зажигалка! – радостно говорю я.
– Петра Груздева? – переспрашивает лейтенант.
– Да, да, да,– подтверждаю я и рассказываю, как мы подарили эту зажигалку Петьке девять лет назад, когда провожали его сюда, в этот город, когда, казалось, все складывается прекрасно и всем предстоит счастливая судьба, и ничего страшного будущее не сулит, а сулит только счастье, только успехи, только вечную дружбу…
Казалось бы, сейчас радоваться нечему. По крайней мере, одного из нас судьба обманула. Но эта зажигалка возвращает меня в прошлое, и мне снова кажется, что мы еще только открываем чистую книгу жизни, не испорченную горестными и стыдными записями.
Потом я замолкаю. Я вспоминаю о том, что у нашего друга Петьки стыдных и горестных записей очень много, что, вероятно, плохие дела натворил он, если меня так подробно допрашивают, если быстро бежит по бумаге перо лейтенанта, записывая каждый мой ответ.
Потом я читаю протокол и расписываюсь на каждой странице, потом читает протокол женщина и тоже расписывается. Наконец, последним расписывается мужчина, и на этом дело кончается. Мы с лейтенантом выходим. Навстречу нам идет по коридору Сережа с тем лейтенантом, с которым недавно шел Юра. Мы с Сережей тоже делаем вид, что первый раз в жизни встретились друг с другом. Мой лейтенант подводит меня к скамейке, на которой сидит Юра, просит подождать и уходит в дверь напротив.
Мы с Юрой сидим и даже не смотрим друг на друга, чтобы не нарушить какие-нибудь правила. Потом я решаю, что раз нас посадили рядом и оставили одних, значит, имели в виду возможность, что мы поговорим друг с другом.
– О чем тебя спрашивали? – начинаю я разговор, но Юра смотрит на меня зверскими глазами, и я понимаю, что он считает мой вопрос серьезным нарушением закона.
Я замолкаю. Мне очень хочется курить, но не у кого спросить, можно ли курить в коридоре.
В это время открывается дверь, и в коридор выходит Тоня. У нее очень испуганные глаза. Она смотрит на нас и, кажется, не узнает. Мы оба встаем. Только тогда она вспоминает, кто мы такие, торопливо подходит к нам и, не здороваясь, говорит приглушенно и быстро:
– Не верьте, ничему не верьте! Этого быть не может. Я ручаюсь, что этого не было!
Мы стоим растерянные, не зная, чему мы не должны верить.
Тоня быстро идет дальше по коридору, не попрощавшись с нами, ничего нам не объяснив. Я смотрю ей вслед и вижу, что она сутулится, что она как-то неровно идет. У меня мелькает мысль: не упала бы она. Но она скрывается за поворотом коридора.
Наконец в другом конце коридора появляется Сергей с бывшим Юриным лейтенантом. Теперь уже, очевидно, это лейтенант Сережин. Они доходят до нашей скамейки, и Юрин-Сережин лейтенант говорит:
– Вас хочет видеть начальник, пройдемте к нему. Начальник сидит, оказывается, в том самом кабинете, из которого вышла Тоня.
Это майор милиции. Мы быстро поднимаемся по лестнице званий! Он просит нас сесть. Долго смотрит на нас и говорит:
– Я хочу ввести вас в курс дела: ночью сегодня ограблена квартира инженера Никитушкина. Это очень уважаемый в городе человек. Он здесь проработал больше тридцати лет. Теперь он на пенсии. Его жена пыталась позвать на помощь. Они живут в отдельном домике за городом. Грабители убили ее. Инженер Никитушкин в тяжелом состоянии в больнице. В одном из грабителей он опознал Клятова. Того самого, который вчера приходил к Груздеву. Лица второго грабителя он не разглядел. Есть серьезные основания предполагать, что вторым был ваш друг Груздев Петр Семенович. Тем более, что на месте преступления найдена зажигалка, которую вы опознали, подтвердив, что она принадлежит Петру Груздеву. Добавлю, что скрылись оба: и Клятов, и второй, может быть Груздев.
Мы сидим ошеломленные. Все можно было предполагать. Но предположить, что Петька убийца,– совершенно невозможно. Не знаю, как Юра и Сергей, но я даже ни о чем не думаю. У меня в голове пляшет дикий хоровод мыслей. Майор, нагнувшись к нам, говорит очень серьезно и значительно:
– Вы ничего не можете добавить к вашим показаниям?
Я смотрю на Сергея. Сергей, помолчав, пожимает плечами. Юра, кажется, совершенно растерялся. Пожимаю плечами и я.
После этого нам отдают Петино письмо – его, очевидно, сфотографировали – и отпускают нас.