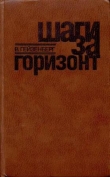Текст книги "Вернер Гейзенберг: трагедия ученого"
Автор книги: Евгений Фейнберг
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 3 страниц)
ПРИХОД ГИТЛЕРА К ВЛАСТИ
Среда, в которой Гейзенберг жил, уже отнюдь не была тем сообществом, которое существовало до прихода Гитлера к власти, – международным сообществом ученых, преданных науке, творивших новую науку, свободно и дружески общавшихся. Политический, идеологический раскол мира вызвал и раскол в мире ученых.
Вспоминая о «хаосе последних лет войны», Гейзенберг пишет, что радовавших его впечатлений было не много. Одно из них стало частью того фундамента, на котором впоследствии основывалось его отношение к общим политическим вопросам. Эту радость давали ему еженедельные собрания по средам, на которых встречались, музицировали, обсуждали различные темы глава антигитлеровского заговора генерал Бек, священник Попиц, известный хирург Зауэр– брух, посол фон Хассель, посол Германии в Москве до войны, вручивший 22 июня 1941 года Советскому правительству ноту о начале гитлеровской агрессии граф Шуленбург и другие. Эрнст Генри говорит, что Шуленбург был «консерватор и националист, но не фашист». За две недели до нападения гитлеровской Германии он предупредил о нем советских дипломатов, в частности посла СССР Деканозова, то есть, по существу, совершил акт государственной измены.
В июле 1944 года, по дороге из Берлина в Мюнхен, Гейзенберг узнал о неудачном покушении на жизнь Гитлера, казни Бека и аресте нескольких из тех, с кем он встречался по средам.
Гейзенберг – немецкий националист, и его отношение к гитлеризму не могло быть однозначным. С одной стороны, он, конечно, испытывал отвращение к зверствам нацизма, к его варварской идеологии, возмущался подавлением интеллигенции и свободной мысли, тупостью и жестокостью больших и малых фюреров. Но, подобно миллионам своих соотечественников, он не мог не видеть, что с приходом Гитлера к власти закончился многолетний период порожденного непрекращающейся безработицей отчаяния немецкого народа. Пособие по безработице, малое само по себе, выдавалось ограниченное время, а потом человек мог рассчитывать только на общественную благотворительность, эквивалентную 1,75 доллара в неделю. Таких было полтора миллиона. Страну угнетали массовый голод и бесперспективность, экономическое и моральное унижение Версальского договора.
С 1929 по 1932 год Германия металась в поисках выхода. Найти его обещали и нацисты, и сильная коммунистическая партия. Между этими полюсами были еще и социал–демократы, более многочисленные, чем коммунисты, и президент Гинденбург, и магнаты капитала – националисты старопрусского типа. Все они имели массовые военизированные организации: у нацистов – штурмовики, у коммунистов – Рот–фронт, у социал–демократов – шуцбунд, у националистов – Стальной шлем.
США и другие западные страны с беспокойством следили за развитием событий. Дело было не только в том, что, как писал американский журналист Никербокер, из–за предоставленных Германии займов «каждый американский гражданин – мужчина, женщина, ребенок – непосредственно заинтересован в судьбе Германии в сумме 33 доллара». Гораздо важнее было то, что, как писал тот же Никербокер, коммунистическая Германия означает появление Красной Армии на Рейне.
Возникновение коммунистической Германии было вполне реально. В одном Берлине, где уже в 1930 году насчитывалось полмиллиона безработных, за коммунистов голосовали 739 235 человек (за социал–демократов – 738 094), а за национал–социалистов почти вдвое меньше – 395 988. Разница, грубо говоря, определялась тем, что «коммунисты – это те, кто никогда ничего не имел, а национал–социалисты – это те, кто кое–что имел, но потерял все», но жизнь была невыносима и для тех, и для других.
Никербокер в 1931 году объездил всю Германию, беседовал с представителями всех партий, и выраженные в его книге опасения вполне обоснованны. Еще в двадцатые годы на праздничных демонстрациях в Москве можно было видеть лозунг «Советский серп и немецкий молот объединят весь мир». Провозглашали этот лозунг и коммунисты в Германии, знали о нем в США. В 20‑е и даже в 30‑е годы многие наши комсомольцы и вообще молодые люди комсомольского возраста носили «юнгштурмовки» – рубашку цвета хаки с открытым воротом, подпоясанную кожаным ремнем, и такого же цвета брюки или юбку; через плечо – кожаная портупея. Это была форма немецкого Союза красных фронтовиков – коммунистической организации самообороны, которую возглавлял руководитель Коммунистической партии Германии Эрнст Тельман. Лозунг «Красный флаг от Владивостока до Рейна» звучал на коммунистических митингах и в самой Германии.
Однако в развитие событий неожиданно вмешался мощный внешний фактор – все то, что происходило в Советском Союзе. Сплошная коллективизация со всеми ее ужасами. Невероятные усилия, даже жертвы, которых потребовала так и не выполненная первая пятилетка. Понадобилось свалить на кого–то вину за беспорядок в промышленности, строительстве и на транспорте. Стали искать «вредителей», в частности среди технической интеллигенции. До революции русские инженеры считались едва ли не лучшими в мире – их ценили наравне с бельгийскими. Были и более детальные оценки; лучшие конструкторы – бельгийцы, русские, французы; лучшие технологи – немцы; лучшие путейцы, вне сомнения, – выпускники Петербургского института путей сообщения. Не случайно именно они строили Великий сибирский путь и всю обширную сеть железных дорог. Не случайно после гибели русского военного флота под Цусимой за какие–нибудь десять лет – к первой мировой войне – был создай новый, весьма современный флот. Выдающиеся инженеры многое сделали для возрождения индустрии после гражданской войны. Достаточно назвать автора проекта Днепрогэса И. Г. Александрова, строителя ВолховГЭС Г. О. Графтио, В. Г. Шухова, Б. О. Патона, кораблестроителя А. Н. Крылова – они не пострадали, но сколько замечательных инженеров попало в разряд «вредителей» и было безвинно уничтожено!
Газеты были заполнены отчетами о судебных процессах, на которых обвиняемые признавались в чудовищно неправдоподобных преступлениях.
Все это не могло быть тайной для внешнего мира. Страна тогда вообще была довольно открыта для иностранцев. Зарубежные журналисты ездили повсюду. В связи с индустриализацией, закупками за границей машин и оборудования на стройках и заводах работало множество иностранных специалистов и квалифицированных рабочих, и среди них значительное количество немцев. Иностранные специалисты находились на особом снабжении, однако не могли не видеть, как резко понизился уровень жизни советских людей, не знать о голоде. Одна из немецких газет, например, поместила карикатуру: русский мужик в штанах, сшитых из капустных листьев: подпись – «Колхозы» («Kohlhosen»; игра слов: Kohl – капуста, Hosen – штаны).
Особенно осведомлены обо всем происходившем у нас были именно в Германии. И это важно подчеркнуть.
Во–первых, после подписания Раппальского договора (1922 год), прорвавшего блокаду Советской России и принесшего большую выгоду обеим сторонам, широко развились экономические и другие виды сотрудничества двух стран, связанные с длительным проживанием в нашей стране значительных контингентов немецких граждан.
Во–вторых, и это, пожалуй, даже важнее, в России еще со времен Екатерины II, зазывавшей немецких крестьян в Россию и щедро наделявшей их плодородными землями, были весьма процветавшие чисто немецкие села, «колонии», как их называли даже в советское время, со школами на родном языке и т. п., особенно многочисленные на Украине, в Крыму, в Поволжье. С 1924 по 1941 год на левобережье Волги существовала Автономная Республика Немцев Поволжья (столица – город Энгельс) с населением 600 тысяч человек, из них 64 процента – немцы.
Коллективизация, «раскулачивание», разорение, высылка никого, разумеется, не обошли. В Германии под лозунгом «Братья в нужде» развернулась шумная кампания в защиту советских немцев. Московские газеты, конечно, давали отпор «лживой антисоветской провокации». Но антисоветская и антикоммунистическая кампания на этой основе в Германии продолжалась. В частности, проводился сбор денег и продовольствия для немцев в СССР. Западногерманский историк К. Никлаусс в своей книге «Советский Союз и захват власти Гитлером» описывает кризис 1929–1931 годов во взаимоотношениях двух государств, вызванный внутренней политикой Сталина и делавший для германского правительства невозможным продолжение курса Рапалло. Представители германского правительства во время многочисленных встреч с советским послом Н. Н. Крестинским, а также немецкий посол в Москве Дирксен при встречах с наркомом иностранных дел М. М. Литвиновым заявляли, что коллективизация и поход против религии (закрытие церквей, преследование духовенства, запрещение колокольного звона в городах) вызвали в Германии возмущение общественного мнения, которое особенно связывало все происходившее с судьбой немецких «колонистов». Поток протестов, адресованных немецкому правительству и президенту республики, антисоветская кампания в прессе делали трудным положение правительства в рейхстаге,
Сложно ли было в этих условиях убедить крестьянство и другие промежуточные и колеблющиеся слои населения Германии, что не от социалистической России, не от коммунистов надо ждать спасения?
Не только то, что происходило в СССР в эти критические годы, толкало значительные массы немецкого народа к другому полюсу. В решающий исторический момент немецкие коммунисты оказались в изоляции. Сталин называл социал–демократов не иначе, как социал–фашистами, любое сотрудничество с ними считалось предательством. Эта позиция стала изменяться лишь незадолго до того, как в 1936 году «Народный фронт против фашизма и войны» пришел во Франции к власти и преградил там дорогу фашизму: Сталин, а следовательно, и Коминтерн признали необходимость сотрудничества со всеми левыми силами. Однако в Германии единый фронт и в то время создан не был.
В результате всего этого немецкий народ, давший миру великих ученых, писателей, художников, религиозных деятелей, философов, основателей научного социализма, сделал выбор в пользу Гитлера.
Этот народ жил в условиях безработицы и голода, испытывал не только физические страдания, но и унижение. Талантливые головы и умелые руки, способные справиться с любой работой, были обречены на бездействие, не могли спасти голодных детей. Все это не могло не вести к всеобщему озлоблению. Вопрос был только в одном: перерастет ли оно в святую злобу, которую, по словам Александра Блока, вел за собой Христос, или же в троглодитскую злобу «сверхчеловеков», вдохновляемую фюрером на создание освенцимов и душегубок? Именно внешние причины покончили с колебаниями – выбор был сделан.
Гитлер варварски подавил культуру, уничтожил миллионы немцев и десятки миллионов людей в завоеванных им странах. Гитлеризм с его жестокостью, бесчеловечностью и коварством – один из самых отвратительных режимов во всей истории. Это несомненно. Тогда почему уже после первого периода жестокого владычества Гитлера немецкий народ в своей массе с надеждой преданно смотрел на него, почему матерй в умилении протягивали к нему детей, почему люди готовы были умереть за него?
Разумеется, дело в том, что он вывел немцев из состояния отчаяния, безысходности, избавил от голода. Все получили работу, с унижением и тяготами Версальского договора было покончено, когда Гитлер разорвал его, ввел войска в Рейнскую область и начал усиленно вооружаться. У молодежи появилась хоть и гнусная, но все Же цель – Поработить другие народы. Гитлер сделал то, что не смогли сделать либералы и социал–демократы с их Веймарской республикой, чего же жалеть, когда гестапо уничтожает их, а тем более коммунистов и евреев?
Гитлер, конечно, получал в той или иной форме помощь от западных капиталистических стран. Более того, достаточно было одной французской дивизии, чтобы заставить его отступить, когда он ввел войска в Рейнскую область. Никто не помешал ему вооружаться, быть может, из опасения, что это вызовет выступление немецкого народа в его защиту.
Огромна вина Сталина перед человечеством. Своей внутренней политикой и изоляцией Компартии Германии от других левых сил он объективно открыл Гитлеру путь к власти, подтолкнул к нему немецкий народ и тем самым впоследствии привел к войне.
Что же удивляться, если и массы немецкого народа, и националисты вроде Гейзенберга посчитали, что новый режим способен осуществить национальную задачу огромного значения. Они старались закрыть глаза на ужасы нацизма, не прислушиваться к сообщениям о концентрационных лагерях; им хотелось верить, что все это, как и сама варварская идеология нацистских вождей, временно, что это неизбежный «накладной расход»: «лес рубят – щепки летят», и по мере достижения всего необходимого нации «негативные явления» будут ослабевать и в конце концов исчезнут.
Такая позиция характерна и для интеллектуалов, и для народных масс при любой диктатуре, использующей для осуществления крупных национальных задач безжалостные, бесчеловечные методы.
Не потому ли и наш народ терпел жестокость и преступления Сталина, что находил им оправдание в решении важнейшей национальной задачи – превращении относительно отсталой огромной страны в современную и сильную индустриальную державу? В обоих случаях на долю умелой пропаганды и демагогии оставалось убедить людей в том, что другого пути к решению великой задачи нет. К примеру, в СССР‑де нельзя было придерживаться тезиса Ленина о том, что для победы социализма нам необходимы лишь десять – двадцать лет правильных взаимоотношений с крестьянством. Нужен был, конечно, еще и могучий, всепроникающий карательный аппарат. Но ведь еще Макиавелли в трактате «Государь» писал: «Государь должен внушать страх таким образом, чтобы если не заслужить любовь, то избежать ненависти, потому что вполне возможно устрашать и в то же время не стать ненавистным».
Конечно, и для Гейзенберга, и для подавляющего большинства других националистически настроенных интеллектуалов все было не так просто. Неудивительно, что он все время колебался И в разное время высказывал разные взгляды.
Неудивительно и то, что люди, жившие в то время в совершенно других условиях – в США, Англии, Дании и т. п. – в странах, где не стояло другой большой национальной задачи, кроме спасения от гитлеровской агрессии, – охваченные ненавистью к нацизму, не могли понять Гейзенберга и подобных ему.
Физики, особенно западные, с которыми я говорил о Гейзенберге, зачастую осуждали его: он слишком тесно сотрудничал с властями, ему нравилась роль «первого физика», официальные письма он, как полагалось, завершал словами «Хайль Гитлер!» и вообще при встречах произносил гитлеровское приветствие.
Трудно судить, что значит «слишком тесно сотрудничал». В немецком урановом проекте принимал участие и такой человек, как Лауэ. Гейзенберг, Вейцзеккер, их друг и сотрудник Вирц не были членами нацистской партии. Конечно, это можно считать формальным обстоятельством. Ведь Иенсен состоял в партии, но, по–видимому, был далек от исповедания нацизма. А на Гейзенберга обрушивались свирепые атаки ПО идеологической линии, и он противостоял им бескомпромиссно.
Что касается гитлеровского приветствия, то оно было обязательным. Гейзенберг утешал себя тем, что писать официальные письма ему приходится очень редко. Устное приветствие Имело особое значение только вначале. П. П. Эвальд приводит красочный эпизод (цитирую по книге Бейерхена): «Планк как президент Общества кайзера Вильгельма… прибыл на открытие Института металлов… в Штутгарте. Он должен был произнести речь (это, по– видимому, было в 1934 году), и мы смотрели на Планка, ожидая, как он справится с процедурой открытия, поскольку к этому времени было уже официально предписано такую речь начинать словами «Хайль Гитлер!»….Планк стоял на возвышении. Он поднял немного руку, но опустил ее. Он сделал это еще раз. Затем наконец рука пошла вверх, и он сказал: «Хайль Гитлер!». Ретроспективно мы понимаем: это было единственное, что можно было сделать, если не желать поставить под угрозу существование всего Общества кайзера Вильгельма» (это основанное в 1911 году общество объединяло обширную сеть исследовательских институтов, субсидировали его правительство и частный капитал).
С течением времени это приветствие превратилось в чистую формальность: небрежный взмах руки, который всем известен по кинофильмам, и скороговоркой – два кабалистических слова. Во всяком случае, участие в собраниях и митингах с аплодисментами, переходящими в овацию при каждом упоминании магического, обожествляемого имени, значило не меньше, поскольку здесь действительно возникало массовое чувство преклонения, восхищения, умиления и преданности.
По–видимому, в период нацизма психологически противоречивые настроения владели Гейзенбергом, а политически он во многом был нестоек, может быть, даже недостаточно зрел. Один известный физик, бежавший из гитлеровской Германии и информированный в подобного рода вопросах, говорил мне (не знаю, кто может подтвердить его слова), что в первые годы войны Гейзенберг желал поражения Германии. Узнав же об ужасных порядках, которые нацисты устанавливают в завоеванных странах, о лагерях смерти и т. п., испугался мести народов в случае неудачного для Германии исхода войны, стал желать победы. В конце войны страшились возмездия и солдаты. Вероятно, именно поэтому многие из них, прошедшие через советский плен, так хорошо относятся к нашей стране, – они не ожидали, что к ним проявят человечность и великодушие.
Когда в 1943 году Гейзенберг посетил своего коллегу Казимира, он старался убедить его, что Европа под германским руководством, быть может, меньшее зло, что только так можно защитить западную культуру. Не отрицая и не оправдывая зверства и вообще отвратительные черты нацизма, на которые, возражая, ссылался Казимир, он лишь утверждал, что после войны следует ожидать изменений к лучшему, – и это после Сталинграда, когда поражение Германии уже наметилось!
Сам Казимир задается вопросом: зачем Гейзенберг говорил ему все это? Перебирая возможные причины (кроме упомянутой), он снова сводит все к тому, что Гейзенберг совершенно не был способен понимать собеседника, в данном случае – ненавидящего гитлеризм голландца.
Необходимо отметить еще вот что. Тот же Казимир пишет, что до войны «всегда восхищался Гейзенбергом не только как физиком. Для меня он был представителем многого из того, что дала германская культура. Он был хороший музыкант и хороший спортсмен, знал древние языки гораздо лучше меня». Но потом стало преобладать неприязненное отношение к нему, возникло немало обвинений, основанных на ложных слухах. Так, например, мне говорили, что во время этого визита Гейзенберг уговаривал Казимира принять участие в немецком урановом проекте. В книге воспоминаний Казимира ни о чем таком нет ни слова. Беседуя со мной в сентябре 1988 года, Казимир категорически опровергал этот слух.
Со временем стало выясняться, что Гейзенберг старался помочь жертвам нацизма. Польский физик Э. К. Гора, ныне живущий в США, опубликовал в 1985 году в американском научном журнале письмо, озаглавленное «Спасенный Гейзенбергом». В этом письме он рассказывает, что когда в 1939 году части вермахта заняли Варшаву, его предупредили о приказе Гитлера уничтожить польскую интеллигенцию. Гора обратился к Гейзенбергу, и тот спас его: пригласил в Лейпциг, помог устроиться на работу трамвайным кондуктором – это дало статут «иностранного рабочего», назвал «иностранным студентом» – это дало возможность продолжить образование и вести научную работу (резуль– тэты ее были опубликованы в 1943 году в немецком журнале). Арестованный гестапо, Гора был вскоре освобожден, как он полагает, благодаря Гейзенбергу.
Гейзенберг никогда не писал и не говорил о своей помощи коллегам: считал, вероятно, что это ниже его достоинства, так как выглядело бы самооправданием.
Вообще многие «традиционно аполитичные» антифашистски настроенные ученые были, как выясняется, связаны между собой и старались помочь пострадавшим. Например, когда Хоутерманса переправляли от советской границы в Берлин, он попросил одного случайно задержанного немца, которого должны были освободить, чтобы тот нашел Лауэ и сказал ему всего три слова: «Хоу– терманс в Берлине». Лауэ незамедлительно начал хлопоты и добился освобождения Хоутерманса.
Я знал об этом из различных воспоминаний, а подтверждение получил от физика Пейру – одного из тех двух пленных французских офицеров, которых Розбауд сумел вызволить на основании смехотворного предлога: необходимости перевести на французский научную книгу. При этом Розбауд договорился с Жолио – Кюри, что после войны эта работа не будет рассматриваться как сотрудничество с фашистами. До конца войны Пейру работал в лаборатории «Зубра» – Н. В. Тимофеева – Ресовского. Он подтвердил мне также, что когда сына Тимофеева – Ресовского, антифашиста–яодшлыцика, схватило гестапо, то Гейзенберг пытался помочь спасти его.
Известны лишь немногие факты такого взаимодействия ученых. Обнаруживались они постепенно, а теперь осталось уже мало современников и свидетелей событий.
Надо отметить, что после войны Гейзенберг был в числе восемнадцати западногерманских ученых–атомников, опубликовавших манифест, в котором они осудили ^томное оружие и заявили, что никогда не будут принимать участие в его разработке.
И все же долго еще западные физики относились к Гейзенбергу с неприязнью. Научные контакты, конечно, возобновились – он участвовал во многих конференциях. Возобновились отношения с Бором, хотя есть основания полагать, что рана Бора так и не затянулась. Гейзенберг с женой приезжал в Копенгаген, и две супружеские пары подолгу гуляли вместе. Возобновились отношения со старым другом Паули, выдающимся физиком–теоретиком, – в свое время они создавали квантовую теорию поля, а теперь обсуждали новые научные проблемы (Паули, еврей по национальности, постоянно жил в Швейцарии, в 1940 году уехал в США; после войны снова по 5–6 лет подряд жил в Швейцарии).
Несомненно, Гейзенбергу нелегко было чувствовать отчуждение или хотя бы натянутость по отношению к нему.
В августе 1959 года, впервые после войны, в Киеве состоялась большая международная конференция по физике высоких энергий. В числе сотен иностранных ученых приехал и Гейзенберг. Почти все жили в гостинице «Украина». Девушка в бюро регистраций, не имея представления, с кем имеет дело, поселила Гейзенберга в одной из комнат на верхнем этаже с несколькими советскими журналистами. На следующее утро Гейзенберг подошел к известному физику И. Е. Тамму и робко попросил походатайствовать за него: до верхнего этажа не доходит вода, и он не может умыться. Конечно, все было тут же улажено.
Разумеется, Гейзенберг не знал, как его встретят в Киеве. Он был не только человек из гитлеровской Германии. Ему не могло не быть известно, что наши философы, а также некоторые физики клеймили его как идейного врага, «буржуазного идеалиста», физика «копенгагенской школы». Для них он был не одним из великих создателей квантовой механики, о которой Ландау с восторгом говорил: «Человек оказался способен понять то, что невозможно себе представить», – а носителем идеологического зла.
Опасения Гейзенберга оказались напрасны: в научном общении не чувствовалось никакой натянутости. Я впервые встретился с ним в 1957 году на конференции по космическим лучам в Италии и из–за некоторых причин отнюдь не политического характера мог ожидать, что он встретит меня недоброжелательно, однако он живо, с энтузиазмом рассказал мне кое–что о работе, которой был тогда увлечен. Эта работа вызвала бурный интерес; Ландау с восхищением говорил: «В 57 лет выдвинуть такую блестящую идею!», – но затем обнаружились недостатки, и возбуждение прошло; именно об этой теории Бор затем сказал: «Это, конечно, безумная теория, но она недостаточно безумна, чтобы быть правильной».
В Киеве молодой талантливый физик из нашей группы в ФИАНе Г. А. Милехин с моей помощью рассказал Гейзенбергу о своей работе, в которой объяснял, почему две теории – Гейзенберга и Ландау – одного и того же важного процесса, очень привлекательные, но внешне принципиально различные, приводят к разным результатам. Милехин доказал, что эти теории можно свести к одной: они в принципе эквивалентны. Различие же выводов объясняется различием в выборе дополнительного элемента теории, который должен быть сделан на основе других соображений. Теория Ландау была более развита, более популярна, и круглое лицо Гейзенберга сияло, он открыто радовался, что все разъяснилось. Были и другие интересные обсуждения. Потом Гейзенберг председательствовал на пленарном заседании. Казалось, все по–прежнему. Но тогда же один известный физик–теоретик, эмигрировавший из Германии после прихода Гитлера к власти, в ответ на вопрос Ландау, как он относится к Гейзенбергу, в моем присутствии сказал: «Я не склонен забывать прошлое так быстро, как некоторые». Это было сказано через четырнадцать лет после окончания войны.