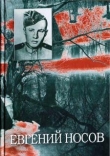Текст книги "Красное вино победы. Шопен, соната номер два (Рассказ, повесть)"
Автор книги: Евгений Носов
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 5 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]
У меня теперь нога
Тоже липовая…
За окном в светлой лунной ночи сочно расцвела малиновая ракета, переспело рассыпалась гроздьями. С ней скрестилась зеленая. Где-то резко рыкнула автоматная очередь. Потом слаженно забасили гудки: должно быть, трубили буксиры на недалекой Оке.
– Братцы! – Саенко застучал кулаком в стену соседней палаты. – Эй, ребята! Слышите!
Там тоже не спали, и в ответ забухали чем-то глухим и тяжелым, скорее всего, резиновым набалдашником костыля.
Прибежала сестра Таня, щелкнула на стене выключателем.
– Это что еще такое? Сейчас же по местам! – Но губы ее никак не складывались в обычную строгость. Наша милая, терпеливая, измученная бессонницами сестренка! Тоненькая, чуть ли не дважды обернутая полами халата, перехваченная пояском, она все еще держала руку на выключателе, вглядываясь, что мы натворили. – Куда это годится, все перевернули вверх дном. Взрослые люди, а как дети… Бугаёв! Поднимите подушку. Саенко! Сейчас же ложиться! Здесь Анатолий Сергеевич, зайдет – посмотрит.
Таня подсела к Копёшкину и озабоченно потрогала его пальцы.
– Спите, спите, Копёшкин. Я вам сейчас атропинчик сделаю. И всем немедленно спать!
Но никто, казалось, не в силах был утихомирить пчелино загудевшие этажи. Где-то кричали, топали ногами, выстукивали морзянку на батарее. Анатолий Сергеевич не вмешивался: наверно, понимал, что сегодня и он был не властен.
Меж тем за окном все чаще, все гуще взлетали в небо пестрые, ликующие ракеты, и от них по стенам и лицам ходили цветные всполохи и причудливые тени деревьев.
Город тоже не спал.
Часу в пятом под хлопки ракет во дворе пронзительно заверещал и сразу же умолк госпитальный поросенок…
Едва только дождались рассвета, все, кто был способен хоть как-то передвигаться, кто сумел раздобыть более или менее нестыдную одежку – пижамные штаны или какой-нибудь халатишко, а иные и просто в одном исподнем белье – повалили на улицу. Саенко и Бугаёв, распахнув для нас оба окна, тоже поскакали из палаты. Коридор гудел от стука и скрипа костылей. Нам было слышно, как госпитальный садик наполнялся бурливым гомоном людей, высыпавших из соседних домов и переулков.
– Что там, Михай?
– Аяй-яй… – качал головой молдаванин.
– Что?
– Цветы несут… Обнимаются, вижу… Целуются, вижу…
Люди не могли наедине, в своих домах переживать эту ошеломляющую радость и потому, должно быть, устремились сюда, к госпиталю, к тем, кто имел отношение к войне и победе. Кто-то снизу заметил высунувшегося Михая, послышался девичий возглас «держите!», и в квадрате окна мелькнул подброшенный букет. Михай, позабыв, что у него нет рук, протянул к цветам куцые предплечья, но не достал и лишь взмахнул в воздухе пустыми рукавами.
– Да миленькие ж вы мои-и-и! – навзрыд запричитала какая-то женщина, увидевшая беспомощного Михая. – Ох да страдальцы горемычныи-и-и! Сколько кровушки вашей пролита-а-а…
– Мам, не надо… – долетел взволнованно-тревожный детский голос.
– Ой да сиротинушки вы мои беспонятныи-и-и! – продолжала вскрикивать женщина. – Да как же я теперь с вами буду! Что наделала война распроклятая, что натворила! Нету нашего родимова-а-а…
– Ну не плачь, мам… Мамочка!
– Брось, Насть. Глядишь, еще объявится, – уговаривал старческий мужской голос. – Мало ли что…
– Ой да не вернется ж он теперь во веки вечныи-и-и…
И вдруг грянул неизвестно откуда взявшийся оркестр:
Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой…
Музыка звучала торжественно и сурово. Ухавшим барабан будто отсчитывал чью-то тяжелую поступь:
Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна…
Но вот сквозь четкий выговор труб пробились отдельные людские голоса, потом мелодию подхватили другие, сначала неуверенно и нестройно, но постепенно приладились, и, будто обрадовавшись, что песня настроилась, пошла, запели дружно, мощно, истово, выплескивая еще оставшиеся запасы святой ярости и гнева. Высокий женский голос, где-то на грани крика и плача, как острие, пронизывал хор:
Идет война народна-йа-ая-я…
От этой песни всегда что-то закипало в груди, а сейчас, когда нервы у всех были на пределе, она хватала за горло, и я видел, как стоявший перед окном Михай судорожно двигал челюстями и вытирал рукавом глаза. Саша Самоходка первый не выдержал. Он запел, ударяя кулаком по щитку кровати, сотрясая и койку и самого себя. Запел, раскачиваясь туловищем, молдаванин. Небритым кадыком задвигал Бородухов. Вслед за нами песню подхватили в соседней палате, потом наверху, на третьем этаже. Это была песня-гимн, песня-клятва. Мы понимали, что прощаемся с ней – отслужившей, демобилизованной, уходящей в запас.
Оркестр смолк, и сразу же без роздыха, лихо, весело трубы ударили «яблочко». Дробно застучали каблуки.
Эх, Гитлер-фашист,
Куда топаешь?
До Москвы не дойдешь —
Пулю слопаешь…
Частушка была явно устаревшая, времен обороны Москвы, но в это утро она звучала особенно злободневно, как исполнившееся народное пророчество.
И уж совсем разудало, с бедовым бабьим ойканьем, с прихлопыванием в ладоши:
Я по карточкам жила
Четыре годочка, —
Ненаглядного ждала
Своего дружочка!
Э-ой-ой-ой, йи-и-и-их…
Между тем начался митинг. Было слышно, как что-то выкрикивал наш замполит. Голос его, и без того не шибко речистый, простудно-сиплый, теперь дрожал и поминутно рвался: видно, замполит и сам порядочно волновался. Когда он неожиданно замолкал, мучительно подбирая нужные слова, неловкую паузу заполняли дружные всплески аплодисментов. Да и не особенно было важно, что он сейчас говорил.
Часу в девятом в нашу дверь несмело постучали.
– Давай, кто там?! – отозвался Саша Самоходка.
– Разрешите?
В палату вошел ветхий старичок с фанерным баулом и каким-то зачехленным предметом под мышкой. На старичке поверх черного сюртука был наброшен госпитальный халат, волочившийся по полу.
– С праздником вас, товарищи воины! – Старичок снял суконную зимнюю кепку, показал в поклоне восковую плешь. – Кто желает иметь фотографию в День Победы? Есть желающие?
– Какие тебе, батя, фотографии, – сказал Саша Самоходка. – На нас одни подштанники.
– Это ничего, друзья мои. Уверяю вас… Доверьтесь старому мастеру.
Старичок присел перед баулом на корточки, извлек новую шерстяную гимнастерку, встряхнул ею, как фокусник, перекинул через плечо, после чего достал черную кубанку с золоченым перекрестием по красному верху.
– Это все в наших руках. Пара пустяков… Итак, кто, друзья мои, желает первым? – Старичок оглядел палату поверх жестяных очков, низко сидевших на сухом хрящеватом носу. – Позвольте начать с вас, молодой человек.
Старичок подошел к Михаю и проворно, будто на малое дитя, натянул на безрукого молдаванина гимнастерку.
– Все будет в лучшем виде, – приговаривал фотограф, застегивая на растерявшемся Михае сверкающие пуговицы. – Никто ничего не заметит, даю вам мое честное слово. Теперь извольте кубаночку… Прекрасно! Можете удостовериться. – Старичок достал из внутреннего кармана сюртука овальное зеркальце с алюминиевой ручкой и дал Михаю посмотреть на себя. – Герой, не правда ли? Позвольте узнать, какого будете чину?
– Как – чину? – не понял Михай.
– Сержант? Старшина?
– Нэ-э… – замотал головой Михай.
– Он у нас рядовой, – подсказал Саша.
– Это ничего… Если правильно рассудить – дело не в чине.
Старичок порылся в бауле, откопал там новенькие, с чистым полем пехотные погоны и, привстав на цыпочки, пришпилил их к широким плечам Михая.
– Желаете с орденами?
– У него при себе нету, – ответил за Михая Самоходка. – Сданы на хранение.
– Это ничего. У меня найдутся. Какие прикажете?
– Не надо… – покраснел Михай. – Чужих не надо.
– Какая разница? Если у вас есть свои, то – какая разница? – приговаривал старичок, нацеливаясь в Михая деревянным аппаратом на треноге. – Я вам могу подобрать точно такие же.
– Нет, не хочу.
– Скромность тоже украшает… Так… Одну секундочку… Смотреть прошу сюда… Смотреть героем! Не так хмуро, не так хмуро. Ах, какой день! Какой день!
После Михая фотограф прямо в койке обмундировал в ту же гимнастерку Сашу Самоходку. Саша, хохоча, пожелал сняться с орденами.
– «Отечественная», папаша, найдется? – спросил он, подмигивая Бородухову.
– Пожалуйста, пожалуйста.
– И «Славу» повесь.
– Можно и «Славу». Можно и полного «Кавалера», – нимало не смутившись, предложил старичок, видимо поняв, что Саша все обращает в шутку.
– А ты, папаша, в курсе всех регалий! Тогда валяй полного! Дома увидят – ахнут. Только не пойму, – изумленно хохотал Самоходка, – как же меня с такой ногой? Койка будет видна.
– Все сделаем честь по форме. Была бы голова на плечах – будет и фотография. Так я говорю? – тоже шутил старичок, морщась в улыбке. – Зачем нам кровать? Кровать солдату не нужна. Все будет, как в боевой обстановке.
Фотограф выудил из баульчика полотнище с намалеванным горящим немецким танком.
– Подойдет? Если хотите, имеется и самолет.
– Давай танк, папаша! – покатывался со смеху Самоходка. – А гранату не дашь? Противотанковую?
– Этого не держим, – улыбнулся старичок.
На карточке должно было получиться так, будто Саша находился не на госпитальной койке в нижнем белье, а на поле сражения. Он якобы только что разделался с немецким «тигром» и теперь, сдвинув набекрень кубанку, посмеивался и устраивал перекур.
– Ну и дает старикан! – реготал Самоходка.
– В каждом деле, молодой человек, имеется свое искусство.
– Понимаю: не обманешь – не проживешь, так, что ли?
– Это вы напрасно! К вашему сведению, я даже генералов снимал и имел благодарности.
– Тоже «в боевой обстановке»?
– Веселый вы человек! – жиденько засмеялся старичок и погрозил Самоходке коричневым от проявителя пальцем.
На меня гимнастерка не налезла: помешала загипсованная оттопыренная рука.
– Хотите манишку? – вышел из положения старичок, который, видимо, уже давно специализировался на съемках калек и предусмотрел все возможные варианты увечья. – Не беспокойтесь, я уже таких, как вы, фотографировал. Уверяю вас: все будет хорошо.
Но манишки, а попросту говоря, нагрудника с пуговицами, я устыдился и не стал сниматься. Отказался и Бородухов, проворчавший сердито:
– Обойдусь. Скоро сам домой приеду.
– Тогда давайте вы. – Старичок цепким взглядом окинул Копёшкина, должно быть прикидывая, какую можно к нему применить декорацию и бутафорский реквизит, чтобы и этому недвижному солдату придать бравый вид.
– К нему, дед, не лезь, – сказал строго Бородухов.
– Но, может, он желает?
– Ничего он не желает… Не видишь, что ли?
– Понимаю, понимаю, – старичок приложил палец к губам и на цыпочках отошел от койки. – Хотя можно было и его… Что-нибудь придумали б… У меня, знаете, были очень трудные случаи…
– Давай, давай…
– Тогда счастливо выздоравливать. Фотографии только через десять дней. Много другой работы. Тула… Владимир… Это все моя зона. Что поделаешь… Теперь нету хороших мастеров, нету… Ах, такой день, такой день! Слава богу, дожили наконец…
Он зачехлил аппарат, сложил в баул все свои бебехи, галантно раскланялся, доставая кепкой до пола, и неслышно вышмыгнул за дверь.
– Трупоед… – сплюнул Бородухов.
Госпитальный садик все еще гудел народом. Играла музыка – все больше вальсы, от которых щемило сердце, Саенко и Бугаёв вернулись в палату с красными бантами на пижамах и с охапками черемухи.
Перед обедом нам сменили белье, побрили, потом зареванная по случаю праздника, с распухшим носом тетя Зина разносила янтарно-желтый суп из кабана.
– Кушайте, сыночки, кушайте, родненькие. – Концом косынки она утирала мокрые морщинистые щеки. – Суп-то нынче добрый… Ох ты господи! А я как услышала, так и села. Сколько по этим-то итажам выбегала, сколь носилок перетаскала и – ничего. А тут хочу, хочу встать, а ноги как не мои… Да неужто, думаю, все уже кончилося? Аж не верится. Какую юдолю вытерпели, какого сапустата одолели. Как вспомню, как вспомню…
Слезы опять выступили на ее глазах, она торопливо утерлась и тут же улыбнулась, просветлела лицом.
– Кушайте, кушайте, а я пойду котлеток принесу. Поправляйтеся на здоровье, уж теперь недолго осталося…
Дверь распахнулась от толчка сапогом, в палату грузно протиснулся начхоз Звонарчук с неузнаваемо обвисшими усами на широком потном лице.
– Погодьте, погодьте исты!
На вытянутых руках он нес медный самоварный поднос с несколькими темно-красными стаканами.
– С победою вас, товаришчи, – поздравил он усталым, по-детски тонким голоском. – Скильки вас у палати?
– Семеро осталось.
– Ага, точно… Тут вам вид имени администрации… Саенко, распорядысь.
– Есть распорядиться! – Саенко с готовностью попрыгал к подносу и составил стаканы на Михаеву тумбочку. – Давайте с нами, товарищ начхоз. За Победу.
– Ни, хлопци. Нема время. – Он вытер рукавом халата потный лоб. – У мэни ще сто двадцать душ. Ух ты, чертяка, запалывси як…
Начхоз еще раз поглядел на стаканы: то ли пересчитывал в уме для отчетности, то ли просто так – как на произведение собственной расторопности. Видно, вино это досталось ему нелегко.
– Так вы давайте… А то суп охолонет.
– Спасибо.
– Було б за шо.
Он ушел.
Саенко медленно, чтобы не пролить, не прыгая, как всегда, а волоча раненую ногу по полу, при полном молчании всех присутствующих разнес стаканы по тумбочкам. Лицо его при этом было озабоченным и строгим, а нижняя губа аскетически поджата, словно у ксендза при свершении исповеди. Да и правда, эти рубиново-красные, наполненные до краев стаканы воспринимались в нашей бесцветно-белой палате как нечто небывало-торжественное, как волнующее таинство.
Минуту-другую каждый молча созерцал свой стакан.
– Ну что, солдаты… Что задумались? Давайте колыхнем, что ли… – предложил Саенко.
– Да, давайте.
– Пусть сперва Михай, – сказал Бородухов.
– Верно, пусть он сперва. А то как же ему…
– Это само собой. – Бугаев взял Михаев стакан. – Давай присядь, а то не дотянусь.
Михай послушно сел на край койки, запрокинул голову.
– Ну, браток… За Победу?
– Ага.
– Жаль, нельзя с тобой чокнуться…
По лицу Михая скользнула виноватая улыбка.
– Ну ничего… поехали.
Мы смотрели, как Бугаёв, осторожно наклоняя стакан, вылил вино в птенцово раскрытый рот молдаванина.
– Во, парень, – удовлетворенно сказал он. – Это дело. Ничего, наловчишься… – Бугаёв вытер пижамным рукавом Михаев подбородок, по которому скользнула алая струйка, и, зачерпнув из супа картофелину, дал ему закусить. – Я знал одного такого, как ты, так он приспособился зубами брать стакан за край и высасывал все до донышка.
– Вино пить можно. А как теперь его делать будешь! – Михай тряхнул узлами рукавов. – Вину руки нужны.
– Ничего, братка! Не падай духом. Жинка поможет.
– Аяй-ай-ай… – Михай покачал головой.
– Ну будет, будет про это… – прервал Бородухов и степенно провозгласил: – Давайте, робяты, за дальнейшую нашу жисть выпьем… Как она дальше пойдет… Что было – то было, будь оно неладно! Живым жить, живое загадывать.
Мы выпили.
Прибежала Таня, поздравила с праздником, поставила на нашу с Копёшкиным тумбочку букет подснежников, принялась кормить его с ложки. Копёшкин, глотая жижу, морщился, пускал пузыри.
– Ты ему винца вплесни, – посоветовал Саенко.
– Вы что, смеетесь?
– А что? Пусть солдат разговеется.
– Ему же нельзя.
– Дай, дай ему. Отпусти ты его душу на волю. Вот увидишь, полегчает с вина-то.
– Не говорите глупостей.
– Ох уж эти лекари! Хуже жандармов. Может, ему только и осталось, что посошок выпить. Сердца у вас нету.
– Все, славяне! Завтра буду проситься на выписку, – решительным тоном сказал Саша Самоходка.
Таня посмотрела в его сторону, укоризненно покачала головой.
– Не выпишут – убегу. Тань, поехали со мной, а? На Волгу. Красота!
– По дороге потеряешь, – усмехнулась Таня.
– Честное гвардейское, не потеряю! Я ведь к тебе, можно сказать, привык. Осталось только расписаться. – Саша заметно окосел, да и все тоже порозовели, заблестели глазами. – Ребята, поехали? – говорил Саша, хмельной и добрый. – Нашими дружками будете. Такую свадьбу сварганим. Эх и хорошо у нас, братцы! Деревня высоко-высоко! А внизу Волга. Всю видать, на пятнадцать верст туда и сюда. Пароходы идут, гудки, бакены по вечерам… Михай, поехали?
– Не-е, я домой.
– Что у тебя там? Успеешь.
– Как что? – Михай вскинул рыжие брови. – Как что? Не был – не говори.
– Нет, брат, – Самоходка мечтательно уставился в потолок. – Где Волга не течет, там не жизнь.
– Зачем зря говоришь? Зачем? А виноград у вас есть? А вино наше пил? Не пил.
– Квас, знаю.
– Что понимаешь? – горячился Михай. – Давай спорить! Квас, да? Налью тебе кружку, вот какую большую, – он сдвинул культи, показывая, какую кружку нальет Самоходке. – Пей, пожалуйста! Выпьешь – под бочку упадешь. Как мертвый будешь. Э-э, что говоришь – нету жизни. Поедем – увидишь. Что Волга? Что Волга? Мы воду не пьем, мы вино пьем. Молдова, понял?
– Что ж вы не едите? – покачала головой Таня, насильно вливая Копёшкину бульон. – Ну съешьте еще ложечку. Горе мне с вами…
– А у нас на Мезени пиво теперь варят. – Бородухов, только что побритый, в свежей рубахе, чинно прихлебывал наваристый суп, всякий раз подпирая донышко ложки куском хлеба.
– Сегодня везде празднуют, – сказал Саенко.
– Празднуют, да не так. У нас, на Мезени-то, бабы старинное надевают. Хороводы водят, песни поют. А потом сядут в лодки да по Мезени. А пиво я люблю, чтоб с брусникою. – Бородухов выразительно покрякал, провел ладонью по рту, будто обтер пивную пену. – Благо! Давно не пивал. – И добавил, задумавшись: – Поди, теперь не из чего варить.
Таня кое-как покормила Копёшкина и, сама больше намучившись, ушла. Ей надо было смениться еще в девять утра, но она осталась помогать по случаю праздника. И было жаль, что еще не посидела с нами. Самоходка прав: мы привыкли к ней и – чего уж темнить! – почти все были тихо влюблены в нее…
Вино разбередило, ребята зашумели, заспорили, где жить лучше. Вмешались Саенко с Бугаевым, стали рассказывать о Сибири. Оба были родом из-за Урала, только Саенко происходил из степных алтайских хохлов, а Бугаёв – коренной енисейский чалдон.
«Сколько разных мест на земле, – думал я, слушая разговоры. – Лежали раненые и в других палатах, и у них тоже были где-то свои единственные родные города и деревни. Были они и у тех, кто уже никогда не вернется домой… Каждый воевал, думая о своем обжитом уголке, привычном с детства, и выходило, что всякая пядь земли имела своего защитника. Потому и похоронные так широко разлетались по русской земле…»
– Тише, ребята… – Бородухов первый заметил, как Копёшкин зашевелил пальцами. – Чего тебе, браток?
Мы насторожились.
– Пить?
Копёшкин отрицательно пошевелил кистью руки.
– Утку?
Припрыгал Саенко, наклонился над ним.
– Ты чего, друг?
Копёшкин что-то шепелявил сухими ломкими губами.
– Так, так… Ага, понял… – Саенко закивал и перевел нам: – Говорит, у них тоже хорошо жить. Давай, давай, Копёшкин, расшевеливайся! Вот молодец! Ну-ка, расскажи, как там у вас… Это где ж такое? A-а, ясно… Пензяк ты. Ну и что там у вас?
– Хорошо тоже… – разобрал я слабый, будто из-под земли, голос Копёшкина.
– Заладил: хорошо да хорошо… А что хорошего-то? Лес есть или речка какая?
Копёшкин пытался еще что-то сказать о своих местах, но не смог, обессилел и только облизывал непослушные губы.
Мы помолчали, ожидая, что он отдышится, но Копёшкин так больше и не заговорил.
В палате воцарилась тишина.
Я пытался представить себе родину Копёшкнна. Оказалось, никто из нас ничего не знал об этой самой пензенской земле. Ни какие там реки, ни какие вообще места, лесистые ли, открытые… И даже где они находятся, как туда добираться. Знал я только, что Пенза эта где-то не то возле мордвы, не то по соседству с чувашами. Ну, а где эта самая мордва?.. Я и прежде почти никогда не вспоминал, что есть такая территория в России, хотя когда-то сдавал экзамены по географии. Сдал да тут же и позабыл… Где-то там в неведомом краю стоит и копёшкинская деревенька с загадочным названием – Сухой Житень, вполне реальная, зримая, и для самого Копёшкина являет она собой центр мироздания. Должно быть, полощутся белесые ракиты перед избами, по волнистым холмушкам за околицей – майская свежесть хлебов, вечером побредет с лугов стадо, запахнет сухой пылью, скотиной, ранний соловей негромко щелкнет у ручья, прорежется молодой месяц, закачается в темной воде…
Я уже вторую неделю тренировал левую руку и, размышляя о копёшкинской земле, машинально черкал карандашом по клочку бумаги. Нарисовалась бревенчатая изба с тремя оконцами по фасаду, косматое дерево у калитки, похожее на перевернутый веник. Ничего больше не придумав, я потянулся и вложил эту неказистую картину в руки Копёшкина. Тот, почувствовав прикосновение к пальцам, разлепил веки и долго с осмысленным вниманием разглядывал рисунок. Потом прошептал:
– Домок прибавь… У меня домок тут… На дереве…
Я понял, забрал листок, пририсовал над деревом скворечник и вернул картину.
Копёшкин, одобряя, еле заметно закивал восковым, заострившимся носом.
Ребята снова о чем-то заспорили, потом, пристроив стул между Сашиной и Бородуховой койками, шумно рубились в домино, заставляя проигравшего кукарекать. Во всем степенный Бородухов кукарекать отказывался, и этот штраф ему заменяли щелчками по роскошной лысине, что тут же исполнялось Бугаевым с особым пристрастием под дружный хохот. Михай в домино не играл и, уединившись у окна, опять пел в закатном отсвете солнца, как всегда, глядя куда-то за петлявшую под горой речку Нару, за дальние вечереющие холмы. Пел он сегодня как-то особенно грустно и тревожно, тяжко вздыхая между песнями, и надолго задумывался.
Прислоненная к рукам Копёшкина, до самых сумерек простояла моя картинка, и я про себя радовался, что угодил ему, нарисовал нечто похожее на его родную избу. Мне казалось, что Копёшкин тихо разглядывал рисунок, вспоминая все, что было одному ему дорого в том далеком и неизвестном для остальных Сухом Житне.
Но Копёшкина уже не было…
Ушел он незаметно, одиноко, должно быть, в тот час, когда садилось солнце и мы слушали негромкие Михаевы песни. А может быть, и раньше, когда ребята стучали костяшками домино. Этого никто не знал.
В сущности человек всегда умирает в одиночестве, даже если его изголовье участливо окружают друзья: отключает слух, чтобы не слушать ненужные сожаления, гасит зрение, как гасят свет, уходя из квартиры, и, какое-то время оставшись наедине сам с собой, в немой тишине и мраке, последним усилием отталкивает челн от этих берегов…
Пришли санитары, с трудом подняли с кровати тяжелую, промокшую гипсовую скорлупу, из которой торчали, уже одеревенев, иссохшие ноги Копёшкина, уложили все это в носилки, накрыли простыней и унесли.
Вскоре неслышно вошла тетя Зина со строгим, отрешенным лицом, заново застелила койку и, сменив наволочку, еще свежую, накрахмаленную, выданную сегодня перед обедом, принялась взбивать кулаками подушку.
Я онемело смотрел на взбитую подушку, на ее равнодушную праздную белизну, и вдруг с пронзительной очевидностью понял, что подушка эта уже ничья, потому что ее хозяин уже ничто… Его не просто вынесли из палаты – его нет вовсе. Нет!.. Можно было догнать носилки, найти Копёшкина где-то внизу, во дворе, в полутемном каменном сарае. Но это будет уже не он, а то самое непостижимое ничто, именуемое прахом… «И это все? – спрашивал я себя, покрываясь холодной испариной. – Больше для него ничего не будет? Тогда зачем же он был? Для чего столь долго ожидал своей очереди родиться на земле?» Эта его возможность появления сберегалась тысячелетиями, предки пронесли ее через всю историю – от первобытных пещер до современных небоскребов. Пришло время, сошлись, совпали какие-то шифры таинства, и он наконец родился… Но его срезало осколками, и он снова исчез в небытие… Завтра снимут с него теперь уже ненужную гипсовую оболочку, высвободят тело, вскроют, установят причину смерти и составят акт. Потом его останки свезут на серпуховское кладбище, где для таких, как он, госпиталь арендует угол, и там закопают – без речей, без почетного караула, без прощальных залпов, – закопают, так сказать, «в рабочем порядке», как обычно хоронили по лазаретам ничем не отличившихся солдат.
– Ох ты, грехи наши тяжкие… – проговорила нянька, подняла с пола оброненную санитарами картинку с копёшкинской избой и прислонила ее к нетронутому стакану с вином. – Вот и пожар затушили, а видно, чадить еще долго будет. Уж больно раскочегарено…
Мы промолчали; разговаривать ни о чем не хотелось.
Картинка была моей вольной фантазией, но теперь нарисованная изба обратилась в единственную реальность, оставшуюся после Копёшкина. Я теперь и сам верил, что такая вот – серая, бревенчатая, с тремя окнами по фасаду, с деревом и скворечником перед калиткой, – такая и стоит она где-то там на пензенской земле. В это самое время, в час сумерек, когда санитары укладывают Копёшкина в госпитальном морге, в окнах его избы, должно быть, уже затеплился жидкий огонек керосиновой лампы, завиднелись головенки ребятишек, обступивших стол с вечерней похлебкой. Топчется у стола жена Копёшкина (какая она? как зовут?), что-то подкладывает, подливает… Она теперь тоже знает о победе, и все в доме – в молчаливом ожидании хозяина, который не убит, а только ранен, и, даст бог, все обойдется…
Странно и грустно представлять себе людей, которых никогда не видел и наверняка никогда не увидишь, которые для тебя как бы не существуют, как не существуешь и ты для них.
Тишину нарушил Саенко. Он встал, допрыгал до нашей с Копёшкиным тумбочки и взял стакан.
– Зря-таки солдат не выпил напоследок, – сказал он раздумчиво, разглядывая стакан против сумеречного света в окне. – Что ж… Давайте помянем. Не повезло парню… Как хоть его звали?
– Иваном, кажется, – сказал Саша.
– Ну… Прости-прощай, брат Иван. – Саенко плеснул немного из стакана на изголовье, на котором еще только что лежал Копёшкин. Вино густо окрасило белую накрахмаленную наволочку. – Вечная тебе память.
Оставшееся в стакане вино он разнес по койкам, и мы выпили по глотку. Теперь оно показалось таинственно-темным, как кровь.
В вечернем небе снова вспыхивали праздничные ракеты.