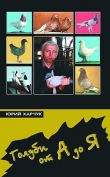Текст книги "Тонкая струна"
Автор книги: Евгений Пермяк
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 7 страниц)
Памятная охота

У нас с братом ружья появились рано. Ему было шестнадцать, а мне четырнадцать лет. Обращению с ружьями обучал нас дядя; он и подарил их нам. Дядя буквально вдалбливал нам в голову все меры предосторожности на охоте. Приводил примеры несчастных случаев. Даже таких, которые могли произойти раз в сто лет. И мы свято соблюдали все его охотничьи наставления.
На станции Кулунда жил второй наш дядя – дядя Фёдор. Он очень расхваливал свои озёра и прославлял тамошнюю дичь. И мы с Васей отправились в Кулунду.
Всё сказанное дядей подтвердилось. Птицы было так много, что немыслимо было вернуться с охоты без уток. Мы главным образом и охотились на них. Гуси не подпускали нас. Как мы ни ухищрялись, какие только меры ни принимали, а удачи не было. И подползали к ним против ветра, и устраивали ночные засады – бесполезно!

Чуткие птицы взлетали задолго до того, как мы подходили к ним на ружейный выстрел. А утки уже порядком надоели. Их подавали и к завтраку, и на обед, и на ужин.
Тётя Катя, дядина жена, сказала однажды:
– Надо же когда-то съесть хоть одного гуся!
И мы решили добыть во что бы то ни стало гуся.
С вечера мы ушли далеко в степь и заночевали в стогу соломы. Проснулись на восходе.
Солнечное утро прекрасно всегда и везде. Хорошо оно и в степи на берегу озера. Утренняя заря так окрасила воду, что она напомнила нам Урал. Там мы в раннем детстве всегда любовались, как в овраг из шлаковозных ковшей выливался огненно-красный доменный шлак, образуя оранжево-красное озерцо. По то было маленькое, а это огромное алое озеро.
Любуясь с пригорка цветом озера, мы увидели двух розовых птиц. Мы их узнали сразу: это были лебеди. Так окрасила их белоснежные перья заря.
Лебедей в этих краях не бьют – не принято. Одни считают убийство лебедя грехом, другие, может быть, и не видят в этом греха, зато находят охоту на лебедей такой же нелепостью, как стрельбу по чайкам, журавлям. Ни к чему! Разве только для чучела. К тому же в народе были распространены рассказы о том, что, если погибает один лебедь, гибнет и второй. Так будто бы дружны и неразлучны лебединые пары.
В этом была какая-то правда.

Мы с братом в прошлом году были на озере Чаны. Это огромное озеро. Есть места, где с одного берега не видно другого. На нём собираются сотни стай отлетающей птицы: уток различных пород, гусей, лебедей. Даже с плохоньким биноклем можно часами любоваться птицей. У гусей и уток не различишь пар – они плавают стаей. А вот лебеди... исключая разве молодых... в стае плавают попарно. Может быть, в этом наблюдении было больше нашего желания видеть их парами, чем истины, – я не знаю, но так они запомнились мне.
Розовая лебяжья пара плыла медленно, грациозно.
Тут брат сказал:
– А при Иване Грозном лебедей подавали к столу. Даже картина есть, где несут лебедя на блюде. В пере. Значит, это не считалось запретным. Почему же теперь вдруг нельзя стало охотиться на лебедей?
И я поддержал брата. Мы зарядили ружья и направились к озеру.
Лебеди на нас не обращали никакого внимания. Старожилы рассказывают, будто лебеди подпускают человека, сидящего верхом на лошади, так близко, что человек может ударить лебедя кнутом. В этом, конечно, есть преувеличение. Но то, что лебеди, за которыми здесь не охотятся, очень смелы, – правда.
И вот мы подошли довольно близко к прекрасным птицам. Солнце уже поднялось, и они побелели. Но их закрыли камыши.
– Пройдём через камыш, – предложил брат. – А потом ты – в правого, а я – в левого.
Пошли бродом по камышу. Шли осторожно, не булькая, как учил дядя. Наконец камыш поредел. Лебедей мы увидели совсем близко и стали целиться. Я – в правого, а Вася – в левого. Командовал он. Командовал, как в детстве, когда мы играли в войну:
– Раз, два, три... Пали!
Прозвучали два выстрела. Один лебедь взлетел. Братов. Мы успели перезарядить наши берданки и дали ещё по выстрелу в улетающего. Но тот преспокойно улетал.
– Это лебедь, – сказал брат. – У него перо крепче. Дробь на него нужна крупнее. Пойдём за лебёдкой.
И мы пошли за добычей по розовому следу на воде, окрашенному уже не солнцем, а кровью. Вода оказалась по пояс. А мы шли. Вскоре след привёл нас в камыши.
Привёл и затерялся. Лебедь исчезла.
Так мы пробродили минут сорок. Продрогли. Вышли на берег.
– Смотри, – указал мне вверх брат, – он не улетает! Он кружит над озером.
И я увидел парящего высоко в небе лебедя.
– Не покидает её, – сказал брат. – Значит, это правда.
Он не сказал, что имел в виду, говоря «значит, это правда». И мне вдруг стало стыдно. Ведь это я стрелял в неё. Ведь это я принёс ему беду.
А лебедь всё парил и парил, делая круги над озером, плавно взмахивая крыльями.
Мне хотелось уйти, и уйти как можно скорее. И я сказал брату:
– Уйдём, Вася, отсюда и посушимся.
Брат согласился и вдруг пронзительно крикнул:
– Ай, он падает!
И я увидел лебедя, падающего белым камнем. У меня подогнулись ноги. Я сел на землю. Лебедь упал на середину озера с шумным всплеском.
– Может быть, он от разрыва сердца? – тихо спросил Василий. – Я слыхал, что такое бывает.
– Не знаю, не знаю... – отозвался я.
Мне вдруг очень захотелось пить, и я стал пить прямо из озера горько-солёную воду. Начался лёгкий ветерок; он стал прибивать птицу к берегу, свободному от камыша. Теперь лебедя было легко взять. Но ни я, ни брат даже не подумали об этом.
Возвращались мы молча, с пустыми руками. Дома ничего не сказали о нашей охоте. И только через несколько дней спросили доктора, приезжавшего на станцию, мог ли лебедь умереть от разрыва сердца, не пережив смерти своей подруги.
Доктор на это сказал:
– Не приписывайте, друзья мои, птице человеческих чувств. Лебедь, наверное, был тоже ранен, и, пока силы не оставили его, он летал, а потом разбился о воду.
Может быть, это и так. Вернее всего, что это именно так... Только с тех пор я никогда не охотился на лебедей и ни при каких обстоятельствах не буду охотиться на них. Мне и до сих пор, спустя много лет, как-то совестно смотреть на них, если я встречаюсь с ними на пруду зоопарка или даже па картинке.

Дедушкины глаза

Семья Тагильцевых – коренная уральская семья. Старику Тагильцеву Мирону Петровичу без малого семьдесят лет, а сталеварского дела он не бросает.
– Рад бы, – говорит он, – бросить, да без дела состариться боюсь. А для старика самое главное – не стареть.
Говорит он так, а в глазах смешинка. Весёлая такая... С искоркой. Слух идёт, что он её в 1917 году у Владимира Ильича Ленина перенял. Потому что Тагильцеву не раз приходилось Ленина охранять. Доверяли молодому большевику жизнь Владимира Ильича. Сам-то Владимир Ильич и не знал, что Центральный Комитет партии к нему то одного, то другого коммуниста приставляет. Не любил Ленин заботы о себе. А как не заботиться, как не охранять, коли тогда столько врагов против пролетарской революции, против её вождя нож за пазухой носили... Только не об этом речь. Речь о том, что молодой по тем годам коммунист Тагильцев больше всего на светлом ленинском лице любил его глаза с прищуром. А кто что любит, тот то и перенимает, даже, может быть, и сам того не замечая.
Тагильцева как-то спросили товарищи:
– Мирон, ты нарочно по-ленински глаза щуришь или само собой получается?
А тот даже оторопел. Испугался:
– Да что вы, братцы... В уме? Разве осмелюсь я на Ленина походить, хотя бы даже одним прищуром?
Говорит так и по-ленински щурится, а в глазах смешинка. Умная такая искорка. Ласковая.
Много лет с тех пор прошло. Не баловала жизнь Мирона Петровича. В самые трудные, в самые узкие места партия его посылала. И куда ни пошлют Тагильцева, что ни поручат ему – всегда справляется. И главное, без шума, без крика. Слово, другое скажет, объяснит, прищурится карим глазом и так душу согреет, что все за ним хоть в огонь, хоть в воду.
Умел Мирон Петрович малыми словами и большими делами народ за собой повести. Через всю жизнь пронёс он негаснущую искорку от великого ленинского огня. Зажигает она людские души, не меркнет.
Теперь о душах.
В старом рабочем тагильцевском доме душ жило порядочно. Но разговор пойдёт о трёх душах. О мужских. При старике Тагильцеве жил только старший сын Василий. Остальные кто куда – по разным заводам разбрелись, а Василий Миронович при отце остался. Специальность у него была тоже не из простых. Строитель. Строитель не по домам, а по печам. Доменные, мартеновские и другие печи возводил. На хорошем счету числился. Три ордена, семь медалей. Того гляди, Золотую Звезду получит. И есть за что. В полтора года свою пятилетку мастер выполнил. Руки такие. И в голове немало положено. Старик Тагильцев никого из пяти сыновей умом не обделил и на внука кое-что оставил.
Внука Мирона Петровича в честь деда назвали Мирошей. Самая младшая в тагильцевском доме мужская душа. Росточка невысокого, чуть не последним в строю стоял, а рукастый мальчишечка. За что схватится – не отпустит.
Взять, к примеру, озеленение. Мироша перед школой пять липок посадил. И все принялись. Другие по десять посадили, а не ухаживали. Вот и посохли. Или большой школьный аквариум взять. Для него Мироша двух редких ершей поймал. Как сомята плавают. А кто классную доску заново чёрной краской выкрасил? Мироша. Да так хорошо, что за весь год ни одной плешинки не появилось.
Разве не приятно это всё Мироше? Конечно, приятно. И отцу радостно, что в его сыне с малых лет рождается великое чувство трудовой гордости.
Вот как-то и разговорились три Тагильцева о трудовой гордости. В огороде это было. У бобовой гряды. А Мироша перед этим хороший кварц добыл. С золотой жилкой. Наверное, больше грамма в этой жиле золота было. Показывает Мироша этот кварц отцу с дедом да и говорит:
– Седьмой самолучший камень для школьной коллекции выискал. Малахит там мой – зеленее зелёного. И яшма – как заря вечером. Изумруд нашёл, хоть и не первого сорта, а первее моего в школе нет. Теперь бы платиновый самородочек добыть! Хоть с комарика бы... Всё равно бы из других школ бегали на самородок смотреть.
Говорит так маленький Тагильцев, а отец с него глаз не сводит. Радуется. Себя в нём узнаёт. И деду внука нахваливает:
– Вот и я, папаня, таким же рос. До сих пор горжусь батареей центрального отопления, которую я в учительской тринадцатилетним мальчишкой собственноручно установил. И как приду в школу, обязательно на свою батарею погляжу и украдкой поглажу её тёплые чугунные рёбра. Хорошо! Как ты думаешь?
А старик молчит. Ест бобы да щурится. Будто от солнышка. А солнышко давно уже за крышу соседнего сарая ушло.
– Или, может быть, что-то не так, отец? – спрашивает Василий Миронович у Мирона Петровича. – Может быть, по-твоему, сын зря своим кварцем гордится, своими ершами да липками, как, скажем, я своими домнами да мартеновскими печами?
– Да что ты у меня, Василий, спрашиваешь? – ответил старик. – Я ведь мало классов кончил. Только три. И книг не так чтобы много прочитал. И работа у меня... как бы сказать... безликая. Выплавишь сталь, сольёшь её в ковши – и прощай. Куда она пойдёт, что из неё сделают, и не узнаешь. Может, части для центрального отопления или машину какую – никто не скажет. Как ты свою сталь узнаешь? То ли она в Мирошином поисковом молотке, которым он кварц из горы добыл, то ли гвоздиками стала в твоих сапогах? Неизвестно. Не то что твоя домна или твоя труба. Возвёл ты её чуть не до облаков, и все знают, что эта диковина Василием Мироновичем Тагильцевым кладена. И тебе есть чем гордиться. Есть от чего сердцу замирать. А мне – нечем! – повторил старый Тагильцев и прищурился. В его карих глазах снова появилась знакомая сыну, знакомая внуку, знакомая всему заводу смешинка.
– Это верно, отец, – согласился Василий Миронович. – Сталь, как и кирпичи. Не узнаешь, где твоё, где товарищево. И я как-то всегда болел за то, что ты не можешь сказать, что вот этот, скажем, твой паровоз бежит или этот путь твоими стальными рельсами пролёг.
– Что сделаешь, сын! – снова прищурился Мирон Петрович. – Такова и вся моя жизнь. Негде мне своё имя-фамилию поставить. Ну вот ту же революцию взять... К примеру, Зимний дворец. Я ведь его тоже брал. Не последним через дворцовые ворота перелезал. А вот какая именно часть Зимнего дворца мною взядена, и не знаю. А плохо ли, скажем, хоть одну колонку или даже ступеньку себе по законным заслугам приписать? Ведь ступил же я первым на какую-то дворцовую ступеньку? Значит, мною она от царизма освобождена. Приехал бы сейчас в отпуск в Ленинград. Пошёл бы в Зимний. Сел бы на свою мраморную ступеньку, погладил бы украдкой её белое лицо и сказал бы сам себе: «Моя!» Есть, наверное, такая. И не одна. А я, дурак, не запомнил их. Не до того, видно, было. Или не было во мне такого высокого чувства гордости, как у тебя с Мирошей. И теперь мне до этого не дорасти. Таким, наверное, и доживать буду...
Старик Тагильцев умолк. Снова раскрыл стручок и снова вынул из него бобовые зёрна и принялся их с хрустом есть.
Василий Миронович и Мироша перестали рвать бобы. Тому и другому стало как-то не по себе. Особенно когда карие глаза Мирона Петровича поглядывали на них смеясь, сверкая ласковой искоркой.
Вечером Василий Миронович отправился с сыном на пруд. Будто бы погулять в воскресный день. А на самом деле ему нужно было поговорить с Мирошей.
Он сказал:
– Не деду до нас, а нам с тобой до него расти надо! Слов нет, хорошо тому, кто через свой труд может видеть свою жизнь в печах, в трубах, в липках... Или, скажем, в кварцевом камешке, в золотой жилке... Это очень хорошо. Только дедушкина жизнь была как сталь. Для всех разлилась она по тысячам поделок, поковок, отливок. И ему как будто не на что пальцем ткнуть и даже самому себе сказать: «Это моё». А между тем так ли это? Так ли?..
Тут Василий Миронович усадил сына на бережок, и они оба принялись говорить о дедушке.
И оказалось, что дедушка Мирон с первого дня встречи с Владимиром Ильичём Лениным отдавал все силы, всю жизнь людям. Не думая о своих успехах и забывая о заслугах, он жил для народа.
И вдруг Мироша так ясно понял, что пришкольные липки он сажал и холил для себя. Для того чтобы прославиться, он поймал двух больших ершей и так хорошо выкрасил школьную доску.
Возвращаясь домой, Мироша незаметно швырнул кварц с золотой жилкой на школьный двор и подумал: «Пусть другие найдут...»
Отец заметил это и, ничего не говоря, крепко пожал своему сыну руку.
Этим вечером в душу Мироши вошло что-то новое, очень хорошее и высокое. А на другой день утром дедушка, удивившись, вдруг спросил внука, который, щурясь, уставился на старика:
– Миронька! Откуда у тебя в глазах такой хитроватый прищур обнаружился?
– Знамо дело, откуда... – вместо Мироши ответила его бабушка и, не договорив, принялась целовать внука в дедушкины глаза с искоркой.

Серёжа

Теперь-то уж Серёжа большой человек. Сергеем Ивановичем его зовут.
А я его знал совсем мальчишкой. Лет четырнадцать ему было, когда мы с ним познакомились в лесной сторожке, где мне пришлось заночевать у старика Ивана Макаровича.
Вечер стоял тёплый, светлый. Недаром июнь на Урале считается белым месяцем.
Сидим мы на бережке, разговариваем. Для попугу комаров костёр развели. Тишина. Речонка еле-еле журчит. Будто тоже дремлет, как и лес, как и травы. И вдруг слышим: «Буль-буль-буль...» Не то кто-то идёт, не то плывёт по речке...
– Уж не выдра ли? – насторожился Иван Макарович. – Не похоже... А если корова, так откуда ей здесь быть... Да и зачем ей речкой идти понадобилось...
Бульканье ближе. Вскоре появился мальчуган. Довольно высокого роста. Белокурый. С синими весёлыми глазами.
– Здравствуйте! – сказал он.
– Здравствуй! – ответили мы.
Разговорились. Пригласили его к костру. Спросили, кто и откуда, как звать. Куда он по речке путь держит.
Мальчик назвался Серёжей и рассказал прелюбопытную историю.
История состояла в том, что Сергея ещё в прошлом году заинтересовал необыкновенный состав воды речки Людянки.
– Ненормальная какая-то вода, – сказал он. – Не то жёсткая, не то мылкая... Странная вода.
– Ну и что из этого? – спросил я.
Он повернулся ко мне и ответил:
– Пока ничего. Но меня и моего друга, Володю-химика, это заинтересовало. Он очень хороший химик. Мы с ним в одном классе учимся. А потом стали исследовать воду Людянки. Нам помог преподаватель химии. И мы обнаружили в составе воды мельчайшие частицы слюды.
– Ну и что же? – ещё раз спросил я.
– На этом основании, – неторопливо и солидно продолжал Серёжа, – я и сделал предположение, что речка Людянка или один из её притоков проходит через залежи или хотя бы через слои слюдяного месторождения и вымывают из слоя мельчайшие частицы.
Мы незаметно переглянулись с Иваном Макаровичем, слушая рассуждения и доводы Сергея.
– К тому же, – продолжал он, – в одной из старых книг нам удалось обнаружить, что эта речка называлась не Людянкой, а Слюдянкой. Буква «С», может быть, потерялась со временем или какой-нибудь землепроходец или даже писарь неправильно записал её название. И речка, названная от слова «слюда», стала называться более знакомым именем от слова «люди».
– Смотри ты, как оно дело-то поворачивается! – любуясь парнем, сказал Иван Макарович. – И я это же самое слыхал. От бабки... – Затем, обратившись к Серёже, он спросил: – И что же ты теперь, парень, хочешь?
– Ничего особенного, – ответил Серёжа. – Найти слюду. Она очень необходима. Неподалёку от нас артель высекает изоляционные шайбы, прокладки. Им привозят слюду издалека. И если мы найдём свою слюду, разве это плохо?
Мы опять переглянулись. Сергей, не замечая этого, продолжал:
– Ведь когда-то, в петровские и в допетровские времена, вывозили слюду с Урала. Не могли же её всю вывезти! Не правда ли?
– Вы правы, молодой человек. – Мне захотелось поверить этому хотя бы для того, чтобы поддержать Серёжу в его догадках.
– И давно ты идёшь по реке? – спросил Иван Макарович.
– Четвёртый день, – мягко ответил Серёжа и, как бы оправдываясь, сказал: – Приходится останавливаться. Делать анализы чуть ли не у каждого ручейка, впадающего в Людянку-Слюдянку, чтобы не потерять путь к месторождению.
– Как же это ты один отважился? – задал сочувственный отеческий вопрос Иван Макарович.
И Серёжа сказал:
– Мы вышли вдвоём. С моим товарищем. С Володей. С химиком. Он, хороший химик, оказался плохим путешественником. Он побоялся идти по реке в глубь леса. К тому же встретилась змея...
– Так-так-так, – снова отозвался Иван Макарович. – А ты, значит, не боишься...
– Нет, я тоже боюсь, – сознался Серёжа. – И ещё как!.. Но ходить по лесам, речкам, горам – моя будущая профессия. К ней надо привыкать уже теперь...
Снова послышалось «так-так», и Серёже было предложено отужинать с нами. Он не отказался. И, слегка покраснев, сознался, что его продуктовые запасы, рассчитанные на десять дней, иссякают.
Мальчуган, появившийся здесь десять-пятнадцать минут тому назад, вдруг стал милым сыном и любимым внуком для двух чужих и неизвестных ему людей.
Его уложили спать в сторожку. Дали ему подушку и покрыли марлевым пологом от комаров. Мы же прокоротали ночь у костра, надеясь отоспаться днём.
Когда Серёжа уснул, Иван Макарович объявил мне:
– Далеко пойдёт парень. Такой не только слюду найдёт – всю землю наизнанку вывернет, всё золото выпотрошит! И там, где о нём не слыхивали.
И я верил в это. И мне так хотелось, чтобы Серёжа нашёл слюду! Пусть тоненький пласт. Пусть крохотное месторождение, не имеющее большого значения. Это подымет его в своих собственных глазах. Это будет настоящим началом трудной профессии.
Серёжа проснулся поздно. Уха, сваренная Иваном Макаровичем, уже остыла. Подогрели. Старик приготовил ему пополнение продуктовых запасов. Я подарил Серёже свой «вечный» электрический фонарик.
Он сказал:
– Ой, что вы! – А увидев, что фонарик дарится ему от всего сердца, сказал: – Я давно мечтал о нём...
Затем, проверив, как работает фонарик, он ещё раз поблагодарил меня и положил его в нагрудный карман...
Серёжа не торопясь надел свои резиновые сапоги, взвалил потяжелевший вещевой мешок, затем вооружился своим посохом с железным наконечником, напоминающим копьё, и стал прощаться.
Мы обменялись адресами. Вскоре послышалось удаляющееся «буль-буль». Серёжа уходил вверх по реке...
– Найдёт, думаешь? – спросил Иван Макарович и, не дожидаясь ответа, сказал: – Обязательно найдёт. Такие всегда находят.

Египетские голуби

Голубятню Сеня построил хорошую, тёплую. Дядя помог. Дядя, как и Сенина мать, служил тоже дворником, только в другом доме.
Теперь оставалось раздобыть деньги на покупку голубей. Это дело нелёгкое. Кроме Сени, у матери ещё трое ребят, и у неё каждая копейка на счету. Но всё же Сеня сумел скопить кое-что. И если бы продать коньки, то у него бы хватило денег на пару простых голубей. А потом у них появятся голубята. Голубята подрастут, и у них тоже выведутся голубята... И так бы пошло.
Но как можно лишаться коньков! Они необходимы девятилетнему человеку. Голуби не могут заменить катание на коньках. А занять мальчику деньги не у кого. Да и как займёшь? Отдавать ведь надо.
Как-то, в большом раздумье, сидел Сеня возле своей голубятни. К нему подошёл жилец из девятой квартиры. Андрей Олимпиевич. Артист. Очень хороший человек. Ему и роли в театре давали тоже хорошие. Он играл добрых стариков. Сеня уже раз пять видел Андрея Олимпиевича в театре и хлопал ему больше всех. И вообще у них была дружба, потому что у Андрея Олимпиевича не было сыновей. Да и никого у него не было, кроме Медвежки. Хорошая собака, только ужасно глупая. Галоши грызла.
– Ну, как дела, орёл? – спросил Сеню Андрей Олимпиевич.
И Сеня рассказал о своих затруднениях. На это Андрей Олимпиевич ответил так:
– Купи на свои деньги корму, а об остальном позабочусь я.
И он позаботился. В воскресенье у Сени появилась пара удивительно красивых голубей. В них было прекрасно всё, и особенно хвосты. Они, как раскрытые веера, настолько украшали птиц, что Сеня даже дрожал от радости. Он знал по рассказам других, что есть редкая порода павлиньих голубей, у которых именно такие хвосты.
– Как называются, Андрей Олимпиевич, эти голуби? – спросил Сеня.
Андрей Олимпиевич улыбнулся в ответ, потом обнял Сеню и таинственным шёпотом сказал:
– Это, мой друг, египетские голуби. Да, египетские.
И Сеня не стал оспаривать. Ему даже было приятно, что у него появились египетские, а не какие-то другие голуби, потому что в эти дни все говорили о Египте. Говорили о том, как на Египет напали чужеземные войска.
Сеня слышал, что на свете есть такая страна – Египет, но где она находится, он не знал: географию не изучали в третьем классе. Но, так как голуби были египетские, Сене пришлось получше узнать о Египте. И он узнал. И ему Египет и египтяне очень понравились, потому что они любят и защищают свою страну и никакими бомбами их нельзя запугать.
А если египтяне хорошие, то у них не могут быть плохие голуби. Не зря же Андрей Олимпиевич купил именно этих голубей! И, наверное, для того, чтобы сбить цену египетским голубям, называли их «павлинками». Пусть как угодно называют, хоть индюшками, пусть каких угодно предлагают, Сеня не будет обменивать подаренное. Он никому не отдаст своих голубей, которые, может быть, прилетели сюда, спасаясь от войны.
Вскоре в Москве начались демонстрации. Люди несли на палках фанерные, картонные листы, и на листах было написано: «Руки прочь от Египта!» Некоторые несли нарисованных голубей, а некоторые – живых.
Сеня пристал к одной такой демонстрации. Потому, что он тоже возмущался и ему тоже не хотелось» чтобы захватчики надругались над египетской землёй. Ведь это же, кроме всего прочего, родина его голубей!
Египетское посольство было далеко от дома, где жил Сеня. А Сеня жил у заставы Ильича. Но ему нетрудно было прошагать с демонстрацией через весь город – на улицу Герцена, где жил египетский посол.
Когда посол вышел на крыльцо, чтобы поблагодарить демонстрацию, Сеня впервые увидел живого египтянина. Посол ему показался очень красивым и очень вежливым. И это было вполне понятно для Сени.
Когда посол произносил на своём языке речь, два мальчика выпустили двух голубей. Маловажных. Вроде тех, что предлагали Сене. Они взлетели тяжело, как курицы, и посол, наверное, даже не посмотрел на них.
И Сеня подумал: «Если бы я выпустил своих египетских, посол бы очень обрадовался. Он бы сразу узнал своих родных голубей».
Так он подумал, но сделать этого не собирался, потому что его голуби ещё не обсиделись в голубятне. И они не прилетели бы с улицы Герцена через всю Москву к заставе Ильича. А выпустить перед египетским послом египетских голубей Сене очень хотелось.
На другой день демонстраций было ещё больше, и ещё больше несли голубей. И Сеня не выдержал. Он посадил своих голубей в ту же корзину, в которой принёс их Андрей Олимпиевич.
И вот настала минута, когда нужно было выпустить голубей. Сеня протискался вперёд, к крыльцу посольства, и выпустил перед египетским послом своих египетских голубей.
Голуби взлетели так быстро, что посол едва заметил их. Но всё же Сене показалось, что он улыбнулся ему. А демонстранты похвалили Сеню. Один даже сказал:
– Настоящий парень!
Это всё было бы очень приятно, если бы голуби полетели в сторону дома. Они полетели на Красную Пресню. Совсем в другую сторону.
Сеня помчался домой. Он страшно спешил, ехал с пересадками. Тяжело дыша, он подбежал к открытой голубятне.
Голуби не вернулись. «Может быть, ищут дорогу домой», – подумал он и решил ждать.
Время шло, а голуби не возвращались.
Андрей Олимпиевич застал Сеню плачущим подле голубятни. Узнав, в чём дело, растроганный артист твёрдо сказал:
– Голуби улетели в Египет и скоро вернутся. Обязательно вернутся! Как могут они не вернуться к такому хорошему мальчику, который не пожалел для Египта единственную пару своих голубей?
– Когда? – спросил Сеня. – Когда?
И Андрей Олимпиевич ответил на это:
– Нужно подсчитать дни. Пойдём ко мне.
Когда Сеня появился в квартире Андрея Олимпиевича, начался сложный подсчёт. Друзья оказались перед развёрнутой картой мира.
Андрей Олимпиевич взял линеечку и стал говорить:
– Сейчас твои голуби летят где-нибудь между Орлом и Курском. Вот здесь. – Он показал на карте. – Если они полетят прямой дорогой в Египет, то вернее всего, что заночуют в Крыму. Да. В Симферополе или даже в Севастополе.
Артист положил на карту линейку и прочертил карандашиком прямую линию от Москвы до главного города Египта – Каира. И оказалось, что прямой путь голубей проходит через Севастополь.
– Вы думаете, Андрей Олимпиевич, они в самом деле полетели к себе на родину? – спросил Сеня.
– Не думаю, а знаю, – сказал артист. – Уж кому-кому, а мне известны повадки египетских голубей. Они очень часто летают к себе домой и возвращаются со своими родственниками. С двоюродными братьями, сёстрами, просто с хорошими знакомыми.
– А зачем?
– Во имя дружбы. Да и потом, всякому разумному голубю понятно, что в хорошей голубятне, в такой, как у тебя, веселее жить большой компанией.
У Сени раскраснелось лицо. Глаза зажглись двумя синими огнями. Он, часто замигав, спросил:
– И вы думаете, Андрей Олимпиевич, что и мои прилетят с двоюродными братцами?
– Убеждён.
– А когда?
– Давай продолжим вычисления... Сегодня, мне кажется, они переночуют в Севастополе. Их, наверное, покормят моряки. Они страшно любят чаек, голубей. Вообще это удивительно милые люди. А утром голуби полетят через Чёрное море. И, как мне кажется, они остановятся где-нибудь на берегу Средиземного моря.
– Вот тут? – спросил Сеня, указав на карте точку пересечения карандашной линии и берега Средиземного моря.
– Да. Здесь им необходимо будет отдохнуть. Пообедать. Я думаю, что в Турции тоже немало хороших людей, и они бросят им горсть кукурузных зёрен. А потом голуби полетят через большое Средиземное море прямо в Каир.
– Но ведь там война, – сказал Сеня. – А вдруг они будут убиты?
Артист на минуту задумался, а потом ответил:
– Такая возможность, конечно, не исключена. Но будем надеяться на лучшее. Не такие же дурачки твои голуби, чтобы лезть под бомбы! Облетят сторонкой. Словом, послезавтра, в среду вечером, они долетят. Четверг они проведут в Египте. Полетают по родным, по знакомым... Поклюют в гостях хороших зёрен и, наверное, в пятницу... нет, вернее всего, в субботу утром они вылетят обратно. Тем же путём. Значит, в воскресенье вечером нужно будет открыть голубятню, насыпать овсянки и гороху. Вот и всё. Не так уж долго тебе ждать до воскресенья.
Затем Андрей Олимпиевич стал собираться в театр. Он был занят в спектакле.
Сеня, счастливый, отправился домой. Ему снились хорошие сны. Он видел море, над которым летят его голуби. Высоко-высоко. Он видел, как встречали в голубиных гнёздах гостей из Москвы. Египетские голуби хотя и ворковали на своём египетском языке, но Сене всё было понятно. Они хвалили свою московскую голубятню у заставы Ильича и очень хорошо говорили о Сене.
Дни шли медленно, но шли. Настало воскресенье.
Андрей Олимпиевич, уходя куда-то, сказал:
– Не забудь открыть сегодня голубятню. Вечером они должны прилететь.
Сеня весь день просидел у своей голубятни, а голуби не прилетали.
Настал вечер. Мать позвала Сеню домой. А как уйти? Они прилетят, а кто закроет дверцы?
Выручил Андрей Олимпиевич. Он сказал:
– Я подежурю. У меня сегодня нет спектакля. Они могут прилететь поздно ночью. Дует встречный северный ветер, им трудно лететь. Спи!
И Сеня уснул. Он проснулся, когда ещё совсем было темно. Мать, подавая ему ключ от голубятни, сказала:
– Андрей Олимпиевич велел сказать тебе, что они прилетели в полночь. Шесть штук. Чем кормить станешь такую ораву?
Никогда ещё не было таким торопливым одевание. Сеня выбежал из дому не умывшись. Подбежав к своей голубятне, он увидел шестёрку пугливых голубей.
Среди них он не узнал своей старой пары, которая была знакома ему до пёрышка, до коготка.
«Может быть, изменились в дороге», – решил он, не желая думать иначе, хотя ему в голову лезли всякие подозрения относительно появления голубей в воскресенье – в этот единственный день недели, когда в Москве открыт птичий рынок.
И в классе не верили, что Сенины голуби летали в Египет и вернулись оттуда вшестером. Не верили, но рассказывали на разные лады о том, как египетские голуби, побывав на родине, прилетели в Москву.
В театре, где работал Андрей Олимпиевич, артисты тоже не верили рассказу о египетских голубях. Не верили, но пересказывали эту историю за кулисами и дома.
Я тоже не верю этому. Но мне так приятно переносить сейчас на бумагу рассказ о египетских голубях, услышанный мною в театре, где играет хорошие роли добрых стариков превосходнейший человек и отличный артист Андрей Олимпиевич.