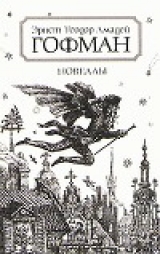
Текст книги "Известие о дальнейших судьбах собаки Берганца"
Автор книги: Эрнст Теодор Амадей Гофман
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 5 страниц)
Гофман Эрнст Теодор Амадей
Известие о дальнейших судьбах собаки Берганца[1]1
Написано в феврале – марте 1813 г. По настоянию К.-Ф.Кунца первоначальный текст был сокращен, а также сняты пассажи, где слишком явно просматривалась мишень гофмановской сатиры. Впервые опубликовано во 2-м т. «Фантазий...» (1814); с рядом стилистических поправок включено в 1-й т. 2-го изд. (1819). Комментарии Г.Шевченко
[Закрыть]
Из "Фантазий в манере Калло"
Как Оссиановы призраки из густого тумана[2]2
Как Оссиановы призраки из густого тумана... – Намек на призрачный ландшафт в «Поэмах Оссиана» (1765), сочиненных шотландским поэтом Джеймсом Макферсовом (1736-1796).
[Закрыть], вышел я на вольный воздух из комнаты, полной табачного дыма. Ярко светила луна, – на мое счастье: покамест всевозможные мысли, идеи, замыслы, подобно мелодии души, лились во мне под гармонический аккомпанемент шумного говора гостей, я не слышал боя часов и оттого засиделся; теперь же, чтобы попасть обратно в город, мне надо было еще с четверть часа идти пешком через парк. Известно, что в У. тебя прямо от трактира сперва перевозят через реку, а затем, на другом берегу, ты попадаешь в парк, который тянется до самого города. Следуя указанию перевозчика – неукоснительно держаться широкой аллеи, ибо так я никоим образом не заблужусь, я быстро зашагал в ночной прохладе и успел уже миновать ярко мерцавшую в лунном свете статую Святого Непомука[3]3
Святой Непомук (ок. 1340-1393) – легендарный христианский святой, покровитель Чехии.
[Закрыть], как вдруг услышал, что кто-то несколько раз тяжело и горестно вздохнул. Я невольно остановился – у меня мелькнуло радостное предчувствие: вдруг да со мной случится что-то необыкновенное, к чему в этой однообразной будничной жизни всегда были устремлены мои желания и мольбы, и я решил отыскать вздыхавшего. Пойдя на звук, я очутился в зарослях позади Святого Непомука, возле дерновой скамьи. Тут вздохи разом прекратились, и я было уже подумал, что ослышался, как вдруг услыхал прямо у себя за спиной глухой дрожащий голос, который с трудом и надрывом произнес такие слова:
– Жестокий рок! Проклятая Каньисарес, значит, твоя злоба сохраняет силу и после смерти? Разве не встретила ты в аду свою мерзкую Монтиелу вместе с ее сатанинским отродьем? О! О! О!
Я никого не видел, казалось, звуки исходят откуда-то снизу, и вдруг передо мной встал на ноги черный бульдог, лежавший у самой дерновой скамьи, но тут же опять упал в страшных конвульсиях и как будто бы испустил дух. Несомненно, это он вздыхал и произносил те слова, и, по правде говоря, это показалось мне немного странным, ведь я еще никогда не слыхал, чтобы собака разговаривала так внятно, однако я собрался с духом и порешил, что стоит постараться и оказать всю посильную мне помощь этому страждущему животному, коему в эту светлую лунную ночь возле статуи Святого Непомука страх смерти, должно быть, впервые развязал долгое время скованный язык. Я зачерпнул шляпой воды в протекавшей неподалеку реке и обрызгал бульдога, после чего он раскрыл горящие глаза и рыча оскалил зубы, каких не постыдилась бы и борзая, загнавшая в одиночку зайца. Мне стало при этом как-то не по себе, однако я подумал, что от понятливой собаки, которая говорит, а стало быть, и понимает, что говорят ей, можно добром добиться всего.
– Сударь, – начал я, – только что вам было немного худо. Вы, так сказать, чуть было не пошли псу под хвост, невзирая на то, что вы сами, видимо, изволите быть псом. Воистину! Тем, что вы сейчас еще бросаете такие устрашающие взгляды и можете еще что-то прорычать, вы обязаны исключительно воде, которую я зачерпнул в протекающей поблизости реке и принес вам в своей совершенно новой шляпе, презрев явную опасность промочить сапоги.
Пес с трудом поднялся и, пока он устраивался поудобней, вытянув передние лапы и повернув туловище вбок, он смотрел на меня долгим, правда, уже более мягким взглядом, чем раньше; казалось, он обдумывает, стоит ему говорить или нет. Наконец он заговорил:
– Так ты мне помог? Право же, если бы выражался ты не столь изящно, я бы мог усомниться в том, что ты и впрямь человек! Но ты, верно, слышал, как я разговаривал, ведь у меня есть дурная привычка разговаривать с самим собой, когда небо наделяет меня даром речи, так что скорее лишь простое любопытство побудило тебя оказать мне помощь. Искреннее сочувствие к собаке – это нечто вовсе не свойственное человеку.
Придерживаясь однажды взятого вежливого тона, я пытался объяснить собаке, как я вообще люблю ее племя, а среди этого племени особенно ту породу, к которой принадлежит она. Мопсов и болонок я бесконечно презираю, как изнеженных паразитов, лишенных всякого героического чувства. Найдется ли здесь, на грешной земле, такое существо, что станет отворачивать ухо от сладостного звука лести? И вот, даже ухо этого бульдога охотно склонилось к моей благозвучной речи и едва заметное, но грациозное повиливанье хвостом подтвердило растущее благоволение ко мне в душе этого пса Тимона[4]4
Тимон (Афинский) – современник Сократа. Нарицательная фигура мизантропа.
[Закрыть].
– Мне кажется, – начал он глухим, чуть слышным голосом, – мне кажется, ты послан небом для вящего моего утешения, ибо ты вызываешь у меня доверие, какого я не знал уже давно! И даже вода, которую ты мне принес, чудесным образом освежила и подбодрила меня, будто она заключает в себе совершенно особую силу. Если же теперь я позволю себе говорить, то для меня будет облегчением вдосталь наговориться на людской манер о моих горестях и радостях, ведь ваш язык, видимо, для того и предназначен, чтобы внятно излагать события словами, придуманными для столь многих предметов и явлений на свете, хотя касательно внутренних состояний души и вытекающих отсюда всевозможных отношений и сочетаний с вещами внешними, то, как мне сдается, для выражения оных и моего ворчанья, рычанья и лая, настроенных на тысячу ступеней и ладов, не менее, если не более достаточно, чем ваших слов, и нередко, не будучи понят на своем собачьем языке, я полагал, что дело тут скорее в вас, ибо вы не стремитесь меня понять, нежели во мне, не сумевшем выразиться подобающим образом.
– Дорогой друг, – перебил я его, – ты только что затронул и впрямь глубокую мысль о нашем языке, и мне кажется, что ты сочетаешь в себе разум с душой, а это встречается поистине очень редко. Пойми при сем правильно выражение "душа" или, вернее, не сомневайся в том, что для меня это не просто пошлое слово, как для многих вполне бездушных людей, которые без конца его повторяют. Однако я тебя перебил!
– Признайся честно, – возразила собака, – только страх перед необычным, мои невнятные слова, мой облик, а в лунном свете он не больно-то способен внушить доверие, – сделали тебя поначалу таким покладистым, таким вежливым. Теперь же ты проникся ко мне доверием, ты говоришь мне "ты", и мне это нравится. Хочешь, мы проболтаем с тобой всю ночь – быть может, сегодня ты развлечешься лучше, чем вчера, когда ты, весьма не в духе, выкатился вниз по лестнице из ученого собрания.
– Как, ты меня вчера?..
– Да, теперь я и в самом деле припоминаю, что именно ты чуть было не наскочил на меня в том доме; как я туда попал – об этом после, теперь я хочу тебе как старому другу, без околичностей открыть, с кем ты говоришь!
– Видишь, с каким нетерпением я слушаю.
– Так знай же: я та самая собака Берганца[5]5
...я та самая собака Берганца... – Имеется в виду персонаж «Новеллы о беседе собак» Сервантеса из цикла «Назидательные новеллы» (1613). Новелла построена как диалог на темы человеческих нравов, ведущийся двумя собаками – Берганцой и Сципионом (в испанской транслитерации: Берганса и Сипио). В дальнейшем упоминается ряд событий и персонажей из этой новеллы.
[Закрыть], которая более ста лет тому назад в Вальядолиде, в госпитале Воскресения Христова...
Имя Берганца так наэлектризовало меня, что сдерживаться долее я не мог.
– Приятель! – вскричал я в приливе радости. – Как? Вы и есть тот замечательный, умный, рассудительный, добродушный пес Берганца, в существование коего ни за что не хотел верить лиценциат Перальта, но чьи золотые слова хорошенько намотал себе на ус поручик Кампусано? О Боже, как же я рад, что нынче я с глазу на глаз со славным Берганцой...
– Стоп, стоп, – воскликнул Берганца, – а как я рад, что именно той ночью, когда ко мне вернулась речь, я снова встретил в лесу хорошо известного мне человека, который уже не одну неделю, не один месяц попусту тратит здесь время, носясь иной раз с веселой, реже – с поэтической фантазией, вечно без денег в кармане, зато, тем чаще, – с лишним бокалом вина в голове; который сочиняет плохие стихи и хорошую музыку, которого девять десятых сограждан терпеть не могут, так как считают его неумным, которого...
– Тихо, тихо, Берганца! Я вижу, что ты уж слишком хорошо меня знаешь, а потому отбрасываю всякую робость. Прежде чем ты все же расскажешь мне (а я надеюсь, что ты это сделаешь), каким чудесным образом ты сохранился со столь давних времен и, наконец, попал из Вальядолида сюда, скажи-ка, почему тебе, как мне сдается, столь не по душе мое житье-бытье?
– Ничего подобного, – возразил Берганца, – я уважаю твои литературные труды и твое поэтическое чувство. Так, например, наш сегодняшний разговор ты без сомнения запишешь и отдашь печатать, а посему я буду стараться показать себя с наилучшей стороны и говорить так красиво, как только смогу. Однако, друг мой, уж поверь, с тобой говорит собака с большим опытом! Кровь, что течет у тебя в жилах, слишком горяча, твоя фантазия из озорства часто разрывает магические круги и бросает тебя, неподготовленного, без оружия и защиты в некое царство, где враждебные духи могут однажды тебя уничтожить. Чувствуешь ты это, так пей поменьше вина, а дабы примириться с теми девятью десятыми, что считают тебя неумным, повесь у себя над рабочим столом, на дверях комнаты и где бы ты ни пожелал еще золотое правило отца-францисканца[6]6
...золотое правило отца-францисканца... – Имеется в виду высказывание героя романа Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль» (1551) в передаче другого литературного героя – племянника Рамо из одноименной книги Д.Дидро: «Мудрость монаха, описанного Рабле, – истинная мудрость, нужная для его спокойствия и для спокойствия других: она – в том, чтобы кое-как исполнять свой долг, всегда хорошо отзываться о настоятеле и не мешать людям жить так, как им вздумается».
[Закрыть], согласно коему надо предоставить вещам в мире идти своим ходом, а об отце настоятеле не говорить ничего, кроме хорошего! Но скажи мне, мой друг! Нет ли у тебя с собой чего-нибудь такого, чем бы мог я хотя бы немного заглушить тот волчий аппетит, что вдруг у меня разыгрался?
Я вспомнил про бутерброд, который брал с собой на одинокую утреннюю прогулку, но не съел, и нашел его в кармане еще завернутым.
– Колбаса или вообще кусок мяса были бы мне больше по вкусу, но на безрыбье и рак рыба, – сказал Берганца и с удовольствием съел бутерброд, который я кусками клал ему в рот. Когда все было съедено, он попытался раз-другой прыгнуть, но прыжки получились довольно натужными и неловкими, причем он много раз громко всхлипывал и чихал по-человечьи; потом он улегся в позе сфинкса прямо перед дерновой скамьей, на которой я сидел, и, уставившись на меня своими сверкающими глазами, так начал свою речь:
– Двадцати дней и ночей, дорогой мой друг, не хватило бы на то, чтобы поведать тебе обо всех удивительных событиях, разнообразных приключениях и необычайных переживаниях, коими была заполнена моя жизнь с того времени, как я покинул госпиталь Воскресения в Вальядолиде. Однако тебе надобно знать лишь о том, каким образом я оставил службу у Махуда, и о последних перипетиях в моей судьбе, но и рассказ об этом будет столь длинным, что я принужден тебя просить пореже меня перебивать. Лишь несколько слов, лишь иногда какое-то рассуждение могу я тебе позволить, если оно будет толковым, если же оно глупо, то оставь его при себе и не мешай мне без нужды, ибо у меня хорошие легкие и я могу говорить долго, не переводя дыхания.
Я пообещал это, протянув ему правую руку, в которую он вложил свою сильную правую переднюю лапу, а я пожал и потряс ее на славный немецкий манер. Один из прекраснейших дружеских Союзов, какие когда-либо довелось освещать луне, был заключен, и Берганца продолжал свою речь.
Берганца. Ты помнишь, что в ту пору, когда мне и моему усопшему другу Сципиону (да ниспошлет ему небо отрадное воскресение) впервые был дан дар речи, поручик Кампусано, который, терзаясь чудовищными болями, безмолвно лежал в госпитале на матраце, подслушал наш разговор. А поскольку превосходный дон Мигель де Сервантес Сааведра поведал миру об открытии Кампусано, то я вправе предположить, что мои тогдашние дела, о которых я сообщил моему дорогому незабвенному другу Сципиону, тебе в точности известны. Стало быть, ты знаешь, что моей обязанностью было нести фонарь впереди нищенствующих монахов, собиравших милостыню для госпиталя. И вот случилось так, что на самой отдаленной от нашего монастыря улице, где одна старая дама каждый раз щедро нам подавала, пришлось мне дольше обыкновенного стоять со светильником, так как благодетельная рука все не показывалась из окна. Махуд крикнул мне, чтобы я уходил подальше от этого места, – о, если бы я послушался его совета! Но злые враждебные силы объединились в гибельную комбинацию, она-то и решила мою злосчастную судьбу. Сципион предостерегающе выл, Махуд просил меня жалобным тоном. Я уж хотел было уйти, но тут в окне что-то зашуршало – какой-то узелок упал вниз, я бросился к нему, но почувствовал, что меня обхватили сухие руки-змеи, длинная аистиная шея вытянулась над моим затылком, морды моей коснулся острый, холодный, как лед, ястребиный клюв, синие губы с чумными испарениями дохнули на меня смертоносным дыханием ада, – зубы мои разжались, выпустив фонарь, и он был разбит ударом кулака.
"Наконец-то я тебя поймала, ублюдок ты этакий, – мерзкий, любимый Монтиель! Теперь уж я тебя не отпущу, о мой сын Монтиель, славный мой мальчик, теперь уж я тебя не отпущу!"
Так кричал мне в уши трескучий голос страшилища! Ах, я был вне себя проклятое исчадие ада, окаянная Каньисарес, – это она вспрыгнула мне на спину и крепко обхватила руками; дыхание у меня пресеклось. Я бы отважился сцепиться с искуснейшим вожаком ищеек и его подручными – такой я был откормленный и сильный, но тут мужество меня оставило. О, чтоб Вельзевул тысячу раз утопил тебя в своем серном болоте! Я чувствовал, как этот отвратительный труп впивается мне в ребра. Ее груди болтались у меня на шее, словно кожаные мешки, меж тем как длинные высохшие ноги влачились по земле, а разорванное платье обволакивало мне лапы! О, страшный, злосчастный миг!
Я. Что такое, Берганца, голос твой пресекся, я вижу слезы у тебя на глазах? Разве ты способен плакать? Научился ли ты этому от нас или это выражение скорби у тебя природное?
Берганца. Благодарю тебя. Ты так вовремя прервал мой рассказ, теперь впечатление от той жуткой сцены смягчилось, но прежде чем я продолжу, я могу тебе кое-что сказать о природе моих дорогих собратьев, и ты хорошо сделаешь, ежели как следует это запомнишь. Неужто ты никогда еще не видел, как плачет собака? Конечно, нас тоже, как вас, природа со странной иронией принудила искать во влажной стихии выражение растроганности и боли и, напротив того, совсем отказала нам в том сотрясении диафрагмы, благодаря коему возникают дурацкие звуки, какие вы зовете смехом. Так что смех, должно быть, гораздо человечнее, нежели плач. Однако вместо вашего смеха нам благосклонно даровано возмещение в виде особого организма, одушевляющего ту часть нашего тела, в коей природа вам отказала вовсе, или же, как утверждают некоторые физиологи, кою вы сами, не признавая и отвергая ее красу, постоянно произвольно отбрасывали и под конец утратили совсем. Я имею в виду не что иное, как то стократно видоизменяемое движение нашего хвоста, посредством какового мы умеем показать все нюансы нашего удовольствия, от тишайше шевельнувшейся радости вплоть до самого разнузданного веселья, и каковое вы называете достаточно скверно – виляньем. Благородство души, величие, сила, прелесть и грация у нас заявляют о себе положением хвоста, и потому эта часть столь же прекрасно передает выражение нашего душевного благополучия, как совершенно спрятанный, поджатый хвост есть выражение величайшего страха, мучительнейшей печали. Однако вернемся-ка к моему жуткому приключению.
Я. Твое размышление о тебе и твоем племени, дорогой Берганца, свидетельствует о присущем тебе философском уме, а посему я охотно пойду на то, чтобы ты время от времени прерывал свою историю.
Берганца. Я все больше надеюсь убедить тебя в благородстве моего племени. Разве движение хвоста, свойственное кошкам, не казалось тебе с давних пор раздражающим, даже невыносимым? Разве не служат эти извилистые, спиралеобразные повороты изъявлением притворной дружбы, скрытой коварной насмешки, ожесточенной ненависти? И напротив, с каким открытым простодушием, с какой непритворной веселостью виляет хвостом наш брат! Задумайся над этим, мой дорогой, и цени собак!
Я. Неужели нет! Ты, дорогой Берганца, внушил мне искреннее почтение к тебе и тебе подобным, какое я буду питать к вам всю жизнь! А теперь продолжай свой жуткий рассказ.
Берганца. Я стал бешено кусаться направо и налево, но чудовище даже не ранил. Плотно прижимаясь к стене, я наконец с силой наступил на платье, обвившееся вокруг моих лап, так удалось мне стащить эту бабу вниз. Тут я хватил ее зубами за руку, она испустила ужасающий крик, и, сделав мощный отважный прыжок, я отшвырнул ее далеко назад.
Я. Слава богу, спасен.
Берганца. О, послушай-ка дальше. В полном исступлении пронесся я мимо госпиталя, за городские ворота, – прочь, прочь оттуда, без удержу, в ночной мрак. Издали мне блеснул навстречу огонь, в три прыжка я очутился на перекрестке. Посреди него под треножником, на котором стоял котел странной формы, пылал огонь, замеченный мной еще издалека. У котла сидела, выпрямившись, огромная жаба, испещренная безобразными яркими пятнами, и помешивала в нем длинной ложкой, так что кипящее варево, пенясь, шипя и брызгая, бежало через край, прямо в огонь, откуда вылетали кроваво-красные искры и в гнусных сочетаниях падали на землю. Ящерицы с глупо смеющимися человеческими лицами, зеркально гладкие черные хорьки, мыши с вороньими головами, всевозможные мерзкие насекомые, – все вперемешку дико носились вокруг, все более и более сужая круги, а большой черный кот со сверкающими глазами жадно хватал то одного, то другого и, урча, поедал добычу. Я стоял как околдованный, мороз подирал меня по коже, и я чувствовал, что шерсть моя стала дыбом, как щетина. Жаба с ее неизменным и неустанным помешиванием в котле, с ее харей, которая, неся в себе нечто человеческое, надо всем человеческим издевалась, являла отвратительное зрелище. Но кот – вот на кого я хотел налететь! Да ведь этот черный тип – из того мурлыкающего, мяукающего, льстивого, игривого, лживого племени, подумал я, которое от природы тебе претит? И я вмиг почувствовал в себе мужество побороть даже всю эту чертовщину, коли она представляется в образе моего природного врага. Прыгнуть, вонзить клыки – и всей этой нечистой силе конец! Я уже поджидал благоприятный момент, когда кот достаточно приблизится ко мне, чтобы я мог надежно и цепко его схватить, как вдруг вверху раздался пронзительный голос: "Монтиель! Монтиель!"
Я. Ах, Берганца, я чую неладное. Но продолжай.
Берганца. Ты видишь, как рассказ выводит меня из равновесия: однако картина той роковой ночи и ныне оживает во мне точно так же, как бывало всегда, когда мое существование... Но я не хочу забегать вперед.
Я. Так рассказывай дальше.
Берганца. Друг мой! Слушать-то легко, а вот рассказчик потеет и едва переводит дух, стараясь должным образом облечь в слова, в стройные периоды все чудеса, все странные приключения, что запали ему в душу. Я чувствую себя ужасно измотанным и ужасно тоскую по хорошо приготовленной жареной сардельке, моему любимому кушанью; но поскольку тут ее не получить, то мне, разумеется, придется без всякого подкрепления продолжать повесть о моих приключениях.
Я. Я очень этого жду, хотя не могу побороть невольную дрожь. То, что ты умеешь говорить, больше не кажется мне чем-то необыкновенным, только я все время вглядываюсь в деревья, не высунется ли оттуда, смеясь, такая вот противная ящерица с человечьим лицом.
Берганца. "Монтиель! Монтиель!" – раздалось надо мной. Вдруг я увидел, что меня окружают семь высоченных тощих старух; семь раз мне казалось, что я вижу распроклятую Каньисарес, и все же это была опять не она, так как неуловимо менявшиеся черты этих сморщенных лиц с острыми ястребиными носами, с глазами, мечущими зеленые искры, с беззубыми ртами делали самое знакомое чуждым, самое чуждое – знакомым. Они завели визгливую песню и принялись с причудливыми ужимками все бешеней вертеться вокруг котла, так что их черные как смоль волосы далеко развевались по ветру, а рваные одежды едва прикрывали отвратительно желтую наготу. Их пенье перемежалось резкими вскриками черного кота, а когда он, совсем по-кошачьи, фыркал и чихал, кругом разлетались искры. Он прыгал на шею то к одной, то к другой из этих старух, и тогда все останавливались, а эта кружилась как вихрь и, танцуя, прижимала кота к себе, пока он не соскакивал вниз. Тут жаба стала все больше и больше разбухать и вдруг бросилась в дымящийся котел, его содержимое выплеснулось в огонь, и пламя, смешавшись с водой, вскипало, и шипело, и потрескивало, и взблескивало тысячами мерзких образин, а они вспыхивали и исчезали, сменяя друг друга с умопомрачительной, ошеломляющей быстротой. То были престранные уродливые звери, копирующие человеческие лица; то были люди в жутко искаженном виде, со звериными телами, – смешавшись в схватке, они бросались друг на друга, вгрызались друг в друга и, борясь, сами себя пожирали. А в густом серном дыму полыхающего котла, все бешеней вертясь, плясали ведьмы.
Я. Берганца, это слишком жутко... даже на твоей физиономии... перестань, прошу тебя, ты так вращаешь своими вообще-то умными глазами...
Берганца. Сейчас не надо перебивать меня, мой друг! Послушай лучше таинственную и жуткую песню ведьм, она крепко засела у меня в памяти:
Мать несется на сове!
Слышен шум совиных крыл!
Юнкер сына обдурил.
Сын за мать вину искупит,
Кровь в огне вот-вот проступит.
Мать несется на сове!
Слышен шум совиных крыл!
Кто обман тут весь открыл?
Петуха задушит кот.
Коль петух опять солжет.
Мать несется на сове!
Слышен шум совиных крыл!
Пять и семь – прибавка сил.
Саламандры в воздух взвились,
Кобольды вослед пустились.
Так звучали слова песни, которую провизжали семь страшилищ. Высоко надо мной раздавался голос: "О мой сын Монтиель, противься юнкеру, противься юнкеру!" Тут, злобно фыркая и пуская искры, на меня бросился черный кот, я, однако, собрал всю свою силу, поскольку же моим передним лапам ("лапа" нравится мне куда больше, чем вялое, женственное слово "рука"! Если бы я еще мог сказать "лап", но это запрещают ваши обкорнанные Аделунги[7]7
...обкорнанные Аделунги... – Речь идет об адаптированных для школьного обихода книгах и справочниках немецкого филолога-германиста Иоганна Кристофа Аделунга (1732-1806).
[Закрыть]!), – я хотел сказать: поскольку же моим передним лапам присуща особая крепость и сила, то я поверг моего врага наземь и крепко впился в него своими острыми зубами, невзирая на подлый ракетный огонь, с треском вылетавший у него из носа, из глаз, изо рта и ушей. Тут ведьмы подняли пронзительный вой и плач, бросились на землю и стали длинными ногтями костлявых пальцев в кровь раздирать свои свисающие груди. Но я свою добычу не выпускал. Чу! – в воздухе какой-то шум, шуршанье. Верхом на сове спускается старая седенькая бабушка, обликом своим совсем не похожая на остальных. Остекленевший глаз смеется, пронизывая меня взглядом призрака.
"Монтиела!" – визжит семерка, тут словно ток пробегает по моим нервам, я выпускаю кота. С кряхтеньем и криками уносится он прочь на кроваво-красном луче. Меня обтекают густые клубы пара, я задыхаюсь, теряю сознание и падаю без чувств.
Я. Остановись, Берганца; твоему описанию поистине присущ яркий колорит; я вижу эту Монтиелу, крылья ее совы навевают на меня какой-то жуткий холод, – не могу отрицать, что я жажду полного твоего освобождения.
Берганца. Когда я снова пришел в себя, то лежал на земле; я не мог шевельнуть ни единой лапой; семь привидений сидели на корточках вокруг, гладили и мяли меня своими костлявыми ручищами. Моя шерсть сочилась какой-то жидкостью, которой они меня умастили, и неописуемое чувство дрожью пронизывало мое нутро. Казалось, я должен выскочить из своего собственного тела, временами я буквально видел себя со стороны, видел лежащего там второго Берганцу, но это же я сам и был, и тот Берганца, что видел другого под руками ведьм, был тоже я, и этот лаял и рычал на лежащего и призывал его хорошенько покусать ведьм и мощным прыжком выскочить из круга, а тот, что лежал... Но что это! Зачем я утомляю тебя, описывая состояние, вызванное адским колдовством и разделившее меня на двух Берганц, которые боролись друг с другом.
Я. Насколько я могу понять из твоей прежней жизни, из речей Каньисарес и обстоятельств слета ведьм, их целью было не что иное, как придать тебе другой облик. Ее сын Монтиель – а они ведь тебя приняли за него – должен был, наверное, обернуться красивым юношей, потому-то они и натерли тебя той пресловутой мазью ведьм, которая способна вызывать такие превращения.
Берганца. Ты совершенно верно угадал. Потому что пока ведьмы меня гладили и мяли, они глухими жалобными голосами пели песню, слова которой указывали на мое превращение:
Сынок, филин шлет поклон,
Котом был изранен он!
Сынок, вершатся дела,
Мать кое-что принесла.
Сынок, от собаки уйди,
Юнкера ты проведи.
Вертись, лихой хоровод,
Сынок, устремись вперед!
А как только они кончали песню, старуха верхом на сове принималась с треском ударять один о другой свои костлявые кулаки, и ее вой прорезал пространство отчаянной жалобой. Мои муки возрастали с каждой минутой, но тут в ближней деревне пропел петух, на востоке заалела заря, и вся сволочь с уханьем и свистом взвилась в воздух, весь кошмар рассеялся и развеялся, а я, одинокий и обессиленный, остался лежать на большой дороге.
Я. Воистину, Берганца, эта сцена взволновала меня, но я поражен тем, что ты, в притупленных чувствах, так хорошо запомнил песни ведьм.
Берганца. Помимо того, что они сто раз провизжали свои ведьмачьи стихи, сказалось и сильное впечатление и муки от их напрасных колдовских ухищрений, все это глубоко запало в меня и невольно пришло на помощь моей и без того верной памяти. Ведь собственно память, в более высоком смысле, заключается, я полагаю, лишь в очень живой, подвижной фантазии, которая, получив толчок, может будто силой волшебства оживить каждую картину прошлого со всеми присущими ей красками и всеми ее случайными особенностями. По крайней мере, я слышал, как это утверждал один из моих бывших хозяев, обладавший поразительной памятью, несмотря на то что он редко запоминал имена и годы.
Я. Он был прав, твой хозяин, и надо сказать, что со словами и речами, которые глубоко проникают в душу и которые ты впитываешь в себя до сокровеннейших глубин сознания, дело тоже обстоит иначе, нежели с вокабулами, выученными наизусть. Но что же произошло с тобою дальше, Берганца?
Берганца. С трудом перебрался я, вялый, обессиленный, каким был в ту минуту, с большой дороги в ближайший кустарник и заснул. Когда я проснулся, солнце стояло высоко в небе, и ведьминское масло растопилось на моей взъерошенной спине. Я бросился в ручей, журчавший среди кустарника, чтобы смыть с себя мерзкую мазь, а потом, с обновленными силами, помчался оттуда прочь, так как не хотел возвращаться в Севилью, где, быть может, еще раз попался бы в руки подлой Каньисарес. А вот теперь примечай хорошенько, ибо сейчас и последует, как мораль после басни, то самое, что тебе необходимо знать, дабы постичь мою жизнь.
Я. Это я и в самом деле хочу услышать. Потому что, когда я вот так на тебя смотрю, когда вот так размышляю о том, что ты уже более ста лет...
Берганца. Не продолжай! Доверие к тебе, которым я проникся, стоит того, чтобы ты меня за него вознаградил, или ты тоже один из тех людей, которые не видят ничего чудесного в том, что вишни цветут, а потом приносят плоды, поскольку потом они могут их съесть, но зато считают ненастоящим все, что до сего времени не могли ощутить физически? О, лиценциат Перальта! Лиценциат Перальта!
Я. Не горячись, дорогой мой Берганца! Как принято говорить, это все слабости человеческие; считай эти сомнения, это неверие в невероятное, которое поднимается во мне против воли, за таковые.
Берганца. Ты сам задаешь мне тон для особой мелодии, которую я скоро заведу! То, как я, вновь оживший и ободрившийся, скакал по лугам и полям, как я тем же способом, который уже известен тебе из моей прежней жизни, благополучно пристраивался то у одного, то у другого, – все это я пропускаю, дабы сразу сказать тебе, что каждый год, в тот роковой день, когда я был загнан в проклятый круг ведьм, я всякий раз особым, мучительным образом чувствовал действие того окаянного колдовства. Если ты мне обещаешь не сердиться на то, что, возможно, будет касаться тебя и твоего племени, если ты не будешь придираться ко мне, испанцу, из-за некоторых, возможно, неправильных выражений, то я попытаюсь...
Я. Берганца! Распознай во мне истинно космополитический ум, но только в ином, а не в обычном смысле. Я не позволяю себе мелочно сортировать и классифицировать природу, и одно то, что ты вообще говоришь, да к тому же так умно, заставляет меня совершенно забыть обо всем, что подчинено этому чудесному обстоятельству. Так что рассказывай, дорогой, как своему другу; говори: каково было действие пресловутой ведьминской мази еще несколько лет спустя?
Тут Берганца встал, отряхнулся и, изогнувшись, принялся левой задней лапой чесать за левым ухом. Хорошенько чихнув еще несколько раз, по случаю чего я взял понюшку и сказал ему: "contentement!"[30]30
Здесь: на здоровье! (фр.)
[Закрыть], он вскочил на скамью, прислонился ко мне, так что его морда едва не касалась моего лица, и разговор наш продолжался.
Берганца. Ночь прохладная, согрейся немножко за счет моего животного тепла, от него в моей черной шерсти иногда даже потрескивают электрические искры, кстати о том, что я собираюсь тебе рассказать теперь, я хотел бы говорить совсем тихо. Как только наступает этот злосчастный день и близится роковой час, то сперва я ощущаю совершенно необычайный аппетит, который в другое время на меня никогда бы не напал. Мне хочется вместо обыкновенной воды выпить хорошего вина, поесть салата с анчоусами. Затем что-то заставляет меня приветливо вилять хвостом при виде людей, которые мне до смерти противны и на которых я обычно рычу. И дальше – больше. Собак, которые под стать мне по силе и храбрости, которых я обычно без страха одолеваю, я теперь обхожу стороной, зато маленьким мопсам и шпицам, с которыми я обычно охотно играю, теперь меня так и подмывает дать сзади пинка, потому что я знаю, что им будет больно, а отомстить они мне не могут. И вот что-то у меня глубоко внутри крутится и переворачивается. Все скользит и плывет перед глазами – новые, неописуемые чувства теснят и пугают меня. Тенистый куст, под которым я обычно люблю полежать и с которым словно бы разговариваю, когда ветер так раскачивает ветки, что из каждого листа, шелестя, проблескивает сладостный звук, – теперь он мне противен; на ясный месяц, перед коим облака, когда они проплывают мимо, наряжаются в роскошное золото, словно перед царем ночи, я не могу и взглянуть, зато что-то неудержимо толкает меня подняться в ярко освещенный зал. Тут мне хотелось бы ходить распрямившись, поджав хвост, хотелось бы надушиться, говорить по-французски, жрать мороженое и чтобы каждый пожимал бы мне лапу и говорил: "mon cher baron" или "mon petit comte!" – и не чувствовал бы во мне ничего собачьего. Да, в такое время для меня это ужасно – быть собакой, и, меж тем как я с быстротою мысли, в своем воображении, превращаюсь в человека, мое состояние становится все тревожней. Я стыжусь того, что когда-либо в теплый весенний день прыгал по лужайке или катался по траве. В жесточайшей борьбе с собой я становлюсь все рассудительней и серьезней. Наконец – я человек, я господствую над природой, которая лишь для того растит деревья, чтобы из них можно было делать столы и стулья, а цветы заставляет цвести, дабы их можно было в виде бутоньерки засунуть в петлицу. И вот, всходя таким образом на высшую ступень, я замечаю, что мною овладевает отупение и глупость и, все нарастая и нарастая, повергает меня наконец в бесчувствие.


