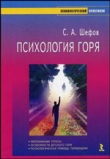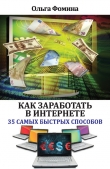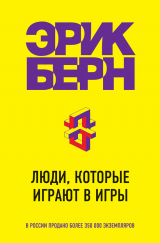
Текст книги "Люди, которые играют в игры"
Автор книги: Эрик Берн
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 33 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Детские иллюзии обычно связаны с наградами за хорошее поведение и с наказаниями – за плохое. «Хороший» ребенок не должен сердиться («Ну и характер!»), вести себя сексуально («Какая нехорошая!»), но может выглядеть испуганным или пристыженным. Таким образом, ребенок должен подавлять свой инстинкт самосохранения и в особенности – инстинкт продолжения рода, проявления которого даже в детстве могут быть очень приятны. Но ему позволено иметь столько неприятных, не приносящих удовлетворения чувств, сколько он пожелает.
Существует много систем с формальными правилами относительно вознаграждений и наказаний. Помимо конституций, принятых повсюду, есть также религиозные и идеологические системы. Половину населения земного шара составляют «истинные верующие» (примерно миллиард христиан и полмиллиарда мусульман), для которых наиболее важны правила, определяющие загробную жизнь. «Языческую» половину во время ее пребывания в бренном мире судят местные боги и национальные правительства. Но для сценарного аналитика самыми важными являются неформальные, скрытые кодексы, специфические для каждой семьи.
Для маленьких детей всегда под рукой Санта-Клаус, который следит за их поведением и ведет счет. Но он для «малышей», а «большие дети» в него не верят, по крайней мере не верят в Санта-Клауса как человека в маскарадном костюме, который приходит ежегодно на Рождество. В сущности, неверие в такого Санта-Клауса и отличает больших детей от маленьких – наряду со знанием, откуда берутся дети. Но у больших детей, а также и у взрослых, есть обновленная версия Санта-Клауса, причем у каждого своя. Некоторые взрослые больше интересуются не самим Санта-Клаусом, а его семьей и твердо верят, что если они будут вести себя соответственно, то рано или поздно у них будет шанс познакомиться либо с его сыном Принцем Очарование, либо с дочерью Снегурочкой, либо с его женой миссис Климакс. Большинство людей всю жизнь проводят в ожидании Санта-Клауса или кого-либо из членов его семьи.
Но на другом полюсе есть природный противник Санта-Клауса. Если Санта-Клаус – веселый старичок в красном тулупчике, который приезжает на оленях с Северного полюса и приносит подарки, его противоположность – это мрачный человек в черном плаще, который приходит с Южного полюса с косой в руках, и зовут его – Смерть. Таким образом, с определенного возраста все человечество распадается на две части, два разных клана: одни проводят жизнь в ожидании Санта-Клауса (Жизни), другие – Смерти. Таковы фундаментальные иллюзии, на которых основаны все сценарии: либо обязательно придет Санта-Клаус и наградит Победителя, либо обязательно придет Смерть и решит все проблемы Неудачника. Итак, первый вопрос, который следует задать относительно иллюзий, таков: «Живете ли вы в ожидании Санта-Клауса или Смерти?»
Но, помимо последней награды (бессмертие) и последнего решения (смерть), существует множество других. Санта может подарить победителю выигрышный лотерейный билет, пожизненное пособие или продолжительную молодость. Смерть может принести увечье, половое бессилие или преждевременную старость, причем каждый такой дар освобождает человека от некоторых обязанностей. Например, женщина из клана Смерти убеждена, что климакс принесет ей избавление и исцеление: тогда исчезнут все сексуальные влечения, сменившись меланхолией. Этот печальный миф о том, что климакс способен спасти женщину, на языке сценарных аналитиков называется «Деревянный яичник». Для мужчин, которые верят в миф о мужском климаксе, аналогичный термин – «Деревянные яички».
Любой сценарий основан на одной из таких иллюзий, и печальная, но неизбежная задача каждого сценарного аналитика – развеять эту иллюзию как можно быстрее и безболезненнее. Значение иллюзий для трансакционного анализа в том, что они служат причиной, поводом для сбережения купонов. Люди, ожидающие Санта-Клауса, сберегают либо комплименты, чтобы показать, какие они хорошие, либо «мучения», чтобы показать, как они страдают, и тем самым вызвать его сочувствие; те же, которые ожидают Смерти, сберегают купоны вины или сознания тщетности всего земного, чтобы показать, что они достойны Смерти и встретят ее с благодарностью. Но и Санта-Клаусу, и Смерти могут предлагать любые купоны в надежде совершить сделку повыгоднее.
Таким образом, иллюзию можно уподобить магазину, в котором отоваривают купоны, а такие магазины бывают двух типов, с разными правилами. Сделав много добрых дел или накопив достаточно страданий, человек может собрать достаточно золотых и коричневых купонов, чтобы получить в магазине Санта-Клауса подарок. Набрав достаточно купонов вины и тщетных усилий, он может получить подарок в магазине Смерти. На самом деле у Санта-Клауса и Смерти нет своих магазинов. Скорее они напоминают бродячих торговцев. Человеку приходится ждать, когда придут Санта-Клаус или Смерть, и он не знает, когда это произойдет. Вот и приходится ему запасать купоны и всегда держать их наготове, потому что, если он пропустит случай, когда мимо будут проходить Санта или Смерть, неизвестно, когда представится еще такой случай. Если он сберегает положительные чувства, он всегда должен мыслить позитивно, потому что стоит расслабиться хоть ненадолго, это может совпасть с приходом Санта-Клауса. Аналогично, если он припасает страдания, он не должен рисковать и выглядеть счастливым, чтобы Смерть не застала его врасплох и он не утратил своего шанса.
Иллюзии – это те самые «если только…» и «когда-нибудь…», на которых большинство людей строят свое существование. В некоторых странах только правительственные лотереи дают рядовому обывателю шанс осуществить свои мечты, и тысячи людей проводят жизнь, день за днем, в ожидании, когда выиграют их номера. Правда, тут Санта-Клауса действительно можно дождаться: при каждом розыгрыше выпадает чей-то номер, и мечта этого человека осуществляется. Но, как ни странно, в большинстве случаев это не приносит счастья, и многие пропускают свой выигрыш сквозь пальцы и возвращаются к прежнему состоянию. Так происходит потому, что вся система иллюзий основана на волшебстве: награда не только должна достаться волшебным образом, она сама по себе должна быть волшебной. Каждый ребенок знает, что подлинный Санта-Клаус придет к нему через каминную трубу, когда он спит, и оставит красную машинку или золотой апельсин. Но это будет не обычная машинка и не обычный апельсин; они будут волшебными, осыпанными алмазами и рубинами. Когда ребенок обнаруживает, что машинка и апельсин обыкновенные, как у всех, он разочарован и спрашивает: «И это все?» – к удивлению родителей, которые считали, что дали ему именно то, чего он ждет. Аналогично человек, выигравший в лотерею, обнаруживает, что вещи, которые он покупает на выигрыш, такие же, как у всех; тогда он говорит: «И это все?» – и спускает весь выигрыш. Он скорее готов вернуться к прежнему состоянию и сидеть в ожидании под деревом, чем наслаждаться полученным. Происходит это потому, что иллюзии привлекательнее реальности, и даже самая привлекательная реальность может быть отброшена ради самой маловероятной и непрочной иллюзии.
В сущности, Ребенок никогда не отказывается от иллюзий. Некоторые иллюзии, как указал Фрейд, являются универсальными и, вероятно, возникают в первые месяцы жизни, а может, еще в материнском чреве – в том волшебном мире, куда впоследствии человек может вернуться только с помощью любви, секса и наркотиков (а некоторые, наиболее злобные люди – с помощью массовых убийств). Фрейд назвал три этих первых и сильнейших иллюзии: «Я бессмертен, всемогущ и непобедим». Конечно, эти первичные иллюзии не выдерживают столкновения с реальной жизнью: с отцом, матерью, временем, тяготением, неизвестными и пугающими зрелищами и звуками, с ощущениями голода, страха и боли. Но они заменяются условными иллюзиями, которые оказывают огромное влияние на формирование сценария. Эти иллюзии принимают форму «если только»: «Если только я буду вести себя хорошо, придет Санта-Клаус».
Все родители одинаковы в отношении этих иллюзий. Если ребенок верит, что они волшебники, то отчасти потому, что они сами в это верят. Нет ни одного реального или воображаемого родителя, который не внушал бы своему отпрыску: «Если будешь делать то, что я говорю, все будет в порядке». А ведь для ребенка это означает: «Если я буду поступать, как мне сказали, я защищен волшебством и все мои мечты осуществятся». Он верит в это так крепко, что почти невозможно поколебать эту веру. Если что-то не получается, то не потому, что волшебство исчезло, а потому, что он нарушил правила. И если он нарушает родительские директивы или отказывается от них, это совсем не означает, что он утратил свои иллюзии. Это может означать только, что он не может выдержать их требований. Отсюда зависть и насмешки, с которыми некоторые люди относятся к тем, кто следует правилам. Внутренний Ребенок по-прежнему верит в Санта-Клауса, но мятежники говорят: «Я могу получить все это от него оптом», а те, кто все считает тщетным, утверждают: «Зелен виноград…». Но, став взрослыми, некоторые могут все же избавиться от иллюзий и делают это без зависти и насмешки над теми, кто не сумел.
В лучшем случае родительское предписание гласит: «Поступай правильно, и ничего с тобой не случится!» – лозунг, лежащий в основе всех этических систем, известных человечеству на протяжении его письменной истории. В худшем случае в нем говорится: «Мир станет лучше, если ты убьешь определенных людей и таким образом станешь бессмертным, всемогущим и непобедимым». Как ни странно, но с точки зрения Ребенка, оба эти лозунга – лозунги любви, потому что оба основаны на одном и том же обещании Родителя: «Если будешь поступать, как я велю, я буду любить и защищать тебя, а без меня ты ничто». Особенно ясно это видно, когда обещание дано в письменной форме. В первом случае любить и защищать тебя будет бог, так записано в Библии, а во втором – Гитлер, так записано в «Майн Кампф». Гитлер пообещал тысячелетний рейх, что с точки зрения обычного человека равноценно бессмертию, и его последователи действительно стали всемогущими и непобедимыми относительно поляков, цыган, евреев, художников, музыкантов, писателей и политиков, которых заключали в лагеря уничтожения. Но едва они этого добились, вмешалась суровая реальность в виде пехоты, артиллерии и поддержки с воздуха, и миллионы последователей Гитлера снова стали смертными, бессильными и побежденными.
Требуется огромная сила, чтобы разрушить эту первичную иллюзию, и происходит такое обычно во время войн. Когда Николай Ростов идет в первый бой, он восклицает: «Почему они стреляют в меня? Ведь меня все любят (= Я неуязвим)». Что полностью отвечает детской иллюзии: «Если я буду поступать, как велят мама и папа, со мной ничего не случится». Наиболее страшный пример того, как разрушается эта иллюзия под действием непреодолимой силы, представляет известная фотография, на которой девятилетний польский мальчик стоит на улице, одинокий и беззащитный, несмотря на многочисленных зрителей, выстроившихся на тротуаре, а над ним возвышается эсэсовец. Выражение лица мальчика ясно говорит: «Но ведь мама сказала, что если я буду хорошим мальчиком, все будет хорошо». Самый сильный психологический удар, который не всякий может выдержать, – это доказательство, что добрая мама его обманула, и именно в этом страшная пытка, которую испытывает мальчик, стоящий перед немецким солдатом.
Терапевт иногда вынужден совершать нечто подобное; но это не пытка, а хирургическая операция. Чтобы пациенту стало лучше, иллюзии, на которых основана вся его жизнь, нужно развеять, чтобы он смог жить в реальном сегодняшнем мире, а не в его мире «если только» или «когда-нибудь». Это самая болезненная операция, какую приходится проводить сценарному аналитику: доказать пациенту, что в конечном счете никакого Санта-Клауса не существует. Но тщательная подготовка позволит смягчить удар, и в конечном счете пациент может простить терапевта.
Одна из любимейших иллюзий детства рушится, когда ребенок узнаёт, откуда берутся дети. Чтобы сохранить по крайней мере чистоту собственных родителей, он вынужден вносить ограничения: «Другие ладно, но мои мама и папа этого не делали». Трудно терапевту не казаться грубым и циничным, когда он отвечает пациенту: «Ты ведь не мог родиться у девственницы, значит, по крайней мере раз они это делали». А если у пациента есть братья и сестры, значит, делали неоднократно. Это все равно что сказать ему: «Твоя мать предала тебя». Ни один человек не может такого сказать о своей матери, если только ему специально не заплатили. Иногда у него противоположная задача: восстановить до какой-то степени внешнее приличие, уничтоженное самой матерью или какими-то внешними обстоятельствами. Но для миллионов детей, живущих в нищенских условиях, такая иллюзия – недостижимая роскошь.
Вера в Санта-Клауса и в девственность матери может считаться нормальной, потому что ее усваивают с готовностью и она дает духовную опору идеалистам и слабым духом. С другой стороны, некоторые люди потому и приходят в замешательство, что у них есть свои, особенные иллюзии. Эти иллюзии имеют очень широкий разброс: от «Если будешь ежедневно опорожнять кишечник, будешь здоров и счастлив» до «Если заболеешь сам, отведешь смерть от отца. Если же он умрет, то потому, что ты заболел недостаточно тяжело». Существуют также личные контракты с богом, контракты, по поводу которых никто с богом не консультировался и которые он не подписывал; он вообще-то отказался бы их подписать: «Если я принесу в жертву своих детей, моя мать выздоровеет» – самый распространенный пример. Или еще: «Бог пошлет мне чудо, если я не буду испытывать оргазм». Как уже отмечалось, подобная иллюзия была распространена у парижских проституток: «Сколько бы мужчин у меня ни было, сколько бы их я ни заразила, я могу пойти на небо, если все это делала только как работу и не получала при этом наслаждения».
Таким образом, в раннем детстве иллюзии воспринимаются в своей наиболее романтической форме. Позже они проверяются реальностью, и от части их ребенок неохотно отказывается, оставляя только тайную сердцевину, которая составляет основу его жизни. Только самые мужественные могут прямо смотреть в лицо жизни, обходясь совершенно без иллюзий. Одна из тех иллюзий, с которыми расстаются особенно тяжело, даже в зрелом возрасте, это иллюзия независимости или самоопределения.
Это показано на рис. 10. Область подлинной независимости, представляющей действия рационального Взрослого, свободного от предубеждений и предрассудков Родителя и смешения желаемого с реальным, свойственного Ребенку, обозначена как В1. В этой области личность действительно свободна, что позволяет Взрослому принимать решения на основе собранных знаний и наблюдений. Этот аспект проявляется в профессиональной деятельности, когда механик или хирург использует здравый смысл, основанный на образовании, наблюдениях и опыте. Область Р распознается индивидуумом как область влияния Родителя: это идеи и предпочтения, усвоенные от родителей относительно пищи, одежды, манер и религии, например. Это мы можем назвать «воспитанием». В области, обозначенной Ре, сосредоточены усвоенные в детстве желания и вкусы, то, что исходит от Ребенка индивидуума. Пока он распознает и разделяет эти три области, он независим: знает, что значит быть взрослым и практичным, знает, что приходит от остальных сфер Я и когда он поступает, руководствуясь не рациональным мышлением, а желаниями и порывами своего детства.

Рис. 10, Рис. 11. Степень независимости B2/B1
Области, обозначенные «обманы» и «иллюзии», – это те сферы, относительно которых индивидуум ошибается. Обманы – это то, что он считает собственными идеями, основанными на наблюдениях и суждениях, тогда как на самом деле они навязаны ему родителями, и которые настолько срослись с ним, что он считает их частью своей реальной сути. Иллюзии аналогично – это идеи, приходящие от его Ребенка, но он считает их исходящими от Взрослого и пытается использовать как рациональные. Обманы и иллюзии можно назвать «загрязнением». Иллюзия независимости, следовательно, заключается в ошибочной мысли, будто вся область В1 на рис. 10 не загрязнена, независима и принадлежит Взрослому, тогда как на самом деле она включает большие сферы, принадлежащие Родителю и Ребенку. Подлинная независимость проявляется в признании того, что в сфере Взрослого есть ограничения (рис. 11), а заштрихованные участки принадлежат другим состояниям Я.
В сущности, рисунки 10 и 11 дают нам возможность количественного определения независимости. Область В на рис. 11, деленная на область В на рис. 10, может быть названа «степенью независимости». Там, где В-10 велика, а В-11 мала, мало независимости и много иллюзий. Если В-10 мала (хотя она всегда больше В-11), а В-11 велика (хотя она всегда меньше В-10), тогда иллюзий меньше, а независимости больше.
Д. ИгрыВ раннем детстве ребенок простодушен и занимает первую позицию: я+ – ты+. Но такое состояние быстро проходит, и ребенок обнаруживает, что его я+ не является неоспоримым прирожденным правом, но до некоторой степени зависит от его поведения, в особенности от его реакций на мать. Когда он учится вести себя за столом, то может обнаружить, что его ощущение безупречного я+ мать принимает с определенными ограничениями, и это открытие приносит боль. Ребенок отвечает тем, что ставит под сомнение ты+ матери, хотя, когда с едой покончено, они могут поцеловаться и помириться. Но уже заложена основа для будущих игр, которые расцветают в период приучения к туалету, где он инициатор и распорядитель. Когда наступает время еды, ребенок голоден и чего-то хочет от матери; а вот в туалете и в ванной комнате уже мать чего-то хочет от него. За столом он должен отвечать ей соответственно, чтобы сохранить свое я+; теперь же она должна вести себя соответствующим образом, чтобы у нее было ты+. В редких случаях они могут при этом оба сохранить искренность и простодушие, но обычно мать начинает обманывать ребенка с помощью маленьких хитростей, а у него появляются свои уловки.
К поступлению в школу ребенок уже знает несколько мягких вариантов игр и, возможно, один-два жестких; в худшем случае он уже одержим игрой. Все зависит от того, насколько хитры или жестоки его родители. Чем больше они хитрят, тем более хитрым и неискренним будет и он; чем более они жестоки, тем более жестоко играет и ребенок, чтобы выжить. Клиническая практика показывает, что лучший способ сделать ребенка хитрым и жестоким – делать ему как можно чаще вопреки его желанию клизму, а чтобы разрушить его личность, нужно жестоко бить его, чтобы он кричал от боли.
В начальной школе у ребенка появляется возможность проверить игры, которым он научился дома, на других учениках и учителях. Одни игры он ужесточает, другие смягчает, от некоторых отказывается и усваивает от одноклассников новые. У него появляется также возможность испытать свои убеждения и уточнить свою позицию. Если он убежден, что у него я+, учительница может подкрепить это убеждение или опровергнуть его; если он считает, что у него я —, она либо подтверждает это (чего он и ожидал), либо пытается разубедить его (отчего он начинает испытывать беспокойство). Если ребенок считает, что все в мире они+, он включит в это ощущение и учительницу, если только она не докажет ему обратное. Если же он считает, что они —, то постарается доказать это, выводя учительницу из себя.
Существует множество особых ситуаций, которых не могут предвидеть ни ребенок, ни учительница и с которыми они не смогут справиться. Учительница может играть в игру, которая называется «Аргентина». «Что самое интересное в Аргентине?» – спрашивает она. «Пампасы», – отвечает кто-нибудь. «Н-е-е-е-т». «Патагония», – говорят другие. «Н-е-е-е-т». «Аконкагуа», – предлагает кто-то из учеников. «Н-е-е-е-т». К этому времени все уже понимают, в чем дело. Бессмысленно припоминать то, что они узнали из учебников. Они должны угадать, что она задумала; она загоняет их в угол, и они сдаются. «Никто больше не хочет отвечать?» – спрашивает она притворно мягким голосом. «Гаучо!» – с торжеством провозглашает она, заставляя одновременно всех учеников чувствовать себя дураками. Они ничего не могут с ней поделать, однако даже в глазах самого доброжелательного ученика ей трудно сохранить свое ты+. С другой стороны, даже самой опытной учительнице трудно выглядеть ты+ в глазах ученика, которого дома ежедневно подвергают насилию клизмой. Он может отказаться отвечать, а если она пытается его заставить, то точно так же подвергает насилию его сознание и тем самым доказывает, что она ничуть не лучше его родителей. Но она ничем не может ему помочь.
В каждой позиции есть свой набор игр. Играя в них с учительницей, ученик видит, какие она предпочитает, и совершенствует свое мастерство. Во второй позиции (в позиции высокомерия я+, ты —) он может поиграть в «Теперь я до тебя добрался», в третьей (позиция депрессии я —, ты+) – «Ударь меня», в четвертой (позиция безнадежности я —, ты —) – «Пусть учительница пожалеет». Он может отказаться от игры, если учительница ее отклоняет или имеет на нее антитезис. Но тогда ученик испробует эту игру на одноклассниках.
Во многих отношениях труднее всего иметь дело с четвертой позицией. Но если учительница держится спокойно, «поглаживает» его рассудительными словами, не прибегает к упрекам или извинениям, она может ослабить роковую власть безнадежности и помочь преодолеть часть пути к солнечному свету я+.
Таким образом, школьный возраст – это период, который определяет, какие игры из домашнего репертуара станут у человека любимыми и сохранятся на всю жизнь, а от каких он откажется. Самый главный вопрос здесь: «Ладили ли вы со своей учительницей в начальной школе?» И второй: «Какими были ваши отношения с другими детьми в начальной школе?»