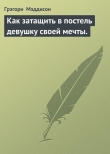Текст книги "Анатомия человеческой деструктивности"
Автор книги: Эрих Зелигманн Фромм
Жанры:
Психология
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 47 страниц) [доступный отрывок для чтения: 17 страниц]
Чудо материнства – это такое состояние, когда женщину заполняет чувство причастности ко всему человечеству, когда точкой отсчета становится развитие всех добродетелей и формирование благородной стороны бытия, когда посреди мира насилия и бед начинает действовать божественный принцип любви, мира и единения. В заботе о своем еще не родившемся ребенке женщина (раньше, чем мужчина) научается направлять свою любовь и заботу на другое существо (за пределами собственного Я), а все свои способности и разум обращать на сохранение и украшение чужого бытия. Отсюда берут свое начало все радости, все блага жизни, вся преданность и теплота и всякое попечение и жалость… Но материнская любовь не ограничивается своим внутренним объектом, она становится всеобщей и охватывает все более широкий круг… Отцовскому принципу ограничения противостоит материнский принцип всеобщности; материнское чувство не знает границ, как не знает их сама природа. В материнстве берет свои истоки и чувство братства всех людей, сознание и признание которого исчезли с образованием патриархата.
Семья, построенная на принципах отцовского права, ориентируется на индивидуальный организм. В семье же, опирающейся на материнское право, превалируют общие интересы, сопереживание, все то, что отличает духовную жизнь от материальной и без чего невозможно никакое развитие. Мать земли Деметра предназначает каждой женщине вечно рожать детей – родных братьев и сестер, чтобы родина всегда была страной братьев и сестер, – и так до тех пор, пока с образованием патриархата не разложится единство людей и нерасчлененное будет преодолено принципом членения.
В государствах с материнским «правлением» принцип всеобщности проявляется весьма многогранно. На него опирается принцип всеобщего равенства и свободы (который стал основой законотворчества многих народов); на нем строятся правила филоксении (гостеприимства) и решительный отказ от стесняющих рамок любого рода…; этот же принцип формирует традицию вербального выражения симпатий (хвалебные песни родичей, одобрение и поощрение), которая, не зная границ, равномерно охватывает не только родственников, но и весь народ. В государствах с «женской» властью, как правило, нет места раздвоению личности, в них однозначно проявляется стремление к миру, отрицательное отношение к конфликтам… Не менее характерно, что нанесение телесного ущерба соплеменнику, любому животному жестоко каралось… Нет сомнения, что черты мягкой человечности, которые мы видим на лицах египетских статуй, глубоко проникли во все обычаи и нормы жизни матриократического мира.[150]150
См. об этом у Фромма работу «Социально-психологическое значение теории о материнском праве».
[Закрыть]
Описание образа жизни первобытных охотников и земледельцев (их способа производства, социальной организации и т. д.) представляет интерес в плане понимания психологии людей. Существует целый ряд психологических характеристик, которые занимают важное место в человеческой натуре и которые, по общему мнению, уходят корнями в доисторическую эпоху.
Итак, у первобытных охотников и земледельцев не было ни малейшей нужды накапливать имущество и завидовать тем, кто «имеет больше добра», ибо они не знали частной собственности, а имущественные различия были столь незначительными, что вряд ли могли способствовать формированию чувства зависти. Зато потребность в сотрудничестве, мирном совместном труде диктовалась самими условиями жизни. Не было ни малейшей основы, на которой могло бы развиться желание использовать чужой труд. Абсурдной кажется самая мысль, что в обществе, где отсутствует экономическая и социальная почва для эксплуатации, кто-то может стремиться использовать в своих целях физические и духовные силы другого человека.
Сомнительно, чтобы в таком обществе могла развиться потребность в господстве. Одной из главных черт, фундаментально отличающих первобытные племенные союзы (и, вероятно, также доисторических охотников, отстоящих от нас на 50 тысяч лет) от цивилизованных обществ, является как раз то, что там жизнь людей не определялась отношениями власти (господства и подчинения). Человеческие связи возникали на основе взаимодействия. И если бы там появился человек, обуреваемый жаждой повелевать, он не добился бы никакого успеха в социальной жизни. Даже для развития чувства жадности в ту эпоху не было никаких оснований: ведь производство и потребление оставались всегда на определенном уровне.[151]151
Попутно хотелось бы напомнить, что во многих высокоразвитых обществах (например, в феодальном средневековье) члены одной и той же профессиональной группы (например, ремесленники) хотели только удержаться на общем уровне жизни группы, а вовсе не стремились к прибыли, даже если и сознавали, что вышестоящие классы живут в большей роскоши. Им нравилась их жизнь, она их удовлетворяла, и они не ставили цели увеличить свое потребление. То же самое можно сказать и о крестьянах. Причиной крестьянских восстаний XVI в. было не то, что крестьяне стремились к увеличению потребления, а то, что они хотели жить в условиях, не унижающих их человеческое достоинство.
[Закрыть] Можно ли сказать, что факты о жизни первобытных охотников и земледельцев бесспорно доказывают, что в те времена еще полностью отсутствовали такие страсти, как жадность и зависть? Что желание нажиться за чужой счет – это исключительный продукт цивилизации? Я считаю, что для такого обобщенного вывода у нас нет достаточно доказательных эмпирических данных. Да и на уровне теоретических рассуждений вряд ли такое заключение было бы корректным, ибо даже самые благоприятные условия социальной жизни не исключают полностью возможность проявления вышеназванных дурных черт характера на индивидуальном уровне. Однако существует очень большая разница между культурами: в одних системах общественные структуры сами по себе способствуют формированию в людях зависти, жадности и желания жить за чужой счет, а в других эти черты встречают осуждение. В первых системах эти черты становятся частью структуры «социального характера»,[152]152
Социальный характер – термин, введенный Фроммом для обозначения системы черт личности, наиболее желательных для данного общества и потому поощряемых им. Будучи социально-психологическим образованием, социальный характер выполняет двоякую функцию: во-первых, он оказывается связующим звеном между экономическим базисом и идеологической надстройкой; во-вторых, он представляет собой социально-психологический механизм включения индивида в общество и превращения его в агента этого общества. Носителями социального характера выступают родители ребенка, через которых общество воздействует на него. Концепция социального характера основательно проработана Фроммом в книге «Здоровое общество», но встречается и в других его сочинениях и является вкладом Фромма в социальную психологию.
[Закрыть] это типичный синдром, встречающийся у большинства населения, а в другом типе общества речь идет об индивидуальных отклонениях от нормы, которые вряд ли имеют шанс на влияние. Вероятность этой гипотезы возрастает в результате анализа последней стадии истории человечества, период развития городов дает возможность иллюстрировать возникновение таких человеческих страстей, которые вряд ли можно встретить в цивилизациях нового времени, и потому многие делают вывод о том, что эти страсти являются свойством человеческой натуры.
Термин «городская революция» принадлежит Чайлду, а затем к нему обращается также и Мэмфорд, который его критикует.
[Закрыть]
Новый тип общества сложился в 3–4 тысячелетии до н. э.; его блистательную характеристику мы находим у Мэмфорда, я хочу ее процитировать:
На базе комплекса раннего неолита возник новый тип социальной организации. Она больше не была разделена на маленькие единицы по стране, а представляла собой некую целостность; эта организация не была более «демократической», т. е. она опиралась не на доверительные отношения соседей, общие обычаи и взаимопонимание. Это была авторитарная система, с центральной властью и подчинением большинства правящему меньшинству. Это общество не довольствовалось некоторой ограниченной территорией, а энергично осуществляло «передел границ» с целью распространения своего господства на другие земли, захвата источников сырья, порабощения людей и получения дани. Эта новая культура не служила делу продолжения жизни, а лишь способствовала внедрению коллективных форм труда. Правители этого общества, применяя новые методы и средства принуждения, около 3 тыс. до н. э. создали невиданную военную и индустриальную машину власти, организованность которой не имеет себе равных по сей день.
В течение сравнительно короткого времени (по историческим меркам) человек научился использовать энергию ветра и силу рычага. Он придумал плут и колесо, построил парусник и проник в секреты химических процессов; он изучил физические свойства металлов, научился плавить медь и начал разработку солнечного календаря. Так была подготовлена почва для искусства письма, а также создания системы мер и весов. «Ни один период истории – вплоть до Галилео Галилея – не дал миру такое количество открытий и такое гигантское приращение знаний».
Но и социальные перемены были не менее революционными. Маленькие деревушки свободных крестьян разрослись в многонаселенные города, которые развивались за счет обрабатывающей промышленности и внешней торговли. Эти новые города и получили новую форму организации, которая так и называлась: города-государства. Человек в буквальном смысле слова поднимал целину.
Большие вавилонские города возводились на специальных настилах из тростника, который укладывался крест-накрест на илистую почву и утрамбовывался, создавая прочный грунт. Строились каналы для орошения полей, и осушались болота, создавались искусственные озера и плотины для защиты от наводнений. Руками тысяч людей была создана система плодородного земледелия – «капитал в форме человеческого труда, вложенного в плодородную почву».
Следствием этого процесса стала необходимость включения дополнительной рабочей силы, а это повлекло за собой необходимость обрабатывать больше земли, чтобы прокормить всех этих ремесленников, рабочих и торговцев. Все они были как-то приписаны к общине земледельцев, а управление, контроль и защита обеспечивались элитарной группой. Но это означало, что теперь необходимо было запасать гораздо больше продуктов, чем в селениях эпохи раннего неолита. Избыточные продукты необязательно было хранить в форме пищевых запасов на черный день или на случай прироста населения. Можно было обращать эти продукты в капитал, который служил делу расширения производства. Чайлд обращает внимание еще на одну характерную черту этой системы – огромную власть общества над индивидами. Неугодному члену общины создавались невыносимые условия жизни: ему могли даже отказать в пользовании водой (перекрыть канал, орошающий его поле, и т. д.). Принудительная система мер стала основой власти королей, священнослужителей и всей элитарной верхушки с того момента, как ей удалось занять положение «выразителей общественной воли» (на языке идеологии стать «представителями народа»).
Новые формы производства привели к радикальным переменам в жизни человечества. Продукты и предметы, окружающие человека, теперь не ограничивались только тем, что он произвел и добыл собственным трудом. Правда, и раньше, еще в неолитическое время, человеку удавалось иногда произвести чуть больше продуктов, чем было необходимо. Но это лишь давало ему немного больше уверенности в завтрашнем дне. Однако увеличение производства в больших масштабах могло быть использовано в совершенно новых целях. Можно было накормить людей, которые сами не производили продуктов питания, а служили в войске, или занимались осушением болота или же были заняты на строительствах зданий, дворцов и пирамид. Это стало, естественно, возможно после того, как техника и разделение труда достигли достаточно высокого уровня. В этот момент произошел невероятный скачок в производительности труда. Чем лучше работала ирригационная система (осушение болот и орошение полей), тем выше был урожай, тем больше создавалось готовой продукции (избыточный продукт). Эти новые возможности привели к самым фундаментальным переменам в истории человечества.
Итак, попробуем более тщательно проследить экономические, социальные, религиозные и психологические последствия этого процесса. Основополагающими экономическими факторами нового общества были – как мы отметили выше – усилившееся разделение труда, превращение прибыли в капитал, а также потребность в централизованном учете готовой продукции. Первым следствием стало возникновение классов. Привилегированные классы, сосредоточившие в своих руках руководство и организацию, получали значительно большую часть продукции; таким образом, им удавалось обеспечить себе такой уровень жизни, какой был для большинства населения недоступен. Ниже стояли классы крестьян и ремесленников. Еще ниже находились рабы и военнопленные.
Привилегированные классы имели свою иерархическую пирамиду, на вершине которой поначалу располагался постоянный вождь, а затем его заменили титулованным наместником Бога на земле – королем или царем.
Следующим следствием нового типа производства надо считать такой феномен, как захватничество, которое было весьма важной предпосылкой для накопления общинного капитала, столь необходимого для проведения городской революции. Но была еще более важная причина для институционализации войн – противоречие между хозяйственной системой, интересы которой требовали единства и централизации, и политической и династической раздробленностью, которая шла вразрез с потребностями экономики. Таким образом, институт войн можно считать открытием эпохи 3 тыс. до н. э. Ровесниками этого открытия были такие институты, как королевская власть и бюрократия. Тогда, как и сегодня, в основе войн не могли лежать никакие психологические факторы, в том числе и такой фактор, как человеческая агрессивность. Абстрагируясь от стремления королей и их челяди к власти и славе, следует признать, что войны были вызваны объективными причинами, которые делали необходимым сам этот институт, а уж деструктивность и жестокость выступали вторичными факторами, которые война только усиливала.[155]155
Чайлд считает, что когда возникла потребность в расширении земель, то завоеватели либо сгоняли аборигенов с насиженных мест, либо подчиняли их и заставляли работать на себя. Отсюда делается предположение, что в какой-то форме война имела место еще до городской революции. Чайлд признает, что эта гипотеза не имеет археологических доказательств. И все же Чайлд относит войну к эпохе, предшествующей городской революция (после 6 тыс. до н. э.), но считает, что тогда их масштаб был незначительным, по сравнению с кровавыми захватническими войнами эпохи городов-государств.
[Закрыть]
Социальные и политические перемены жизни сопровождались глубочайшей трансформацией роли женщины в обществе и фигуры матери в религии. Отныне плодородие почвы перестало быть главным источником жизни и всякого творчества; это место теперь занял разум, абстрактное мышление, сделавшие возможными разнообразные изобретения, технические открытия, да и само государство с его законами и нормами жизни. Не материнское лоно, а разумное мышление (дух) стало символом творческого начала – и тем самым господствующее положение в обществе перешло к мужчине.
В поэтической форме эта трансформация выразилась в вавилонском гимне о сотворении мира. Этот гимн рассказывает о победоносном восстании богов (мужчин) против «Великой Матери» Тиамет, Правительницы Вселенной. Мужчины объединяются, вступив в сговор, и выбирают себе в лидеры Мардука. Они затевают жестокую войну, в которой совместными усилиями одерживают победу, а тело Великой Матери они расчленяют и создают из него Небо и Землю. С тех пор Мардук властвует как Верховный Бог.
Но прежде чем выбрать его в вожди, его подвергают испытанию, которое современному человеку может показаться либо незначительным, либо загадочным. Однако в нем-то и кроется ключ к расшифровке мифа.
Тогда они в середине круга
Какую-то одежду положили —
Накидку или плащ…
И своему избраннику, Мардуку, сказали:
О, Господин, для нас ты выше всех Богов!
Ты можешь словом лишь одним предмет разрушить
И словом же – заставить возродиться вновь!
Так пусть твои уста – вот эту вещь разрушат,
А коль прикажешь – вещь должна быть целой вновь!
Он приказал – и ткань вдруг на глазах распалась;
Он снова приказал – и вещь восстановилась вновь.
И, увидав, какою силой слова Мардука обладают.
Возрадовались Боги, возликовали
И объявили Мардука своим царем.
Смысл этого испытания состоит в том, чтобы показать, что мужчина преодолевает свою неспособность к естественному творчеству (которой обладает только женщина-мать и мать-земля), изобретая иной вид творчества, а именно сотворение с помощью слова (или мысли). Мардук, который этим способом сумел сотворить нечто, преодолел естественное превосходство Матери и смог занять ее место.
Конец вавилонского гимна является началом библейской истории: Бог-отец создает мир с помощью Слова.
Одной из важнейших черт общественной жизни города является опора на патриархальное (мужское) господство. Сущностным признаком господства является принцип контроля – контроль над природой, над рабами, над женщинами и детьми. Новый человек патриархального общества в буквальном смысле слова «делает» землю. Его технические средства не только представляют собой некую разновидность естественных (природных) процессов, но и означают овладение природой и контроль человека над всеми силами природы и, наконец, производство таких продуктов, которые в природных условиях не встречаются. Исами люди также оказались жертвой контроля, они попали под власть организаторов производства, которые превратились в лидеров и власть имущих.
Для достижения целей нового общества (строя) все и вся должно быть управляемо – и человек, и природа – и каждый имеет отношение к власти: одни ее осуществляют, другие – боятся. Чтобы управление было эффективным, люди должны были научиться послушанию (подчиняться). А чтобы подчиняться, они должны были поверить в превосходство своих правителей, каким бы оно ни было – физическим или магическим. Если в неолитической деревне и у первобытных охотников лидеры направляли «массу» словом и делом, советом и примером, а люди добровольно принимали это руководство, то можно говорить, что доисторический авторитет относится к разряду «рациональных» авторитетов, опирающихся на компетентность. Новая система (патриархат) с самого начала была эксплуататорской, а власть опиралась исключительно на силу, страх и подчинение. Это был «иррациональный авторитет».
Новый принцип жизни города отлично описан у Льюиса Мэмфорда: «Сущность цивилизации проявляется в механизмах власти. В городе существовали десятки способов для нападения, развязывания борьбы, завоевания и порабощения». Мэмфорд подчеркивает, что новые городские методы отличались «жесткостью, строгостью и даже садизмом», а египетские правители (как и месопотамские цари) оставили после себя памятники, где «хвастливо сообщали о собственноручной расправе с важными пленными…» Я и сам в своей психотерапевтической практике имел возможность убедиться, что садизм, по сути дела, коренится в страстном желании неограниченной власти над людьми и вещами. Идея Мэмфорда о садистском характере этой социальной системы подтвердила мое собственное воззрение.
В новой городской цивилизации наблюдается еще одна тенденция, которая, по-видимому, как-то связана с садизмом, – это страсть к разрушению жизни и развивающаяся привязанность ко всему мертвому (некрофилия). Мэмфорд цитирует Патрика Геддеса, у которого сказано, что каждая историческая цивилизация «с живым городским ядром, полисом» начинается «массовым захоронением, полным пыли и костей, в некрополе или на кладбище», а заканчивается «закопченными руинами, разрушенными строениями, пустыми мастерскими и кучами бессмысленного мусора, в то время как население было истреблено или угнано в рабство, – вот таковы следы любой цивилизации». И действительно, духом беспощадной нечеловеческой разрушительности пропитана история арабских завоеваний и в не меньшей мере – история вавилонских войн. Вот одна иллюстрация – оставленная Сеннахерибом запись о полном разрушении Вавилона:
Город и постройки я опустошил, разрушил до основания и сжег. Стены и ограды, дворцовые башни, храмы и статуи богов – все было разрушено и сброшено в воды канала Арахту. Через центр города я приказал прорыть канал, наполнил его водой и разрушил город до основания. Это было полнейшее разрушение, сравнимое разве что с мощным наводнением.
История цивилизации от разрушений Карфагена и Иерусалима до разрушения Дрездена, Хиросимы и уничтожения людей, земли и деревьев Вьетнама – это трагический документ садизма и жажды разрушения.
Агрессивность в первобытных культурахДо сих пор мы рассматривали проявление агрессивности в доисторических обществах и у сохранившихся первобытных охотников. А что мы знаем о других, более развитых, но все же еще первобытных культурах?
Сначала кажется, что на этот вопрос ответить нетрудно: достаточно изучить какой-нибудь серьезный научный труд об агрессивности, опирающийся на множество антропологических данных, но тут я столкнулся с невероятным явлением: такого труда не существует. Очевидно, антропологи сочли феномен агрессивности недостаточно важным, чтобы собирать для его изучения эмпирический материал. Есть маленькая брошюра Дерека Фримана, в которой он пытается дать обзор антропологических данных относительно агрессивности, чтобы подкрепить тем самым теорию Фрейда.
И есть небольшая работа антрополога Гельмута, который придерживается противоположной позиции, считая, что в первобытных обществах агрессивность сравнительно невелика.
Поэтому мне пришлось сделать самостоятельный анализ этой проблемы, изучив большое число других работ. Сначала я взял более доступные публикации антропологов, но поскольку собранные в них данные не были ориентированы на проблему агрессивности, то их можно считать в широком смысле слова случайной выборкой.
Я вовсе не претендую на то, что результаты моего анализа о распространении агрессивности в первобытных культурах имеют строгую статистическую валидность (достоверность). Я и не ставил перед собой статистические цели, а просто хотел показать, что неагрессивные общественные системы не так уж редки, как это считает Фриман и другие представители фрейдистского подхода. И кроме того, я полагаю, что агрессивность не следует рассматривать изолированно, что это не отдельно взятая характеристика, а часть совокупности, составная часть некоего целостного синдрома, ибо агрессивность обнаруживается всегда рядом с целым набором вполне определенных признаков системы, таких как строгая иерархичность, лидерство, классовые противоречия и т. д. Другими словами, я считаю агрессивность составной частью целостной характеристики общества, а не отдельной чертой поведения изолированного индивида.[156]156
Здесь я должен высказать слова благодарности в адрес покойного Ральфа Линтона, который в личных беседах и научных дискуссиях многому меня научил. В 1948–1949 гг. в Йельском университете проходил научный семинар по проблеме структуры личности в первобытных обществах. В нем принимал участие также Джордж Мердок, которому я также благодарен за идеи, хотя наши взгляды во многом диаметрально противоположны.
[Закрыть]